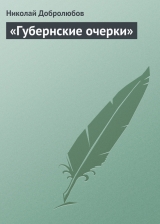
Текст книги "«Губернские очерки»"
Автор книги: Николай Добролюбов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Николай Александрович Добролюбов
«Губернские очерки»
(«Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков. Том третий. М., 1857»)
Прошел с небольшим год с тех пор, как первые «Очерки» г. Щедрина появились в «Русском вестнике» и встречены были восторженным одобрением всей русской публики. До настоящей минуты г. Щедрин не сходит с своей арены и продолжает свою благородную борьбу, не обнаруживая ни малейшего истощения сил. Он печатает рассказ за рассказом, постоянно показывая в них, как велик запас его средств, как неистощим источник его наблюдений. Мало того: к нему постоянно присоединяются новые бойцы, и даже те, которые молчали до сих пор и прятались в толпе беспечных зрителей, – и те, смотря на него и «вящшим жаром возгоря», отважно ринулись на поле бескровной битвы со всемогущим оружием слова. Публика все еще с любопытством следит за зрелищем этих подвигов, а рассказы в щедринском роде прежде всего прочитываются в журналах. Но нельзя не видеть, что теперь нет уже ни в публике, ни в литературе прежнего увлечения, прежней горячности и что многие донашивают теперь сочувствие к общественным вопросам, как старомодное платье. Кто начал читать русские журналы только с нынешнего года и не имеет понятия о том, что было у нас два года тому назад, тот потерял несколько прекраснейших минут жизни. Странно говорить об этом времени как о давно прошедшем; но тем не менее нельзя сомневаться в том, что оно прошло и что не скоро русская литература дождется опять такой же поры. Мы вообще как-то очень скоро и внезапно вырастаем, пресыщаемся, впадаем в разочарование, не успевши даже хорошенько очароваться. Растем мы скоро, истинно по-богатырски, не по дням, а по часам, но, выросши, не знаем, что делать с своим ростом. Нам внезапно делается тесно и душно, потому что в нас образуются всё широкие натуры, а мир-то наш узок и низок, – развернуться негде, выпрямиться во весь рост невозможно. И сидим мы, съежившись и сгорбившись «под бременем познанья и сомненья»{1}1
Цитата из стихотворения Лермонтова «Дума» (1838).
[Закрыть] в совершенном бездействии, пока не расшевелит нас что-нибудь уже слишком чрезвычайное. Один из ученых профессоров наших, разбирая народную русскую литературу, с удивительной прозорливостью сравнил русский народ с Ильей Муромцем, который сидел сиднем тридцать лет и потом вдруг, только выпивши чару пива крепкого от калик перехожиих, ощутил в себе силы богатырские и пошел совершать дивные подвиги. В самом деле, вся наша история отличается какой-то порывистостью: вдруг образовалось у нас государство, вдруг водворилось христианство, скоропостижно перевернули мы вверх дном весь старый быт свой, мгновенно догнали Европу и даже перегнали ее: теперь уж начинаем ее побранивать, стараясь сочинить русское воззрение… Так было в большом, то же происходило и в малом: рванемся мы вдруг к чему-нибудь, да потом и сядем опять, и сидим, точно Илья Муромец, с полным равнодушием ко всему, что делается на белом свете. Два года тому назад нас расшевелила война, заставивши убедиться в могуществе европейского образования и в наших слабостях. Мы как будто после сна очнулись, раскрыли глаза на свой домашний и общественный быт и догадались, что нам кое-чего недостает. Едва эта догадка озарила наш ум, как мы, с редкою добросовестностью и искренностью, принялись раскрывать «наши общественные раны»{2}2
Неточная цитата из статьи Гоголя «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность?» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1846). Гоголь говорит о «ранах и болезнях нашего общества», раскрытых комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума».
[Закрыть]. Теперь многие уже начинают смеяться над этим, и скептики, уверявшие с самого начала, что все это —
теперь злобно торжествуют, иронически поглядывая на взрослых детей, всегда склонных к увлечению и видящих все в розовом свете. Но как хотите, а над ними нечего смеяться: в их увлечении было так много прекрасного, благородного, так много юности и свежести. Любо смотреть было, в самом деле, на общее одушевление: самый робкий, самый угрюмый человек не мог, кажется, не увлечься, видя, как все единодушно и неутомимо хлопотали о том, чтобы раскрыть «наши общественные раны», показать наши недостатки во всех возможных отношениях. Каких тогда вопросов не подняли, до каких закоулков не добрались!.. «От Перми до Тавриды»{4}4
Цитата из оды Пушкина «Клеветникам России» (1831).
[Закрыть] пронесся один громкий энергический возглас: идите все, кто может, спасать Русь от внутреннего зла! И все поднялось, все заговорило – твердо, сильно, разумно. Старые люди стряхнули, по-видимому, свою давнишнюю лень, возникли молодые деятели и с свежими силами принялись за общее дело. Литература как всегда послужила первою выразительницею общественных стремлений, приводя их в ясность и умеряя их силу строгим и обдуманным обсуживанием всех затронутых вопросов. И литература получила, по-видимому, общественное значение: она почти исключительно обратилась к тем вопросам, которыми занято было внимание публики. Публика заговорила о путях сообщения, и в журналах были десятки статей о железных дорогах и других средствах сообщения, с искренним сознанием, что до сих пор мы мало имели хороших дорог и оттого немало потеряли. Поднялся вопрос о тарифе, и тотчас явился ряд статей о свободной торговле и запретительной системе. Обратили внимание на экономические отношения народа, и литература заговорила о состоянии земледельческого класса, о свободном труде и других экономических вопросах, выставляя преимущественно, чего у нас нет и что нужно сделать. Послышались в обществе голоса о важности воспитания и о неудовлетворительности того, что доселе у нас было принято, – и тотчас о воспитании пишутся горькие статьи, предпринимаются педагогические журналы{5}5
В 1857 г. начали выходить «Русский педагогический листок» (под ред. Н. А. Вышнеградского) и «Журнал для воспитания» (под ред. А. А. Чумикова).
[Закрыть], и публика тем большими рукоплесканиями вознаграждает статью, чем более горька правда, в ней высказанная. Поднимается голос против злоупотреблений бюрократии, – и «Губернские очерки» открывают ряд блестящих статей, беспощадно карающих и выводящих на свежую воду все темные проделки мелкого подьячества. Горькие упреки слышались отовсюду, и никто не думал противоречить им. Поэты и прозаики, ученые и дилетанты, теоретики и практики – все бросались самоотверженно в мрачное болото невежества и злоупотреблений с пламенником обличения. В душе их кипела могучая сила, их речи горели огнем вдохновения, сожигая плевелы родной нивы. Восстань, поэт!{6}6
Цитата из «Пророка» Пушкина (1827).
[Закрыть] – ободряли поэты самих себя, размышляя о своем призвании, —
Борьба во имя высшей правды против мелких интересов времени! – восклицали высокообразованные критики. «С первых лет жизни, при самой начальном воспитании, должно приучать к этой борьбе, которая ожидает в нашем обществе каждого порядочного человека!..» – «Наука должна смело вступить в борьбу против невежества и предрассудков», – говорили лучшие из наших ученых{8}8
Добролюбов пересказывает основные положения статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», напечатанной в «Морском сборнике», 1856, № 9.
[Закрыть]. «Мы должны благодарить войну за то, что она открыла нам многие темные стороны нашей жизни, против которых мы дружно должны идти теперь, отстаивая честь родины!..» Эти мощные, благородные, бескорыстные призывы не могли не находить отзыва в сердцах людей, сочувствующих благу отечества, и точно – у многих, сердце билось сильнее от этих вдохновенных звуков. Многие с грустной улыбкой, даже со слезами на глазах выслушивали русскую всенародную исповедь, но потом гордо поднимали голову, давая торжественный обет деятельности честной, неутомимой и безбоязненной. Были и такие, силою обстоятельств и собственной слабостью увлеченные в пошлость жизни, которые с ужасом смотрели на собственное поприще и с горечью сознавались в его гадости. И что имели в виду все эти люди? Что заставляло их с таким увлечением подвергать себя торжественному самообвинению? Ничего особенного. Они просто повторяли слова одного из своих глашатаев:
Раскаянья слеза нам будет в облегченье
И к новым подвигам нас мощно воззовет, —
и добродушно верили, что вслед за словом не замедлит явиться и дело. Самое пустозвонство приняло тогда характер серьезно-обличительный. Пустейший из пустозвонов, г. Надимов, смело кричал со сцены Александрийского театра: «Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнями!» – и публика приходила в неистовый восторг и рукоплескала г. Надимову, как будто бы он в самом деле принялся вырывать зло м корнями…{9}9
Комедия В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856) и ее герой Надимов, «пустейший из пустозвонов», по определению Добролюбова, были высмеяны критиком в статье «Сочинения графа В. А. Соллогуба» («Современник», 1857, № VII) и в стихотворении: «Пора!» («Современник», 1858, № XI). Сатирический намек на комедию Соллогуба находится и в очерке Щедрина «Озорники»: «Один какой-то шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию».
[Закрыть] «Что смеетесь? над собой смеетесь», – вслух припомнил слова Гоголя кто-то из скептиков во время одного из представлений «Чиновника». Но эти слова никого не смутили: на скептика соседи его посмотрели так гордо и прямо, как будто бы хотели ответить ему словами того же комика: «Да, над собой смеемся, потому что слышим благородную русскую нашу породу, потому что слышим приказанье высшее быть лучшими других»{10}10
Слова первого комического актера из «Развязки» Ревизора» Гоголя (1846).
[Закрыть].
Так все оживало, все воодушевлялось желанием идти вперед по пути просвещения и нравственного усовершенствования. Два года тому назад человек сторонний, услышавший эти клики, увидавший это движение, непременно подумал бы, что это пробуждение исполина, который после продолжительного сна расправляет свои члены, приводит в порядок свои мысли и готовится искупить свое долгое бездействие подвигами изумительного величия. И такое предположение было совершенно естественно. Чистые, возвышенные стремления общественных и литературных деятелей казались так мощны, быстры и кипучи, что они должны были идти вперед неудержимо, разрушая все преграды, поставляемые невежестом, смывая все нечистоты, произведенные в русской жизни силою эгоизма, корысти и лени общественной. Сердца бились тогда сильно и радостно, в полном убеждении, что сознание недостатков есть уже половина исправления и что русский человек ничего не любит делать вполовину. Святотатством сочли бы тогда, если бы кто осмелился утверждать, что этот Илья Муромец, столько лет сидевший сиднем на одном месте, поднялся теперь только затем, чтобы толчись на одном месте. Напротив, он должен был безостановочно идти вперед, наслаждаясь жизнью и совершая славные дела. И все ждали этих подвигов, все были в напряженном ожидании чего-то великого, необычайного. Все принимало вид какого-то торжественного приготовления, точно накануне великого праздника:
Отрадно было то время, время всеобщего увлечения и горячности… Как-то открытее была душа каждого ко всему доброму, как-то светлее смотрело все окружающее. Точно теплым дыханьем весны повеяло на мерзлую, окоченелую землю, и всякое живое существо с радостью принялось вдыхать в себя весенний воздух, всякая грудь дышала широко, и всякая речь понеслась звучно и плавно, точно река, освобожденная ото льда. Славное было время! И как недавно было оно!
Но прошло два года, и хотя ничего особенно важного не случилось в эти годы, но общественные стремления представляются теперь далеко уже не в том виде, как прежде. Много разочарований испытали уже мы на новой дороге, многие надежды оказались пустыми мечтами, много видели мы явлений, способных сбить с толку самого простодушного из оптимистов, вообще отличающихся простодушием. И нет прежнего увлечения, прежнего задушевно-гордого тона…
Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотим сказать, чтоб общественное внимание вовсе забыло о тех вопросах, которые недавно возбуждены были с такой энергией. Мы говорим только, что в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г. Щедрина, «не внутренностями, а кожей».
Литература продолжает свое дело добросовестно: служение делу общественного совершенствования она считает своим священнейшим назначением. Она уже навсегда теперь вышла из пеленок, и что бы ни случилось, не получат в ней теперь права гражданства ни швейцарские поздравления с высокоторжественным праздником, ни лакейские оды на пожалование такого-то господина таким-то чином, ни трактирные дифирамбы в честь какого-нибудь праздника с фейерверком и иллюминацией. Литература деятельно продолжает свои обличения, свои вызовы на все хорошее и благородное; она по-прежнему твердит обществу о честной и полезной деятельности, она все поет ту же песню:
Но уже нет прежних восторженных отзывов со стороны публики. Она уже утомилась, она уже едва ли не считает свое дело конченным, едва ли не, считает себя достойною венка за участие, оказанное общественным вопросам и новым деятелям литературного обличения. Только по временам вспыхивает теперь кое-где, неровно и порывисто, огонь одушевления, похожего на прежнее. Но и эти вспышки скоро пропадают без следа, не имея никакого влияния на общественную деятельность. Оказывается, что увлечения и надежды были преждевременны и что многие из людей, горячо приветствовавших зарю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и решились спать до тех пор; что еще большая часть людей, благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные труды и пожертвования. Все нетерпеливо ждали, желали, просили улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую лень и апатию, но редко-редко кто принимался за настоящее дело. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствиями, многие из тех, кто даже мог делать истинно полезное, —
Произошло явление, не слишком возвышенное и даже довольно непредвиденное: русское общество разыграло в некотором роде талантливую натуру. Читатели, конечно, прочли уже «Губернские очерки» и потому, верно, знакомы с некоторыми из талантливых натур, очерченными г. Щедриным. Но не все, может быть, размышляли о сущности этого типа и о значении его в нашем – обществе. Поэтому мы решаемся подробнее рассмотреть эти натуры, в которых, по нашему мнению, довольно ярко выражается господствующий характер нашего общества. Виды талантливых натур чрезвычайно разнообразны, но есть у них и нечто общее, состоящее именно в их талантливости, которая может иногда вызвать истинное сожаление и навести на очень грустные думы. Положение их, конечно, смешно, даже отвратительно, но насмешку над положением этих господ не нужно переносить на самую натуру их, вовсе не лишенную добрых качеств. Занятия и свойства их г. Щедрин изображает таким образом:
Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты; четвертые выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего… Общее у всех этих господ, во-первых, «червяк», во-вторых, то, что «на жизненном пире» для них не случилось места, и, в-третьих, необыкновенная размашистость натуры. Но главное – червяк. Этот глупый червяк причиною тому, что наши Печорины слоняются из угла в угол, не зная, куда приклонить голову; он же познакомил их ближайшим образом с помещиками: Полежаевым, Сопиковым и Храповицким. К сожалению, я должен сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндевевший чиновник или помещик не может сделаться Печориным; он на жизнь смотрит с практической стороны, а на терния или неудобства ее – как на неизбежные и неисправимые. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами, а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их так, как они есть, не задаваясь мыслию о том, какими бы они могли быть, если бы… и т. д. Молодой человек, напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг его есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании («Губ. очерки», т. III, стр. 69 и сл.).
Видите ли, при всей насмешливости отношений г. Щедрина к талантливым натурам, он сам не может не обнаружить, что в основании их лежит нечто хорошее. Их стремления не заключают в себе ничего предосудительного, напротив – стремления эти ставят их действительно выше тех апатических безличностей, которые, смотря на жизнь с практической стороны, находят блаженное успокоение от всех сомнений и вопросов в учительской указке или в подписи того, кто повыше их чином. Вся беда пропавших талантливых натур состоит в том, что у них нет никаких живых начал. Стоит дать им вовремя эти начала, и из них может выйти что-нибудь положительно доброе. Давно уже кто-то заметил, что на свете нет неспособных людей, а есть только неуместные; что плохой извозчик и вываленный им из саней плохой чиновник, выгнанный из службы за неспособность, – оба, быть может, не были бы плохими, если бы поменялись своими местами: чиновник, может быть, имеет от природы склонность к управлению лошадьми, а извозчик в состоянии отлично рассуждать о судебных делах… Все горе происходит от их неуместности, в которой опять не виноваты ни чиновник, ни извозчик, а виновата их судьба, эта «глупая индейка», по залихватскому русскому выражению. То же самое происходит со всеми талантливыми натурами: они получают одностороннее развитие, несоответственное их потребностям, и, уступая силе враждебных обстоятельств, попадают на ложную дорогу. Они не столько животны, слабодушны и слепы, чтобы уступить без всякого усилия, в простодушной уверенности, что так должно быть: это их достоинство. Но они не имеют и настолько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до конца, чтобы не изменить своим добрым влечениям и не впасть в апатию, фразерство и даже мошенничество: вот их существенный, страшный недостаток. Но этот недостаток, очевидно, не природный. Он происходит от слабости характера, соединенной с пылкостью стремлений. Пылкость стремлений сама по себе – вещь весьма похвальная и притом составляет в человеке не что иное, как простой признак живой молодости, а характер, как все согласны, не родится с человеком, а приобретается им во время воспитания, установляясь окончательно в последующих треволнениях жизни. Следовательно, по строгом рассуждении, на стороне самой личности остается только живая восприимчивость натуры – признак вовсе недурной, а все остальное ложится на ответственность окружающей ее среды. Нам скажут: отчего же эта среда не оказывает такого же влияния на других, отчего именно на талантливые натуры она действует так гибельно? Ответ прост: эти натуры, по своей впечатлительности, забегают дальше других, часто захватывают больше, чем сколько могут вынести, и при этом чаще, чем другие, встречают противодействия, которым они не в силах противиться. Между тем как дети малые и благонравные наслаждаются спокойствием блаженного неведения, помня, что они дети и, следовательно, должны составлять свой маленький мир, не вступаясь в дела больших, – дети восприимчивые и пылкие суются беспрестанно туда, где их не спрашивают, рано знакомятся с житейскими дрязгами и рано получают от больших практические опровержения своих детских рассуждений. В иных естественная логика и привычка к деятельности берут верх: они рассматривают практические взгляды со всех сторон и оценивают их очень верно: они не падают пред силою обстоятельств, не опускаются до злобного фразерства и цинической лени – с досады, что ничего великого сделать нельзя, а до конца идут против враждебной силы, и если не успеют ее покорить, то падают, звуком самого падения созывая на труп свой новых самоотверженных деятелей. Но таких крепких людей немного. Большая часть не выдерживает враждебного напора и гибнет нравственно, без пользы и часто даже со вредом и для других. В общественном отношении, разумеется, хвалить их нечего: они всегда являются в обществе или тунеядцами, или мошенниками. От этого мы и не думаем их оправдывать, равно как не думаем возвеличивать их воздействие насчет незаметной деятельности скромных тружеников. Мы только хотим сказать, что в сущности своей талантливые натуры дают больше задатков хорошего развития, нежели благонравные, милые, послушные и т. д. дети, и что при благоприятных обстоятельствах их развитие принесло бы хорошие плоды. Мы можем сравнить их, пожалуй, с плодородной землей. Засейте где-нибудь в окрестностях Петербурга хорошую почву (если таковая найдется) маисом, рожью и крапивой. Маис, разумеется, не примется по причине разных прелестей петербургского климата, а рожь заглушена будет крапивою. Вот поле и не годится никуда. Как же можно сравнить его по плодам с другим, довольно, правда, скудным полем, которое, однако же, вырастило рожь, хотя и очень тощенькую. А все-таки нельзя не сказать, что в первом поле земля лучше. Брошенное и запущенное, да еще закрытое от солнышка какими-нибудь заборами да постройками, заваленное всяким мусором, оно и все порастет крапивой. Но попадись оно в руки хорошему хозяину, так тот не только его от мусора очистит и крапиву выполет, не только хорошую жатву соберет, а еще целую оранжерею на нем разведет и самые нежные растения воспитает, оградивши их от разных неблагоприятных петербургских влияний.
Если нужно доказать наши слова примерами, то за ними ходить недалеко. У г. Щедрина представлены талантливые натуры трех разрядов: мефистофельская, спившаяся с кругу и пустившаяся в мошенничество. Нельзя не сознаться, что выбор этих трех категорий сам по себе весьма удачен. Неудавшаяся деятельность талантливых натур обыкновенно имеет один из этих исходов. Все они гадки и вредны или по крайней мере бесполезны; но посмотрите на начало жизненного поприща этих господ, вникните в сущность их натуры, и вы увидите, что все их увлечения имеют доброе начало, а падение происходит просто от бессилия противиться внешним влияниям. Отчего такое бессилие происходит, мы уже отчасти объяснили. Прибавим только, что, завися от естественной, каждому предмету в мире присущей инерции, качество это усиливается от постоянной привычки к пассивному восприятию чужих идей и делается тем отвратительнее, чем больше ума и свежих сил в такой пассивной натуре. На человека, не умеющего пяти слов связать со смыслом, не досадно, если он целый век сидит за переписываньем. Да его и не заметишь: он доволен своей судьбою и высоко не заносится, зная, что без крыльев опасно подниматься на воздух… Но человек, легко и быстро понимающий предметы, имеющий живые и высокие стремления, знающий очень хорошо степень собственных сил, такой человек вдруг, поддаваясь лени, отстает от всякого дела и употребляет свои способности только на пересыпанье из пустого в порожнее или на различные непохвальные проделки: это уже досадно и горько. Такого человека сейчас все заметят, потому что он всем надоедает своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всем навязывается с пересмеиванием своих ближних, всем кидается в глаза своим сознательным, преднамеренным бездельничеством. Вот, например, перед вами г. Корепанов. Он не потому замечен крутогорским обществом, что тунеядствует и в пустяках всю свою жизнь проводит. Он пуст не больше других: как другие, он служит, – как другие, является на детские балы княжны Анны Львовны, – как другие, ничем особенно не занимается. Словом, в нем ничего нет замечательного, и вы проходите мимо его, бросая на него рассеянный взгляд и думая: «Вот еще один из множества тех, которые прозябают в Крутогорске, серьезно занимаясь деланьем ничего и не имея понятия о других, лучших сферах деятельности…» Но г. Корепанов вдруг останавливает вас восклицанием: «Прошу не смешивать меня с этой толпой; я уверяю вас, что я гораздо лучше всех их. Не смотрите на то, что я толкусь между ними и так же, как они, ничего не делаю… Поверьте, что я мог бы сделать многое, очень многое, если бы только захотел… Но я не хочу…» – «Тем хуже, – отвечаете вы, – значит, вы, м-сье Корепанов, сами виноваты в своем ничтожестве. На этих людях нечего спрашивать: они делают то, что могут; виноваты ли они, что у них не хватает сил на большее? А вы гораздо хуже их, потому что не делаете и того, что можете. Вы просто дрянь, м-сье Корепанов». – И что же бы вы думали? Корепанов мгновенно с вами соглашается и начинает ругать себя. «Да, – говорит он» впрочем, не без оттенка тонкой иронии, – я глуп, я слаб, у меня мелкая, ничтожная душонка. Я завидую даже этому пошлому довольству и безмятежию, которое написано на лицах моих сослуживцев: все-таки, значит, их жизнь прошла недаром… А я только все сомневался да метался без толку, из стороны в сторону… А к чему?.. Гораздо было бы спокойнее – добыть себе тепленькое местечко, как Николай Федорыч, жениться на Анфисе Ивановне, которая из старых панталон шаль устраивает; да считать себе денежки, как Семен Семеныч…» Вы соглашаетесь, что это, действительно, было бы спокойнее, чем без толку целый век маяться; но Корепанов обнаруживает полное омерзение к деятельности Николая Федорыча, Семена Семеныча и подобных. Он даже детям Семена Семеныча и Николая Федорыча внушает отвращение к воровству и скаредной жизни родителей и гордится своими заслугами в этом отношении. Он называет Крутогорск помойной ямой и очень недоволен тем, что здесь всякий должен бессменно носить однажды накинутую на себя ливрею. По выходкам Корепанова вы видите, что он был в хорошей школе, умеет зло от добра отличить и имеет понятие о настоящей нравственности. Он и сам признается, что в молодости своей умных людей с кафедры слушал, но только ученье не пошло ему впрок. Он, видите, не хотел корпеть над книжкой и клевать по крупице, а ждал все, что ему кто-нибудь «вольет знание ковшом в голову, и сделается он после того мудр, как Минерва». Вот вам и первое падение перед трудностями, первое торжество лени. Далее – Корепанов затем не остался служить там, где бы лучше могли развернуться его таланты, что «он желает кушать, а в Петербурге или Москве этого добра не найдешь сразу». А ему – видите – лень добиваться чего-нибудь трудом, понемножку: все сразу хотелось бы. Вот он и едет в Крутогорск, где у него есть родные, «которыми, следовательно, уж насижено место и для него…» Здесь он кое-как служит, как и все, но главным образом злобствует против всех, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость судьбы. Если хотите, судьба, точно, несправедлива к нему, – но несправедлива тем, что дала ему родных, которые, с грехом пополам насидевши тунеядцу место, освободили его от необходимости работать самому для приобретения места и хлеба. Не будь этого, Корепанов был бы славным работником и не погиб бы для честной и полезной деятельности, обратившись в Мефистофеля средней руки.
Теперь посмотрим на Лузгина, тоже талантливую натуру, только другого разбора. Положительно дурного в этой натуре ничего нет. Припоминая прежние годы Лузгина, г. Щедрин говорит, что он был тогда безрасчетно добр и, великодушен, что в нем сильно кипела кровь, обильна и неистощима была животворная струя молодости. Сам Лузгин в откровенном разговоре высказывает, что у него и в пожилых летах сохранилось еще много любви, горячности, жару. Он сожалеет, что погано провел свою молодость и не столько лекциями, сколько ухарством занимался. В жизни его есть прекрасные явления. Он женился на бедной гувернантке своего соседа, которую притесняли сладострастный хозяин и капризная хозяйка. Он не хотел служить в Петербурге затем, что там «выморозки, что-то холодное, ослизлое», бегают целый день, чтоб иметь счастие искривить рот в улыбку при виде нужного лица. Он перестал ездить к школьному товарищу, когда тот вздумал пустить ему в глаза пыль в виде действительного статского советника Стрекозы, княгини Оболдуй-Таракановой и так далее. Все это, нельзя не сознаться, обнаруживает натуру добрую, симпатичную, с наклонностями истинно благородными. Можно бы почесть его просто прекрасным мирным помещиком, нашедшим наконец в кругу семейном успокоение от житейских треволнений. Но такое заключение было бы неудачно. Лузгин хоть и не занимался лекциями, по его собственному признанию, но все же кое-что из высших наук запало ему в голову, и он уже не может довольствоваться своей тесной сферой. «Размеры нас душат, – говорит он, – природа у нас широкая, желал бы захватить и вдоль и поперек, а размеры маленькие. Жару и теперь еще пропасть осталось, только некуда его девать: сфера-то у нас узка, разгуляться негде…» Да кто же вам не велел, г. Лузгин, захватывать именно столько, сколько ваши силы позволяют? Зачем вы киснете в деревне и даже не служите, хоть бы по выборам? – А вот видите, – когда Лузгин воротился из ученья, то мать стала его упрашивать: «Около меня посиди», да и соседи лихие нашлись, – он и остался, тем более что к лености с юных лет сердечное влечение чувствовал… Но в деревне его томит скука, образование его не столько полно, чтоб он мог довольствоваться самим собою и семейным кругом; он ищет других развлечений и находит их, разумеется, без особенных затруднений: он начинает каждый день напиваться допьяна, приводя в отчаяние свою жену и расстраивая собственное здоровье… Ну, скажите на милость, природа ли тут виновата? Лузгин всячески старается вею вину сложить на природу, хотя он, собственно говоря, и не думает себя оправдывать. Напротив, он, как и все талантливые натуры, безбоязненно и бесстыдно распространяется о своих недостатках, уверяя, что он свинья, что он опустился, что он гнусен с верхнего волоска головы до ногтей ног. Но все это самообвинение мало помогает. Подняться он уже не в силах: я, говорит, до такой степени привык к праздности, так въелся в нее, что даже уж и думать ни о чем не хочется. При всем том он не хочет принять на себя ответственности за все. Чувствуя, что не в силах подняться, он старается увериться, что так уж судьбой решено, что иначе и быть не может, что так, видно, «и суждено этому огню перегореть в груди, не высказавшись ни в чем». И в этой уверенности принимается с отчаяния за чарочку, чтоб утопить в вине свои досадные порывы. А потом жалуется на природу весьма комическим образом: «Для чего, – говорит, – она не сделала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила мое сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив того, размягчила его и сделала способным откликаться только на доброе и прекрасное?.. Природа-то ведь дура, выходит…» Какая же тут природа, г. Лузгин? Природа всех людей решительно выпускает на божий свет слабыми и беспомощными: никого она не калит и не мягчит нарочно, в том соображении, что вот этот господин должен будет бороться, а тот – нет, так, в видах предусмотрительности, надобно дать им такие-то и такие-то свойства. Это вы все для оправдания своей лени выдумываете, что природа как-то неприязненно к вам расположена и по каким-то интригам вздумала вас размягчить. Ничего подобного не бывало: закаляются люди не на лоне природы, а в горниле житейской опытности. А этой-то закалки и нет у вас, потому что вам не случилось надобности с самого начала преодолеть вашу лень, и вы позволили другим за вас думать и действовать. В результате и вышло, что хоть у вас сердце доброе, хоть оно и откликается на все прекрасное, а сами-то вы вышли человек не только плохой, но и пошлый, даже грязный. Так скажем мы Лузгину, не желая поощрять его лени и цинизма. Но, обращаясь к читателям, мы, разумеется, не можем не прибавить, что действительно судьба была довольно жестока к Лузгину. Его вывели из непосредственной простоты и патриархальности деревенских отношений, дали некоторое понятие о предметах высших, но не дали основательных и твердых начал, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой степени, чтобы предпочитать ее разным ухарским развлечениям. При первых попытках что-нибудь делать ему встречаются препятствия: там мать и родимое гнездо отвлекают от службы, там лихие соседи увлекают в отъезжее поле да в буйную оргию, там надменные выскочки и мягкотелые низкопоклонники отталкивают его от петербургской жизни. Для него это уже слишком много; его наклонность к лени, привычка подчинять себя требованиям чужой воли и слишком поверхностное образование не могут устоять против беспрестанных искушений. А там судьба позаботилась приготовить родимое гнездо, в котором можно жить на чужой счет… Вот и погиб человек, из которого при других обстоятельствах могло бы и выйти что-нибудь.








