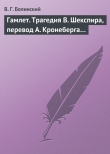Текст книги "Забитые люди"
Автор книги: Николай Добролюбов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Николай Александрович Добролюбов
Забитые люди
(Сочинения Ф. М. Достоевского. Два тома. Москва, 1860 г.
«Униженные и оскорбленные», роман в 4-х частях Ф. М. Достоевского. «Время», 1861 г., № I–VII)
I
«Опять о забитых личностях! Мало еще было толковано о них в «Темном царстве», мало вообще надоедал ими «Современник» в своем критическом отделе! И ведь пришла же человеку в голову безобразная мысль – превратить дело художественной критики в патологические этюды о русском обществе…{1}1
Добролюбов имеет в виду критику его статей в печатных выступлениях П. В. Анненкова, Ап. Григорьева, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина и некоторых других литераторов, враждебных «Современнику».
[Закрыть] Вот хоть бы теперь на очереди стоит чрезвычайно важный для искусства вопрос о сущности и степени творческого таланта одного из замечательнейших деятелей нашей литературы, вопрос тем более интересный, что о нем, в течение пятнадцати лет, были высказаны самые разнообразные мнения. Появление «Бедных людей» было встречено величайшим восторгом всей литературной партии, признавшей Гоголя; Белинский провозгласил, что хотя г. Достоевский и многим обязан Гоголю, как Лермонтов Пушкину, – но что тем не менее он – сам по себе, вовсе не подражатель Гоголя, а талант самобытный и громадный. Он начал так, прибавлял Белинский, как не начинал еще ни один из русских писателей. Мало того, – Белинский пророчествовал таким образом: «Талант г. Достоевского принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы» («Отечественные записки», 1846, № III, стр. 20){2}2
Цитата из статьи Белинского «Петербургский сборник», в котором были опубликованы «Бедные люди» Достоевского.
[Закрыть]. Это было писано еще в то время, когда в ходу были повести гг. Соллогуба, Луганского, Гребенки и т. п.; г. Гончаров еще не появлялся тогда с «Обыкновенной историей»; гг. Тургенев и Григорович едва напечатали несколько незначительных рассказов; об Островском, Писемском, Толстом и других, впоследствии прославившихся писателях, не было еще ни слуху ни духу. Прошло с тех пор еще три года: новые писатели возникали и приобретали себе почетную известность; г. Достоевский все продолжал писать, и ни одно из его новых произведений не сравнилось с первою его повестью. В половине 1849 года литературная деятельность его прекратилась{3}3
Достоевский был арестован в апреле 1849 г. за участие в нелегальном социалистическом кружке М. В. Петрашевского. Приговор к смертной казни заменен был четрехлетней каторгой, по окончании которой зачислен рядовым в войска Отдельного Сибирского корпуса. Разрешение жить в Петербурге получил в конце 1859 г.
[Закрыть], и литература не выразила при этом особенных сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение. Но два года тому назад г. Достоевский снова появился в литературе, хотя имя его было уже слишком бледно пред новыми светилами, загоревшимися на горизонте русской словесности в последнее десятилетие. В эти два года он напечатал четыре больших произведения, и об них еще не произнесен беспристрастный суд критики{4}4
С 1857 по 1861 г. Достоевский опубликовал «Маленького героя», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорбленные».
[Закрыть]. Теперь именно и предстоит для критика задача – определить, насколько развился и возмужал талант г. Достоевского, какие эстетические особенности представляет он в сравнении с новыми писателями, которых еще не могла иметь в виду критика Белинского, какими недостатками и красотами отличаются его новые произведения и на какое действительно место ставят они его в ряду таких писателей, как гг. Гончаров, Тургенев, Григорович, Толстой и пр. Критику предстоит художественный вопрос, существенно важный для истории нашей литературы, – а он собирается толковать о забитых людях – предмете даже вовсе не эстетическом».
Всякий раз, как я начинаю писать критическую статью, меня начинают осаждать требования и возгласы подобного рода. По мнению одного критика, мне от них нет другого спасения, как признаться откровенно, что решение вопросов подобной важности – мне не под силу{5}5
Ссылка на «одного критика» имела в виду Ап. Григорьева.
[Закрыть]. Я бы, пожалуй, и готов признаться; но ведь это, во-первых, для самолюбия обидно, а во-вторых – зачем же мне клепать на себя? Разумеется, критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям – места, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова ведь должна быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая теория критики так же точно неприложима бывает, как и теория о том, как сделаться богатым и счастливым или как приобрести любовь женщин. Еще ежели попадет такая теория на человека, имеющего все шансы нравиться женщинам, ежели придется теория богатства и счастья по человеку умеренному, аккуратному, искательному и ловкому, – так, пожалуй, будет и на дело похоже: у такого человека есть залоги на счастье и богатство, приближающие его к принципам книжной теории. А что, как эта мораль из прописей, предлагаемая под видом «руководства к счастливой и богатой жизни» и состоящая в том, что «будь бережлив», «никогда не давай воли своим страстям», «довольствуйся малым», «сноси терпеливо все оскорбления от тех, – от кого находишься в зависимости», и пр. и т. п., – что, ежели эта мораль будет применяема к натуре горячей, расточительной, беспокойной? Ведь не стоит тогда и изучать теорию счастья, точно так, как не стоит робкому и безобразному старцу заниматься изучением «искусства нравиться женщинам», когда там на первом плане стоят развязность, молодость и благообразие, ежели уже не красота. То же самое и с критикой: хорошо, если вам попадается произведение, приближающееся хоть сколько-нибудь к идеальным требованиям, имеющее какие-нибудь шансы «быть долговечным и счастливым», то есть составить собою что-нибудь самобытное, замечательное не по отношению к каким-нибудь другим интересам, а по своему внутреннему достоинству. Тогда можно и с эстетической точки зрения заняться им, можно и в художественные тонкости пуститься и все пятнышки в нем проследить. Да это сделается тогда само собою, по тому же невольному чувству, по которому вы хлопочете, чтобы прекрасной картине дано было хорошее освещение, и невольно делаете движение, чтобы согнать севшую на нее муху… Но подымать вечные законы искусства, толковать о художественных красотах по поводу созданий современных русских повествователей – это (да простят мне г. Анненков и все его последователи!) так же смешно, как развивать теорию генерал-баса в поощрение тапера, не сбивающегося с такта, или пуститься в изложение математической теории вероятностей по поводу ошибки ученика, неверно решившего уравнение первой степени.
Для людей, которые все уткнулись в «свою литературу», для которых нет других событий общественной жизни, кроме выхода новой книжки журнала, действительно должен казаться громадно-важным их муравейник. Зная только отвлеченные теории искусства (имевшие, впрочем, когда-то свое жизненное значение) да занимаясь сравнением повестей г. Тургенева, например, с повестями г. Шишкина или романов г. Гончарова с романами г. Карновича{6}6
Повести И. И. Шишкина и Е. П. Карновича печатались в «Современнике» и «Отечественных записках» пятидесятых годов.
[Закрыть], – точно, не мудрено прийти в пафос и воскликнуть:
Но поверьте, что только праздные люди могут толпиться около этого муравья и по целым часам любоваться, как он показывает свою силу.
У большинства людей есть свои занятия, и если им любопытно подчас видеть проявление силы, то уж не такой же.
Я бы хотел здесь поговорить о размерах силы, проявляющейся в современной русской беллетристике, но это завело бы слишком далеко… Лучше уж до другого раза. Предмет этот никогда не уйдет. А теперь обращусь собственно к г. Достоевскому и главное – к его последнему роману, чтобы спросить читателей: забавно было бы или нет заниматься эстетическим разбором такого произведения?
Роман г. Достоевского очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою… Явился было ему соперник в «Чужом имени» г. Ахшарумова, но со второй же части, говорят, обнаружилась в этом романе такая неблаговидная пошлость во вкусе романов Полевого, что читатели бросили роман недочитанным. «Бедные дворяне» г. Потехина{8}8
Роман Н. Д. Ахшарумова «Чужое имя» печатался в «Русском вестнике» 1861 г., а роман А. А. Потехина «Бедные дворяне» в «Библиотеке для чтения» того же года.
[Закрыть] тоже, говорят, остались далеко позади «Униженных И оскорбленных». Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить к нему правила строго художественной критики!
Большая часть наших читателей, конечно, знает содержание «Униженных и оскорбленных». Поэтому постараюсь изложить главные черты романа в самых коротких словах.
Расоказ веден от лица Ивана Петровича, «неудавшегося литератора». Герой романа – князь Валковский. Иван Петрович воспитан у помещика Ихменева, который вместе с тем управляет и соседним имением князя Валковского. Валковский очень доверяет Ихменеву и даже посылает к нему под надзор в деревню 19-летнего сына своего Алешу, накутившего что-то в Петербурге. Но через год князь приехал в имение, поссорился с Ихменевым, – по наговорам, будто тот интриговал, чтобы женить Алешу на своей 17-летней дочери, Наташе, – отнял у него управление именьем, сделал на него начет и завел процесс. Для «хождения по делу» Ихменев переехал в Петербург. Вот завязка романа.
В Петербурге Ихменевы встретили Ивана Петровича: он страстно влюбился в Наташу, она в него, они объяснились между собою и с родителями, получили радостное согласие и совет – подождать годик, пока Иван Петрович заработает себе что-нибудь побольше теперешнего. Но между тем Алеша тоже начал бывать у Ихменевых, тайком от отца; старики его принимали ласково, потому что он и в 21 год был милым и незлобным ребенком. Он влюбился в Наташу, а Наташа в него, – да так, что в один прекрасный вечер бежала к нему из дома родительского. Иван Петрович все это знал, всему помогал, переносил вести от дочери к родителям, от родителей к дочери и пр. Но вскоре деятельность его раздвояется: он поселился в квартире одного старика, умершего на его руках; к старику ходила внучка, девочка лет 13, Нелли; явилась она и к Ивану Петровичу, но, не нашед дедушки, тотчас убежала. Иван Петрович успел ее выследить, спас ее от развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутиле, и поселил у себя. С этих пор Иван Петрович мечется беспрестанно от Нелли к Наташе и от Наташи к Нелли. Между тем князь Валковский, видя, что сын не отстает от Наташи, выдумал остроумное средство: приехал к Наташе и при нем же попросил ее согласия на замужество с его сыном. Все были очень рады такому обороту дела, но ветреный Алеша, в котором только препятствия еще и поддерживали любовь, совсем теперь успокоился насчет Наташи, стал пропадать по нескольку дней, ездить по балам и уже без всякого принуждения знакомиться и сходиться с невестой, которую приготовил ему отец. Через несколько дней он, разумеется, влюбился в нее так же страстно, как и в Наташу, а еще через несколько дней убедился, что он ее любит более Наташи. Расчет князя-отца оказался верен; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, как по писаному, все высказала князю. Князь обиделся и зато через несколько дней весьма цинически и с приправою разных оскорблений высказал то же самое, то есть признался во всех своих расчетах Ивану Петровичу. Между прочим, приехав к нему в квартиру, князь увидал Нелли, и она была им страшно испугана и сделалась больна. Иван Петрович опять в хлопотах: тут больная, там идет к развязке; отец Алеши хочет женить его, невеста его, Катя, хочет познакомиться с Наташей, чтобы попросить у нее прощения и согласия; отец Наташи горячится из-за дочери и – то ее проклинает, то хочет вызвать князя на дуэль; мать рвется к дочери, сама Наташа еле на ногах держится. Наконец все устроивается: Алеша уезжает в деревню вместе с Катей и ее семейством, Наташа решается идти к родителям. Чтобы смягчить отца и приготовить его к прощению, употребляют орудием маленькую Нелли, заставляя ее рассказывать ему свою историю, или, лучше сказать, историю ее матери. Дело состоит в том, что мать Нелли была обольщена одним господином, убежала от отца, была им проклята, потом ограблена и брошена своим любовником и умерла в сыром углу от чахотки и голода, напрасно вымаливая прощение у отца. Рассказ, точно, производит сильное впечатление, так что Ихменев решается идти к Наташе. Но это оказывается решительно не нужно: Наташа сама прибежала к родителям и, разумеется, встречена была с распростертыми объятиями. Вслед за тем, при посредстве приятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли – дочь князя Валковского, что обольститель ее матери был именно он и что – мало того – он был женат на матери Нелли законным образом. Но улик законных против князя не было, и нельзя было предпринять против него никаких мер. Алеша, разумеется, женился на Кате. Униженные и оскорбленные так и остались неотомщенными. Нелли скоро затем умерла; а Наташа с родителями отправилась в провинцию, где старик Ихменев выхлопотал себе какое-то место, проиграв окончательно свой процесс с князем и лишившись своей последней деревеньки Ихменевки.
В романе очень много живых, хорошо отделанных частностей, герой романа хоть и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен, характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо и натурально очеркнут также и характер старика Ихменева. Все это дает право роману на внимание публики, при общей бедности хороших повестей в настоящее время. Но все это еще не возвышает его настолько, чтобы применять общие художественные требования ко всем его частностям и сделать его предметом подробного эстетического разбора.
Возьмите, например, хоть самый прием автора: историю любви и страданий Наташи с Алешей рассказывает нам человек, сам страстно в нее влюбленный и решившийся пожертвовать собою для ее счастья. Я признаюсь, – все эти господа, доводящие свое душевное величие до того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили или любили головою только, и выдумать их в литературе могли только творцы, более знакомые с головною, нежели с сердечною любовью. Если же эти романтические самоотверженцы точно любили, то какие же должны быть у них тряпичные сердца, какие куричьи чувства! А этих людей показывали еще нам, как идеал чего-то! Первый, сколько помнится, устроил подобную комбинацию любовного самоотвержения г. Тургенев и недавно повторил ее в «Накануне», имея, впрочем, на этот раз осторожность дать понять читателю, что Берсенев еще сам не отдавал себе ясного отчета в своих чувствах к Елене, когда понадобилось его содействие Инсарову. Г. Достоевский тоже не в первый раз берет такого героя; его уж мы видели в мечтателе «Белых ночей». Но то была шутка в сравнении с нынешним его романом. Теперь мы видим умного, благородного и развитого человека, который тоже попал в такую комбинацию и собирается нам рассказать об этом. Как бы мы ни смотрели на нравственное достоинство его подвига, но нам любопытно следить за ним в его рассказе. Из всех униженных и оскорбленных в романе – он унижен и оскорблен едва ли не более всех; представить, как в его душе отражались эти оскорбления, что он выстрадал, смотря на погибающую любовь свою, с какими мыслями и чувствами принимался он помогать мальчишке-обольстителю своей невесты, какие бесконечные вариации любви, ревности, гордости, сострадания, отвращения, ненависти разыгрывались в его сердце, что чувствовал он, когда видел приближение разрыва между своей невестой и ее любовником, – представить все это в живом подлинном рассказе самого оскорбленного человека, – эта задача смелая, требующая огромного таланта для ее удовлетворительного исполнения. Одной неудачной попыткой на разъяснение одной частицы такой задачи Эрнест Федо сразу приобрел себе европейскую известность и массу поклонников{9}9
Речь идет об исключительном успехе романа Эрнеста Фейдо «Фанни» (1859 г.).
[Закрыть]. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое решение всей задачи! Кроме того, что у нас было бы художественное целое, – нам разъяснился бы целый разряд характеров, целый ряд нравственных явлений, мы знали бы, как нам судить об этих кроткосердных героях и какую цену приписывать их гуманному обезличению себя, так как мы знаем теперь, например после комедий Островского, как нам смотреть на патриархальную размашистость русской натуры.
Г. Достоевский известен любовью к рисованию психологических тонкостей. Мнение о его, кажется, «Двойнике», что это «собственно, не повесть, а психологическое развитие», подало даже повод к одному очень известному анекдоту. Потому можно было надеяться, что г. Достоевский именно нападет на ту идею, о которой я говорил. Тогда бы, разумеется, мог быть толк и в художественности исполнения. Но на самом деле вы в романе не только слабого изображения внутреннего состояния Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малейшего намека на то, чтобы автор об этом заботился. Напротив, он избегает всего, где бы могла раскрыться душа человека любящего, ревнующего, страдающего. Пять месяцев, в которые Алеша успел прельстить Наташу и увлек ее за собою, – не удостоены и пяти строчек. Первые полгода жизни Алеши с Наташею пропущены почти без всяких объяснений. Действие романа продолжается какой-нибудь месяц, и тут Иван Петрович беспрерывно на побегушках, так что ему наконец раза два делается дурно и он чуть не схватывает горячку. Но вот и все; что именно у него на душе, мы этого не знаем, хотя и видим, что ему нехорошо. Словом, перед нами не страстно влюбленный, до самопожертвования любящий человек, рассказывающий о заблуждениях и страданиях своей милой, об оскорблениях, нанесенных его сердцу, о поругании его святыни; перед нами просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. Оттого тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который по сущности дела должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий. К нему приходит отец Наташи – сообщить о своих намерениях, за ним присылает ее мать – расспросить о Наташе, его зовет к себе Наташа, чтобы излить пред ним свое сердце, к нему обращается Алеша – высказать свою любовь, ветреность и раскаяние, с ним знакомится Катя, невеста Алеши, чтобы поговорить с ним о любви Алеши к Наташе, ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характер, и Маслобоев, чтобы разузнать и рассказать об отношениях Нелли к князю, наконец, сам князь везет его к Борелю и даже напивается там, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иван Петрович все слушает и все записывает. Вот и все его участие в романе.
Если уже таково отношение к делу даже того самого лица, которое берется рассказывать нам о своем кровном деле, то нельзя ожидать, чтоб он сумел очень глубоко ввести нас в сердечную жизнь других действующих лиц. И точно – роман представляет нам калейдоскоп происшествий, которых случайными свидетелями можем мы сделаться на улице, в гостиной или на ином чердаке, и при этом представлении стоит некто, изъясняющий, что означают и почему выходят такие-то и такие-то вещи. Завязка романа, например, основывается на любви Наташи к Алеше. Наташа представлена девушкою умною, серьезною, с хорошо развитым нравственным чувством, без особенных, и даже без всяких, чувственных поползновений. Алеша – мальчишка, уже в 21 год ветреный, цинический, лишенный всякой нравственной основы в характере до того, что он не конфузится никакой своей пакости, напротив – тотчас же сам о ней рассказывает, прибавляя, что знает, как это дурно, и вслед за тем опять повторяет ту же пакость. Думая похвалить его невинность, рассказчик говорит, между прочим: «Он не мог бы солгать, а если б и солгал, то вовсе не подозревая в этом дурного». Видите, это был наивный, милый ребенок, не ведающий разницы добра и зла, хотя и достигший 21 года, воспитанный в светском петербургском обществе, испытавший в нем кое-что и притом бывший сынком такого отца, как князь Валковский. Идеализируя характер Алеши (как и следует по правилам рыцарского великодушия, говоря о сопернике), рассказчик замечает, что он «мог бы сделать и дурной поступок, принужденный чьим-нибудь сильным влиянием, но, сознав последствия такого поступка, умер бы от раскаяния». А через две страницы происходит сцена встречи Алеши с убежавшей из дому Наташей. Иван Петрович пробует напомнить ему: что, говорит, вы делаете, – какой страшный удар наносите ее отцу и матери и пр… Алеша отвечает: «Да, это ужасно… Я это и прежде говорил… Но что же делать? изменить нельзя»… А тут еще и изменять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь из семейства, не умер от раскаяния, да и потом, бросив Наташу и женившись на Кате, тоже не умер… Словом сказать, по описанию, это обаятельный, милый ребенок, только очень ветреный, а по ходу дела – это рано развращенный, эгоистический и пустой мальчишка, не имеющий никакого направления, никакого убеждения, поддающийся на минуту всякому постороннему влиянию, но постоянно верный только влечениям своих капризов и чувственности, которых он не умеет даже стыдиться. Трудно сказать, в чем заключается его обаятельность, чем он мог подействовать на умную и серьезную девушку, как Наташа. Она краснеет за него, когда он начинает врать Ивану Петровичу разную чепуху в тот самый момент, как он встретил Наташу, чтобы увезти ее к себе; она умоляет Ивана Петровича взглядом – не судить его строго… Ну, скажите, какое же увлечение, какая любовь при таких отношениях?
Но мало ли бывает аномалий, а г. Достоевский имеет, так сказать, привилегию на их изображение. От г. Голядкина до Фомы Фомича в «Селе Степанчикове» он изобразил на своем веку много болезненных, ненормальных явлений. Мог взяться и за изображение исключительной, ненатуральной любви Наташи к дряннейшему фату, который, по всем ожиданиям здравого смысла, не мог не казаться ей противным. Положим даже, что самая ненормальность-то, странность подобных отношений и поразила художника и заставила его заняться их воспроизведением. Но ведь мы знаем, что художник – не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было, и смысла не было. Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по-видимому, явлениях, сливает и переработывает в общности своего миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности. Оттого истинный художник, совершая свое создание, имеет его в душе своей целым и полным, с началом и концом его, с его сокровенными пружинами и тайными последствиями, непонятными часто для логического мышления, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художник представляет свои создания и для других; они для всех делаются просты, понятны, законны. Вещи, самые чуждые для нас в нашей привычной жизни, кажутся нам близкими в создании художника: нам знакомы, как будто родственные, и мучительные искания Фауста, и сумасшествие Лира, и ожесточение Чайльд-Гарольда; читая их, мы до того подчиняемся творческой силе гения, что находим в себе силы, даже из-под всей грязи и пошлости, обсыпавшей нас, просунуть голову на свет и свежий воздух и сознать, что действительно создание поэта верно человеческой природе, что так должно быть, что иначе и быть не может… Разумеется, не все гении, и не от всех можно ожидать подобного эффекта, но все же до известной степени он есть и в каждом художественном произведении, и притом поэты с меньшим талантом обыкновенно являются публике с созданиями, в которых и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть в самых маленьких размерах, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать в произведении и признаков художественного таланта{10}10
Эта страница представляла собою ответ на статью Достоевского «Г. – бов и вопрос об искусстве», оставшуюся неназванной.
[Закрыть].
Так пусть бы в романе г. Достоевского отразилась в своей полноте хоть этакая маленькая, миниатюрная задача жизни[1]1
Не говорю, чтоб художник задавал себе задачу, а чтоб у него отразилась, разрешилась она сама собою, хоть бы неведомо для него; а то опять скажут, что я навязываю художнику утилитарные темы.
[Закрыть], как может смрадная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь порядочной девушке. Разъясни нам автор хоть это, – мы бы готовы были проследить его рассказ шаг эа шагом, и вступить с ним в какие угодно художественные и психологические рассуждения. Но ведь и этого нет: пять месяцев, в которые возникла и дошла до своего страшного пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини от нас скрыто, и автор, по-видимому, смыслит в его тайнах не больше нашего. Мы с доверием обращаемся к нему и спрашиваем: как же это могло случиться? А он отвечает: вот подите же – случилось, да и только. – Да, пожалуй, прибавит к этому: чрезвычайно странный случай… а впрочем, это бывает. – Не угодно ли искать художественного смысла в подобном произведении?
А потом, когда Наташа уже совершила свой странный шаг, нелепость которого она понимала еще раньше, потом – как она жила с Алешей? Какой процесс совершился в душе ее с первых дней этой новой жизни до того дня, когда мы в первый раз опять видим ее в разговоре с Иваном Петровичем и когда она высказывает решение, что с Алешей должна расстаться? Обо всем этом мы имеем несколько незначительных слов, вброшенных мимоходом в описание квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющих… Как видно, не это интересовало автора, не тут было для него главное дело. В чем же? Разобрать трудно уже и потому, что действие романа странным и ненужным образом двоится между историей Наташи и историею маленькой Нелли, чем решительно нарушается стройность впечатления. Но как обе эти истории вертятся около князя Валковского, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляет именно воспроизведение характера этого князя. А всматриваясь в изображение этого характера, вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица… Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости, – этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя… Нет, ничего, ни попытки, ни намека… Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему наконец верит? А если ничему не верит, если у него душа совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот любопытный процесс? Мы вправе требовать от автора объяснений на подобные вещи, даже не предъявляя на него особенно громадных претензий. Не говоря о гигантах поэзии, мы имеем даже у себя произведения, удовлетворяющие этим скромным требованиям: мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до своего настоящего характера, даже знаем отчасти, как обленился Илья Ильич Обломов… Но г. Достоевский этим требованием пренебрег совершенно. Как же после этого разбирать характер князя с эстетической точки зрения?
Да и вообще надо быть слишком наивным и несведущим, чтобы серьезно и пространно, с доказательствами, выписками и примерами разбирать эстетическое значение романа, который даже в изложении своем обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение. Во всем романе действующие лица говорят, как автор; они употребляют его любимые слова, его обороты; у них такой же склад фразы… Исключения чрезвычайно редки. Начиная с того, что все лица называют друг друга непременно голубчиком (исключая, может быть, князя), и оканчивая тем, что они все любят вертеться на одном и том же слове и тянуть фразу, как сам автор, – во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя. Можно бы обо всем этом долго толковать, если б мне не было скучно убеждать читателей в том, что для меня, в сущности, вовсе не интересно; можно бы сгруппировать несколько выписок, которые все вместе представляли бы нечто довольно комическое. Но от всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуй, одну только выписку, зато длинную, – это когда Наташа, понявши намерение князя, объясняет ему, что значило его сватовство. Сначала Наташа исторически излагает предшествовавшие обстоятельства до того вечера, когда Алеша объявил Кате, невесте своей, что любит Наташу. Затем она продолжает:
Вы спросили себя в тот вечер: что теперь делать? Алеша во всем подчинится, но в этом уж ни за что не подчинится; вполне испытано. Мало того, чем больше его гнать, мучить, – тем больше в нем будет сопротивления; потому что он именно таков, как все слабые, но честные люди; не гоните их, не преследуйте, они и не подумают сопротивляться; а преследуйте, то вы сами же разожжете в них сопротивление, которое без вашего преследования им бы и в голову, может быть, не пришло. Соблазном тоже, оказалось, теперь нельзя взять: прежнее влияние еще слишком сильно, и вы только в этот вечер вполне догадались, как оно сильно. Что ж делать?
Вы и придумали:
Что, если прекратить над ним всякое преследование? Что, если снять с него то, чем тяготится теперь его сердце, снять то, что он считает своим долгом, обязанностью? Ведь, может быть, тогда в нем пройдет и жар и все влечение к этим обязанностям.
Вот, например, он любит теперь эту Наташу; чего ж лучше: сказать ему прямо, что не только он может теперь ее любить, но даже позволяется ему исполнить в отношении к ней все свои обязанности, все, чем он страдает за эту Наташу, и не только позволить, но даже как-нибудь обратить это позволение чуть не в приказ, сказать ему, что он должен на ней жениться, чаще твердить ему, что это его обязанность, – одним словом все, что он говорил сам себе каждый день свободно, от сердца, все это обратить теперь даже в принуждение. Ну, что тогда будет?
– Наталья Николаевна! – вскричал князь. – Все это одно расстройство вашего воображения, ваша мнительность; вы вне себя, вы преувеличиваете! – И князь с видом сожаления пожал плечами.
– Вот что тогда будет, – продолжала Наташа, как будто не обращая ни малейшего внимания на слова князя. – Во-первых, думали вы, я окончательно привлеку к себе его сердце, и он устыдится всякой недоверчивости ко мне; а это мне очень пригодится теперь! Первое впечатление будет, положим, невыгодно; он обрадуется. Он хоть и увлекается новой любовью; но ведь он сам еще не знает про эту новую любовь, он до сих пор еще думает и уверен, что по-прежнему, как полгода назад, с тем же жаром, с тою же страстью любит свою Наташу. Он хоть и привязался к Катерине Федоровне, но думает, что это только так: ему хорошо, весело с нею, – известно почему; да он и не спрашивает об этом! И хоть сердце каждый день влечет его все сильнее к новой любви, но он совершенно уверен, что там, в прежней любви, у Наташи, все по-старому и никаких нет перемен. Он потому еще обрадуется, что действительно до сих пор еще любит эту Наташу; ведь она друг его, он так привык к ней; он даже об своей Кате (с которой он теперь на ты) едет к ней, к первой, рассказывать; он столько раз видел ее страдания, и столько сам страдал от ее страданий!.. И потому он обрадуется, положим так, да и пусть его; оно даже и хорошо: радость обновляет, через радость старое забывается; одно горе памятно: все это только на минуту; зато будущее выиграно…
Зато он, первый раз во все эти полгода, ляжет спать спокойно, с облегченным сердцем: оно уже не будет болеть за Наташу. Он не будет просыпаться во сне и с тоскою думать: «Как-то она? что-то она? чем это кончится? чем устроится?» Теперь все хорошо, и на другой же день он почувствует совсем невольно, без всякого расчета, что, слава богу, он уже не должник; теперь все устроилось, и она уже все получила, что он даже больше ей отдал, чем сама она думала; он отдаст ей всю свою будущность, и должна же она оценить это, тогда как до сих пор он должен был ценить все, чем жертвовала ему Наташа. Вот и легче на душе и дышится свободнее, и так невольно это все подумается, так без расчету, с таким добрым, теплым чувством! А вы смотрите да про себя думаете: «Это все хорошо: несколько дней пройдет, и с ним случится то же самое, что бывает со всеми влюбленными скоро после свадьбы; препятствий нет, все достигнуто, и любовь сама собою охладевает; там наступает скука; там захочется нового; жизнь не любит покоя: сердцу хочется жить.
А тут как нарочно новая любовь еще прежде началась; она уже есть, и изобретать ее не надобно».
– Романы, романы, – произнес князь вполголоса, как будто про себя, – уединение, мечтательность и чтение романов.
– Да, на этой-то новой любви вы все и основали, – продолжала Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь, – и какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки! В ту самую минуту, когда он в тот вечер открывается этой девушке, что он не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему это, – эта девушка вдруг выказывает перед ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он, хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтобы она была так прекрасна! Он и ко мне тогда приехал, – только и говорил что о ней; она слишком сильно поразила его. Да он назавтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка… И что за неблагодарная была бы эта Наташа, если б она ревновала даже к этой минутке? И вот незаметно отнимается у этой Наташи, вместо минуты, день, другой, третий… А между тем в это время девушка высказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом и своеобразном виде; она такая благородная энтузиастка, и в то же время она такой наивный ребенок, и в этом так сходна с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, неразлучности на всю жизнь. Правда, они с любовью говорят между собой и о Наташе, но они хотят жить втроем, всегда. «В какие-нибудь пять-шесть часов разговора» вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается все… Тут еще новые идеи, и причина их опять Катя. Он еще, может быть, не сейчас начинает сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Придет это время; он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями; там все знакомое, всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы… А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком… а главное: все такое прежнее, известное…
Силлогизмы Наташи поразительно верны, как будто она им в семинарии обучалась. Психологическая проницательность ее удивительна, постройка речи сделала бы честь любому оратору, даже из древних. Но, согласитесь, ведь очень приметно, что Наташа говорит слогом г. Достоевского? И слог этот усвоен большею частью действующих лиц.