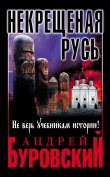Текст книги "Русская идея. Миросозерцание Достоевского (сборник)"
Автор книги: Николай Бердяев
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Возможны три решения вопроса о мировой гармонии, о рае, об окончательном торжестве добра: l) гармония, рай, жизнь в добре без свободы избрания, без мировой трагедии, без страдания и творческого труда; 2) гармония, рай, жизнь в добре на вершине земной истории, купленная ценой неисчисляемых страданий и слез всех обреченных на смерть человеческих поколений, превращенных в средство для грядущих счастливцев; 3) гармония, рай, жизнь в добре, к которым приходит человек через свободу и страдание в плане, в который войдут все когда-либо жившие и страдавшие, т. e. в Царстве Божьем. Достоевский решительно отвергает первые два решения вопроса о мировой гармонии и рае и приемлет только третье решение. В этом сложность идейной диалектики Достоевского о мировой гармонии и прогрессе. Не всегда легко понять, на чьей стороне сам Достоевский. Что принимает сам Достоевский в замечательных мыслях героя «Записок из подполья» и Ивана Карамазова? Каково, наконец, его отношение к земному раю в «Сне смешного человека» и в картине, нарисованной Версиловым? Жизнь идей самого Достоевского нельзя понимать статически – она в высшей степени динамична и антиномична. У него нельзя искать простое «да» и «нет». В бунте подпольного человека и Ивана Карамазова против грядущей мировой гармонии, против религии прогресса Достоевский видит положительную правду, она на их стороне, он сам бунтует. Он в гениальной диалектике раскрывает основные противоречия учения о прогрессе. Путь прогресса влечет человечество к грядущей гармонии, всеобщему счастью и райскому блаженству тех, которые взберутся на его вершину. Но он несет смерть тем бесконечным поколениям, которые своим трудом и своим страданием уготовили эту гармонию. Можно ли нравственно принять гармонию, купленную такой ценой, мирится ли нравственная и религиозная совесть с идеей прогресса? И в словах Ивана Карамазова звучит голос самого Достоевского, его собственная страстная идея: «В окончательном результате я мира этого Божьего – не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут, изгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусное измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого «эвклидовского ума», что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится что-то до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими крови, чтобы не только можно было простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, – пусть, пусть это все будет и явится, но я-то всего этого не принимаю и не хочу принять». «Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями моими унавозить какую-то будущую гармонию». «Если все должны страдать, чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем не понятно, для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили для кого-то будущую гармонию?» «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезками своими к «Боженьке». Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии». И Иван Карамазов отказывается быть архитектором здания судьбы человеческой, если для этого необходимо замучить лишь одно крохотное созданьице. Он отказывается и от познания добра и зла. «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» Иван Карамазов возвращает Богу свой билет на вход в мировую гармонию. Вполне ли разделял Достоевский ход мыслей Ивана Карамазова? И да, и нет. Диалектика Ивана Карамазова есть диалектика «Эвклидова ума», это – диалектика атеиста, отказавшегося принять Смысл мировой жизни. Достоевский возвышается над ограниченностью «Эвклидова ума», и он верит в Бога и в Смысл мира. Но в бунте Ивана Карамазова есть момент раскрывающейся правды, которая есть правда и самого Достоевского. Если нет Бога, если нет Искупителя и искупления, если нет смысла исторического процесса, скрытого для «Эвклидова ума», то мир должен быть отвергнут, то от грядущей гармонии должно отказаться, то прогресс есть безобразная идея. Иван Карамазов в своем бунте идет дальше всех обычных глашатаев религии прогресса, религии революционного социализма. Он отвергает не только Бога, но и мир. В этом есть гениальное прозрение. Обычно атеистическое сознание приходит к мирообожествлению. Мир утверждается с особенной силой именно потому, что нет Бога, нет ничего кроме «мира сего». Если нет божественного Смысла в мире, то человек сам полагает этот смысл в грядущей мировой гармонии. Достоевский идет дальше, он раскрывает последние пределы бунта, отвергающего Бога и божественный Смысл мира. Атеизм «Эвклидова ума» должен отвергнуть и мир, должен восстать и против грядущей мировой гармонии, должен отбросить последнюю религию, религию прогресса. И в этом пределе бунта есть соприкосновение с какой-то положительной правдой. После этого остается лишь один путь, путь ко Христу. Предел бунта есть небытие, уничтожение мира. Так изобличаются иллюзии революционной религии прогресса. Вот почему Достоевский наполовину вместе с Иваном Карамазовым. Через его диалектику он ведет нас ко Христу. Мир может быть принят, и исторический прогресс с его неисчислимыми страданиями оправдан, если есть божественный Смысл, скрытый от «Эвклидова ума», если есть Искупитель, если жизнь в этом мире есть искупление и если окончательная мировая гармония достигается в Царстве Божьем, а не в царстве мира сего.
Путь своеволия и бунта приводит к отрицанию своих результатов, он самоубийствен. Революционный путь своеволия ведет к религии прогресса и религии социализма. Но в пределе он неизбежно отвергает религию прогресса и религию социализма. Бунт против истории должен перейти в бунт против последних результатов истории, против конечной ее цели. Для того чтобы оправдать и принять грядущее, нужно оправдать и принять прошедшее. Будущее и прошедшее имеют одну судьбу. Необходимо победить дурное разорванное время, соединить прошлое, настоящее и будущее в вечности. Тогда только мировой процесс может быть оправдан. Тогда только можно примириться со «слезинкой ребенка». Мировой процесс можно принять, если есть бессмертие. Если бессмертия нет, то мировой процесс должен быть отвергнут. Это была основная мысль Достоевского. Поэтому второе решение вопроса о мировой гармонии, предлагаемое религией прогресса, Достоевский радикально отвергает и восстает против него. Но неприемлемо для него и первое решение. Мировая гармония без свободы, без познания добра и зла, не выстраданная трагедией мирового процесса, ничего не стоит. К потерянному раю нет возврата. К мировой гармонии человек должен прийти через свободу избрания, через свободное преодоление зла. Принудительная мировая гармония не может быть оправдана и не нужна, не соответствует достоинству сынов Божьих. Так изобличается рай в «Сне смешного человека». Человек должен до конца принять страдальческий путь свободы. И Достоевский раскрывает уже последние результаты этого пути. Мирообожествление и человекообожествление ведет к гибели и небытию. И неизбежен переход на путь богочеловеческий. Во Христе примиряется человеческая свобода с божественной гармонией. Раскрывается возможность третьего решения вопроса о мировой гармонии. Вопрос о мировой гармонии и рае для Достоевского разрешался через церковь. У Достоевского была своя теократическая утопия, которую он противополагал не толъко утопиям социального рая на земле, но и утопии католической теократии. Церковь призвана царствовать в мире. «Не церковь превращается в государство, – говорит отец Паисий. – То Рим и его мечта. То третье дьяволово искушение. А напротив, государство обращается в церковь, доходит до церкви и становится церковью на земле. Что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От востока земля сия воссияет». «Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков». Церковь не есть еще царство, царство Божье, как учит вслед за Бл. Августином католичество. Но в церкви должно раскрыться царство. Это будет новое откровение в церкви, к которому Достоевский был обращен, как к осуществлению пророческой стороны христианства. В русском народе, как народе апокалиптическом, должна раскрыться эта религиозная новь, но в нем же и изобличится окончательно неправда атеистической революции и атеистического социализма. В новом христианстве, к которому обращается Достоевский, должна раскрыться необычайная свобода и братство во Христе. Социальную любовь противополагал Достоевский социальной ненависти. Как и все русские религиозные мыслители, Достоевский был противником «буржуазной» цивилизации. И он был врагом Западной Европы, поскольку в ней побеждала эта «буржуазная» цивилизация. В его собственной теократической утопии можно найти элементы своеобразного христианского анархизма и христианского социализма, столь противоположного анархизму атеистическому и социализму атеистическому. Его отношение к государству было не до конца продумано. Его монархизм имел анархическую природу. Это приводит нас к идее религиозного мессианизма, с которым связаны положительные религиозно-общественные идеи Достоевского, к русскому религиозному народничеству.
Глава VII
Россия
Достоевский был до глубины русский человек и русский писатель. Его нельзя себе представить вне России. По нему можно разгадывать русскую душу. И сам он был загадкой русской природы. Он совмещал в себе всю противоречивость этой природы. По Достоевскому люди Запада узнают Россию. Но Достоевский не только отражал строй русской души и познавал его, он был также сознательным глашатаем русской идеи и русского национального сознания. И в нем отразились все антиномии и все болезни нашего национального самосознания. Русское смирение и русское самомнение, русскую всечеловечность и русскую национальную исключительность можно открыть в Достоевском, когда он выступает проповедником русской идеи. Когда в своей прославленной речи о Пушкине Достоевский обратился к русским людям, со словами: «Смирись, гордый человек», – то смирение, к которому он призывал, не было простым смирением. Он считал русский народ самым смиренным народом в мире. Но он был горд этим смирением. И нередко русские люди гордятся своим исключительным смирением. Достоевский считал русский народ «народом-богоносцем», единственным «народом-богоносцем». Но такое исключительно мессианское сознание не может быть названо смиренным сознанием. В нем воскресает древнее самочувствие и самосознание народа еврейского. Двойственным и противоречивым было также отношение Достоевского к Европе. Мы увидим, что Достоевский был настоящим патриотом Европы, ее великих памятников и святынь, ему принадлежат изумительные слова о Европе, которых не сказал ни один западник. В его отношении к Европе сказывается всечеловечность русского духа, способность русского человека переживать все великое, что было в мире, как свое родное. Но он же отрицал, что народы Европы – христианские народы, он произносил смертный приговор Европе. Он был шовинистом. И много есть несправедливого в его суждениях о других национальностях, например о французах, поляках и евреях. Русское национальное самочувствие и самосознание всегда ведь было таким, в нем или исступленно отрицалось все русское и совершалось отречение от родины и родной почвы, или исступленно утверждалось все русское в исключительности, и тогда уже все другие народы мира оказывались принадлежащими к низшей расе. В нашем национальном сознании никогда не было меры, никогда не было спокойной уверенности и твердости, без надрыва и истерии. И в величайшем нашем гении – Достоевском – нет этой твердости, нет вполне созревшего духовно-мужественного национального сознания, чувствуется болезнь нашего национального духа.
Очень своеобразно строение русской души и отличается от строения души западного человека. В русском Востоке открывается огромный мир, который может быть противопоставлен всему миру Запада, всем народам Европы. И чуткие люди Запада это прекрасно чувствуют. Их притягивает загадка русского Востока. Россия есть великая равнина с бесконечными далями. На лице русской земли нет резко очерченных форм, нет границ. Нет в строении русской земли многообразной сложности гор и долин, нет пределов, сообщающих форму каждой части. Русская стихия разлита по равнине, она всегда уходит в бесконечность. И в географии русской земли есть соответствие с географией русской души. Строение земли, география народа всегда бывает лишь символическим выражением строения души народа, лишь географией души. Все внешнее всегда есть лишь выражение внутреннего, лишь символ духа. И равнинность русской земли, ее безгранность, бесконечность ее далей, ее неоформленная стихийность есть лишь выражение равнинности, безгранности русской души, ее бесконечных далей, ее подвластности неоформленной национальной стихии. Все это лишь символы природы русского человека. Не случайно народ живет в этой или иной природе, на той или иной земле. Тут существует внутренняя связь. Сама природа, сама земля определяется основной направленностью народной души. Русские равнины, как и русские овраги, символы русской души. Во всем строении русской земли чувствуется трудность для человека овладеть этой землей, придать ей форму, подчинить ее культуре. Русский человек во власти своей природы, во власти своей земли, во власти стихии. Это означает, что в строении души русского человека форма не овладевает содержанием, душевно-телесной стихией не овладевает дух. В самом строении русской земли чувствуется затруднительность самодисциплины духа для русского человека. Душа расплывается по бесконечной равнинности, уходит в бесконечные дали. Даль, бесконечность притягивают русскую душу. Она не может жить в границах и формах, в дифференциациях культуры, душа эта устремлена к конечному и предельному, потому что она не знает границ и форм жизни, не встречает дисциплинирующих очертаний и пределов в строении своей земли, в своей стихии. Это – душа апокалиптическая по своей основной настроенности и устремленности. Душа исключительно чуткая к мистическим и апокалиптическим токам. Она не превращена в крепость, как душа европейского человека, не забронирована религиозной и культурной дисциплиной. Эта душа открывается всем далям, устремлена в даль конца истории. Она легко отрывается от всякой почвы и уносится в стихийном вихре в бесконечную даль. В ней есть склонность к странствованию по бесконечным равнинам русской земли. Недостаток формы, слабость дисциплины ведет к тому, что у русского человека нет настоящего инстинкта самосохранения, он легко истребляет себя, сжигает себя, распыляется в пространстве. Замечательные слова сказаны A. Белым в чудесном стихотворении, посвященном России:
Русская душа способна дойти до упоения гибелью. Она мало чем дорожит, мало к чему крепко привязана. У нее нет такой связи с культурой, такой скованности традицией и преданием, как у души западноевропейской. Русский человек чересчур легко переживает кризис культуры, не познав еще настоящим образом культуры. Отсюда характерный для русского человека нигилизм. Он легко отказывается от науки и искусства, от государства и хозяйства, бунтует против унаследованных связей и устремляется в царство неведомого, в неведомую даль. Русская душа способна на радикальные эксперименты, на которые неспособна душа европейская, слишком оформленная, слишком дифференцированная, слишком закованная в пределах и границах, слишком связанная с традицией и преданием своего рода. Только над русской душой можно было производить те духовные эксперименты, которые производил Достоевский. Достоевский исследовал бесконечные возможности человеческой души, формы и пределы души западноевропейской, ее культурная связанность и рациональная затверделость были бы препятствием для такого рода исследований. Вот почему Достоевский мыслим только в России и только русская душа может быть материалом, над которым он совершал свои открытия.
Достоевский был своеобразным народником, он исповедовал и проповедовал религиозное народничество. Народничество – оригинальное порождение русского духа. Народничества нет на Западе, это – чисто русское явление. Только в России и можно встретить эти вечные противоположения «интеллигенции» и «народа», эту идеализацию «народа», доходящую до преклонения перед ним, это искание в «народе» правды и Бога. Народничество всегда было знаком слабости в России культурного слоя, отсутствия в нем здорового сознания своей миссии. Россия сложилась в необъятное и темное мужицкое царство, возглавленное царем, с незначительным развитием классов, с немногочисленным и сравнительно слабым высшим культурным слоем, с гипертрофией охранительного государственного аппарата. Такое строение русского общества, очень отличное от общества европейского, вело к тому, что наш высший культурный слой чувствовал свою беспомощность перед народной стихией, перед темным океаном народным, чувствовал опасность быть поглощенным этим океаном. Культурный слой поддерживался царской властью не в меру потребности в народе на высшую культуру. Царская власть, санкционированная религиозно в сознании народа, и охраняла культурный слой от народной тьмы, и гнала его. Он чувствовал себя в тисках. В XIX веке сознание культурного слоя, который с известного момента начал именовать себя «интеллигенцией», сделалось трагическим. Это сознание – патологическое, в нем нет здоровой силы. Высший культурный слой, не имевший крепких культурных традиций в русской истории, не чувствовавший органической связи с дифференцированным обществом, с сильными классами, гордыми своим славным историческим прошлым, был поставлен между двумя таинственными стихиями русской истории – стихией царской власти и стихией народной жизни. Из инстинкта духовного самосохранения он начал идеализировать то одно, то другое начало, то оба вместе, искать в них точки опоры. Над темной бездной народной, необъятной, как океан, ощущал культурный слой всю свою беспомощность и жуткую опасность быть поглощенным этой бездной. И вот культурный слой, переименованный после прихода разночинцев в «интеллигенцию», капитулировал перед народной стихией, начал поклоняться той стихии, которая грозила его проглотить. «Народ» представлялся «интеллигенции» таинственной силой, чуждой и притягивающей. В народе скрыта тайна истинной жизни, в нем есть какая-то особенная правда, в нем есть Бог, который утерян культурным слоем. «Интеллигенция» не чувствовала себя органическим слоем русской жизни, она утеряла цельность, оторвалась от корней. Цельность сохранилась в «народе», «народ» живет органической жизнью, он знает какую-то непосредственную правду жизни. Культурный слой не в силах был признать свою культурную миссию перед народом, своего долга вносить свет в тьму народной стихии. Он сомневался в собственной светоносности, не верил в свою правду, подвергал сомнению безусловную ценность культуры. С таким отношением к культуре, которое проявлялось в нашем культурном слое, нельзя выполнять настоящей культурной миссии. Правда культуры была подвергнута религиозному, нравственному и социальному сомнению. Культура родилась в неправде, она куплена слишком дорогой ценой, она означает разрыв с народной жизнью, нарушение органической цельности. Культура есть вина перед «народом», уход от «народа» и забвение «народа». Это чувство вины преследует русскую интеллигенцию на протяжении всего XIX века и подрывает творческую культурную энергию. В русской «интеллигенции» совсем не было сознания безусловных ценностей культуры, безусловного права творить эти ценности. Культурные ценности подвергаются нравственному сомнению, заподазриваются. Это очень характерно для русского народничества. Правду ищут не в культуре, не в ее объективных достижениях, а в народе, в органической стихийной жизни. Религиозная жизнь представляется не духовной культурой, не культурой духа, а органической стихией. Я даю характеристику первооснов русского народничества, независимо от его разных направлений и оттенков. В действительности, народничество у нас прежде всего распадается на религиозное и материалистическое. Но и в материалистическом народничестве, которое было вырождением нашего культурного слоя, сказывается та же психология, что и в народничестве религиозном. У русских атеистических социалистов-народников есть черты сходства с народниками-славянофилами. Та же идеализация народа, то же заподазривание культуры. В нашем крайнем «правом» и крайнем «левом» направлении иногда бывают поразительные черты сходства, скрыта та же враждебная культуре «черносотенная» стихия. Одна и та же болезнь нашего национального духа обнаруживается на противоположных полюсах. Та же нераскрытость и неразвитость у нас личного начала, культуры личности, культуры личной ответственности и личной чести. Та же неспособность к духовной автономии, та же нетерпимость, искание правды не в себе, а вне себя. Отсутствие рыцарства в русской истории имело роковые последствия для нашей нравственной культуры. Русский «коллективизм» и русская «соборность» почитались великим преимуществом русского народа, возносящим его над народами Европы. Но в действительности это означает, что личность, что личный дух недостаточно еще пробудились в русском народе, что личность еще слишком погружена в природную стихию народной жизни. Поэтому только народническое сознание могло чувствовать правду и Бога не в личности, а в народе.
Что же такое «народ» для народнического сознания, что это за таинственная сила? Само понятие «народа» остается очень нечетким и смешанным. «Народ» в господствующих формах народнического сознания не был нацией как целостным организмом, в который входят все классы, все слои общества, все исторические поколения, интеллигент и дворянин так же, как и крестьянин, купец и мещанин а так же, как и рабочий. Слово «народ» имеет тут не только этот онтологический и единственно правомерный смысл, оно прежде всего имеет смысл социально-классовый. «Народ» есть по преимуществу крестьяне и рабочие, низшие классы общества, живущие физическим трудом. Поэтому дворянин, фабрикант или купец, ученый, писатель или художник – не «народ», не органическая часть «народа», они противополагаются «народу», как «буржуазия» или как «интеллигенция». В нашем «левом» революционном и материалистическом народничестве окончательно возобладало такое социально-классовое понимание «народа». Но удивительно, что и в народничестве религиозном, и в славянофильстве есть это социально-классовое понимание «народа», и в резком противоречии с органическим направлением славянофильского сознания. И для славянофила, и для Достоевского «народ» есть прежде всего простонародье, крестьянство, мужики. Для них культурный слой оторвался от народа и противоположен «народу» и народной правде. Правда в мужиках, а не в дворянах, не в интеллигенции. Мужики хранят истинную веру. У высшего культурного слоя отнимается право чувствовать себя органической частью народа, раскрывать в собственной глубине народную стихию. Если я дворянин или купец, если я ученый или писатель, инженер или врач, то я не могу чувствовать себя «народом», я должен ощущать «народ» как противоположную себе таинственную стихию, перед которой должен склониться как перед носительницей высшей правды. Имманентное отношение к «народу и «народному» невозможно, и отношение это останется трансцендентным. «Народ» – это есть прежде всего «не-я», противоположное мне, то, перед чем я склоняюсь, что в себе заключает «правду», которой во мне нет, то, перед чем я виноват. Но это – рабское сознание, в нем нет свободы духа, нет сознания собственного духовного достоинства. Ложное «народничество» Достоевского находится в противоречии с замечательными словами о русском дворянстве, вложенными в уста Версилова: «Я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не бывший высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех. Это – тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас может быть всего только тысяча человек – может более, может менее, но вся Россия жила пока лишь для того, чтобы произвести эту тысячу».
Величайшие русские гении на вершине своей духовной жизни и своего культурного творчества не выдерживали испытания высоты и горной свободы духа, они пугались одиночества и бросались вниз, в низины народной жизни, и от слияния с этой стихией надеялись обрести высшую правду. У русских замечательных людей нет пафоса горного восхождения. Они боятся одиночества, покинутости, холода, ищут тепла коллективной народной жизни. В этом существенно отличается русский гений – Достоевский от европейского гения Ницше. И Толстой и Достоевский не выдерживают высоты и бросаются вниз, их притягивает эта темная, необъятная, таинственная стихия народная. В ней более уповают они найти правду, чем в горном восхождении. Таковы были и первые выразители нашего национального сознания – славянофилы. Они стояли на высоте европейской культуры, были самыми культурными русскими людьми. Они поняли, что культура может быть лишь национальной, и в этом они более походили на людей Запада, чем наши «западники». Но они капитулировали перед мужицким царством, ниспали в его таинственную бездну. Они не нашли в себе сил отстаивать свою правду, раскрывать ее в глубине как национальную, общенародную правду, они сбились на путь понимания «народа» как простонародья, противоположного культурному слою, и это имело роковые последствия для нашего национального самосознания. В нашем «левом», безрелигиозном народничестве были пожаты роковые плоды социально-классового понимания «народа». Бездна между «интеллигенцией» и «народом» была углублена и узаконена. Национальное сознание сделалось невозможным, возможным оказалось только народническое сознание. А между тем в славянофильстве были заложены основы для органического понимания «народа» как нации, как мистического организма. Но и славянофилы пали жертвой недуга, болезни нашего культурного слоя. Тот же недуг поражает сознание Достоевского. Марксизм теоретически разложил понятие «народа» на классы и этим нанес удар народническому сознанию, но потом сам подвергся народническому перерождению.
Народничество Достоевского – особенное народничество. Это народничество религиозное. Но и славянофилы исповедовали религиозное народничество. Кошелев говорил, что русский народ хорош только с православием, а без православия – дрянь. Славянофилы верили, что русский народ – самый христианский и единственный христианский народ в мире. Но религиозная вера Достоевского в русский народ принадлежит уже другой эпохе. Славянофилы чувствовали себя еще крепко вросшими в землю и землю чувствовали еще твердой под собой. Они были бытовыми людьми, знавшими бытовой уют. В них сильно еще было благодушие русских помещиков, выросших в родных гнездах и всю жизнь остававшихся собственниками этих гнезд. Ничего катастрофического, никаких предчувствий неведомого апокалиптического будущего у них нельзя найти. Достоевский целиком принадлежит эпохе катастрофического мироощущения, эпохе, религиозно обращенной к Апокалипсису. Его мессианское народное сознание становится универсальным, всемирным, обращенным к судьбе всего мира. Славянофилы все еще были провинциалами по сравнению с Достоевским. Отношение Достоевского к Европе существенно иное, чем у славянофилов, несоизмеримо более сложное и более напряженное. И отношение к русской истории меняется. Достоевский не склонен уже исключительно идеализировать допетровскую Русь. Он придает огромное значение Петербургу, петровскому периоду русской истории. Он писатель этого периода. Его интересует судьба человека в петербургской, петровской России, сложный трагический опыт русского скитальца, оторвавшегося от родной почвы в этот период. В этом он идет за Пушкиным. Сама призрачностъ Петербурга, так гениально им описанная, привлекает Достоевского. Ему совсем чужд московский помещичий и крестьянский быт. Он исключительно занят русской «интеллигенцией» в петербургский период русской истории. Он весь в предчувствиях грядущих катастроф. Он писатель эпохи, в которую началась уже внутренняя революция. Достоевский не был славянофилом в традиционном смысле этого слова, как не был славянофилом и Константин Леонтьев. Это – люди новой формации. В славянофилах не было этой исключительной динамичности Достоевского.
В «Дневнике писателя» мы находим ряд отрицательных отзывов о славянофилах, не всегда даже справедливых: «Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности». Достоевский защищает «западников» в противовес славянофилам. «Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах?» «Мы хотели только заявить о несколько мечтательном элементе славянофильства, который иногда доводит его до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью. Так что во всяком случае западничество было все-таки реальнее славянофильства, и несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с места и даже вменяло это себе в большую честь. Западничество смело задало себе последний вопрос, с болью разрешило его и, через самосознание, воротилось все-таки на народную почву и признало соединение с народными началами и спасение в почве. Мы, со своей стороны, заявляем как факт и твердо верим в непреложность того, что в теперешнем, чуть не всеобщем повороте к почве, сознательном и бессознательном, влияние славянофилов слишком мало участвовало и даже, может быть, совсем не участвовало». Достоевский ценит западников за их опыт, за более сложное сознание, за динамизм воли.