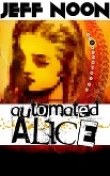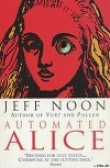Текст книги "Мое Королевство"
Автор книги: Ника Ракитина
Соавторы: Елена Ольшанская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Перейдем ко второму вопросу, – ядовито продолжил Канцлер. – Вам знакомо вот это, мессир?
Ярран бегло оглядел всученный пергамент, свободной рукой вытирая потный лоб. Давно перевалило за полдень, но солнце жарило все так же нестерпимо.
– Где вы это взяли? – глухим голосом спросил барон. Гэлад слабо покраснел:
– Скажем так, одолжил. Позволите зачитать?
Мастер Лезвия снова вытер лоб:
– А потом вы спросите, кто это написал?
– Однако, – хмыкнули из угла.
– И кто это написал? – спросил Всадник.
– Моя невеста, мона Алиса да Шер. Только это не имеет значения, – Ярран вытер лоб беретом, который стискивал в руке, и отбросил его, как ненужную тряпку. – Читайте.
– Дрожь… дрожь прошла по земле, – начал Гэлад неровным голосом, приспосабливаясь к почерку, – …это в ее глубинах вставал прекрасный Индрик-зверь. Посыпались камни и мелкие комья…
Потянуло внезапным холодом. В воздухе вот только щедро одаряемого солнцем чердака повисла зернистая серая муть, застящая то ли стропила дырявой крыши и небо над ней, то ли личное зрение каждого из собравшихся.
– …с переплетенными травинками, и все воды двинулись навстречу повелителю. Засеребрились родники, вспухли ручьи, – все более уверенно читал худой Роханский Всадник, – …всколыхнулась застоялая болотная вода, и в зеркалах озерец, испятнивших землю, переплелись молнии и радуги.
Мастеровой с иноземным именем Виктор выглянул в узкое окно. Голубые Дневные молнии над Твиртове вдруг рассекло золотым, и почти сразу, заставив человека отшатнуться, громыхнул гром. Гэлад повысил голос:
– Женщина вместе с конем укрылась от ливня под вязом. Тяжелые капли шлепались, заставляя поочередно подпрыгивать резные листочки, и иногда каскады воды прорывались сквозь отяжелевшие ветки, делая темнее серо-черную куртку женщины и такую же темную льснящую шкуру коня – огромного, с широкой холкой и тяжелыми бабками, заросшими мохнатой шерстью, с широкими копытами, увязающими в земле. Струи воды бежали по морщинистому стволу, по лицу и волосам женщины, и она отирала их насквозь промокшим рукавом.
Теперь уже грохотало и сверкало вовсю, некоторые слова терялись за грохотом, сквозь прорехи крыши летели теплые тяжелые капли. Фиолетовые строчки стали стекать с пергамента, и чернокосая Айша догадалась укрыть и его, и подмокающего Всадника плащом. Гроза свершилась раньше ночи, свершилась неожиданно и невероятно, забив голубое сверкание над цитаделью плоско легшими золотыми молниями, похожими на лес.
Индрик-зверь шествовал, высекая молнии, по поднебесным чертогам, и навстречу ему, протяжно гремя, катилась по булыжникам Перунова повозка.
Ливень этот, вскипающий на лужах пузырями, буйствовал куда дольше, чем положено таким ливням, и когда женщина поняла, что стоя под деревом, сделалась такой же мокрой, что и в открытом поле – вскочила в седло.
И лишь только было произнесено последнее слово, лишь только люди на башне вспомнили, что умеют дышать, последняя золотая ветка ударила в верхний уступ Твиртове, сбивая шатровую крышу, к кислому запаху в воздухе примешалась гарь, а потом, невзирая на монолитную серую стену льющего из туч дождя, над крепостью радостно заскакал огонь…
Глава 2.
– А вот спорим, – Кешка задумчиво огладил голое пузо. – Спорим, что я в тумбочку залезу.
– Задаром?
– Ща! За пряник.
– Ну, лезь.
Условно воспитательская комната медленно наполнялась. Входящие занимали сперва высокие с кожаными спинками стулья, потом, когда стулья закончились, растеклись по подоконнику, кровати с железными шишками и совсем не дворянскими перинами и угнездились на ореховом комодике с завитушечками, который Кешка почему-то окрестил тумбочкой. Пестрое общество незаметно сглатывало буржуйский быт, таяли рюшечки, салфеточки, бисквитные котики и жилистая герань на окне. Герань, впрочем, исчезла вполне обыкновенно: решая квартирный вопрос, ее просто своротили на пол. Останки растения собрали в горшок, а землю подошвами хозяйственно заскребли под коврики. До Кешкиного заявления разговоры бубнились по углам, не пересекаясь. Александр Юрьевич, пробуя расчистить себе дорогу к розетке, балансировал с ведром воды в правой руке и кипятильником в левой. Общество презрело макароны по-флотски и собиралось гонять чаи. С пряниками. Но ведро, в которое бухнули целую пачку окаменевшей заварки, будет кипеть час, а есть пряники Кешке хотелось немедленно.
– Ну лезь, лезь, – сказал Александр Юрьевич с ленивой издевкой, втыкая вилку в гнездо.
Кешка постоял, поежился, как перед прыжком в холодную воду, потом сложился вчетверо и унырнул в ящик.
– До конца не задвигайте, а то задохнусь. И пряник давайте.
– Дети! – воззвал Александр Юрьевич, – принесите Кеше пряник. А ты сиди, кто ж тебе потом поверит…
Кешка заголосил, что судьба к нему несправедлива, но ор его, казалось бы, мощный, потонул в истеричном визге врывающихся девиц. Складывалось впечатление, что бежит табунок принцесс, преследуемый ма-аленькой мышкой. Процессию завершала Ирочка – мокрая и слегка навеселе.
– Какой ужас! – воскликнула она, когда девицы чуть-чуть рассосались по мебели. – Так и льет. – Ирочка вытерла влажное лицо. – Истомин, закройте форточку немедленно! Молния шаровая влетит.
– Уже влетела, – буркнули из-за занавески.
Кешка с криком выскочил из комода. Он всю жизнь мечтал увидеть шаровую молнию.
– Обманули маленького? – Кешка посопел. – Молния где? И мой пряник!
Кто-то из девиц утешил ребенка шоколадкой. Ирочке сунули полотенце и пообещали, что вот-вот будет чай.
– Просто жуть, – сказала Ирочка. – Мы там боимся. Мы тут посидим.
– А где Гай? – вопросил Сорэн-младший ревниво.
Стали подсчитывать друг друга. Обнаружилось, что не хватает Гая, нескольких девиц, Лаки и Юрочки Доценко, который убежал за пряником. Ирочка приняла решение пока не беспокоиться. Все равно двери усадьбы заперты изнутри, и окна в такую грозу раскроет только сумасшедший. А она не сомневалась во вверенном ей обществе.
В ведре наконец забулькало. Вереницей потянулись жестяные кружки, разномастные чашки и глиняная пиала устрашающих размеров. Не хватало только серебряного блюда эпохи правления Безобразной Эльзы. Но из блюда чай пить неудобно. Александр Юрьевич половником разливал черную жидкость и в каждую емкость самолично бросал кусочек рафинаду, приговаривая, что сахара мало, а любителей много.
– Ну, Хальк! – капризно надулась Ирочка, заглядывая в чашку. – Воспитателям положена двойная порция. За вредность.
Александр Юрьевич булькнул ей в чай еще кусок, произнеся историческую фразу:
– Солдат ребенка не обидит.
Кешка вынул зубы из вожделенного пряника и спросил невнятно:
– А почему Хальк?
Мессир старший воспитатель поперхнулся кипятком, едва не опрокинув кружку себе на колени.
– Дети, – взмолился он ненатурально, – дети, вы же «сказоцку» просили.
Дети загалдели, кто-то выключил свет, Кешка выволок из облюбованного ящика несколько поломанных хозяйских свечей. В комнате было тепло, гроза за окнами казалась далекой и не мокрой. Уютно потрескивали свечи, с которых Кешка послюнявленными пальцами снимал нагар. Глаза слушателей были внимательны, и Хальк почувствовал, что не просто так эта сказка, что-то будет… в воздухе сгустилось предощущение. Впервые он без боли вспомнил Алису. Только на Ирочку не смотреть… и хорошо, что Гая нету. В некоторых людях цинизм – как физическое уродство, совершенно непереносимо.
Только это будет не сказка.
…Полукруглое окно с витражными вставками по углам было распахнуто, вишневый свет Ночных молний заливал пространство, и казалось, что покой все еще в огне. А еще это походило на вспышки рекламы, и хотелось зажмуриться и покрутить головой, чтобы перед глазами перестали плавать цветные пятна.
На широком деревянном подоконнике стояло блюдо с вплавленной в мед виноградной кистью. По краю блюда ползала осоловевшая, совершенно счастливая оса. Оса была пьяная в тютельку и никак не желала понять, что уже настала ночь. Несколько раз с гуденьем подлетала на отяжелевших крылах и тут же шлепалась обратно.
– Вечно все ищут обходные пути. Нет, чтоб прямо полететь.
Одинокий Бог зачерпнул разбавленный соком мед и, щелчком сбив с ложки осу, с наслаждением всосал содержимое вытянутыми в трубочку губами. Янтарная липкая капля упала на клочковатую бороду.
Был одет Рене Краон по-домашнему, в вытянутый красный свитер и болтающиеся на жилистых ляжках посконные штаны, запросто сидел на подоконнике, качал босыми ступнями. Вспышки раскрашивали киноварью золотые, как у Христа, непричесанные волосы.
– И что мне с вами делать, Алиса?
Женщина плечом потерла щеку. Руки у нее были связаны за спиной. Сквозь лохмотья просвечивали синяки. Светил «фонарь» под глазом, распухла губа… в целом, мелочи.
– Мона Лебединская, волей Моей баронесса Катуарская и Любереченская, ну чего вам еще не хватает?! Зачем сбегать от жениха?
Он прошлепал к поставцу, щурясь от недостатка освещения, поднес к носу скипучий пергамен:
"12 июля, 1389 года. Эрлирангорд… Находясь в здравом уме и твердой памяти я, (тут перечисление титулов)… завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, заключающееся в… (это список, желаете заглянуть?) благородной моне Алисе да Шер (Рене хмыкнул), моей нареченной невесте, с правом владения, распоряжения, дарения и передачи по наследству…" Личная рука мессира Лебединского, между прочим. Ну, ниже печати Канцелярии Твиртове, нотариуса, личная печать барона и вензели. А вот это, – Одинокий помахал вторым листком, – распоряжение Епархиального управления Канцелярии о признании законным и действительным оглашения помолвки, состоявшегося во второе воскресенье июля в храме Краона Скорбящего на Рву.
Алиса молчала.
– Девица Орлеаньская! Готовитесь стерпеть пытки и даже смерть и ни словом не выдать соратников? – Рене хмыкнул. Трогательно поджал ступню: пол был холодным. – Поймите же! Этот мир создан единственно по Моему образу и подобию. В нем нет для меня тайн. И никто вас спасать не будет. Даже если очень захочет.
Они плавали во вспыхивающем и медленно затухающем вишневом киселе, и ей просто нечего было ему возразить.
– Хотите знать, как оно есть? – Одинокий Бог снова взгромоздился на подоконник. Щедро развел руками, задевая блюдо. Утонула ложка. Возмущенно зажужжала вернувшаяся на мед оса. – Вот это все придумано мной. И я совершенно не собираюсь этим делиться. Конечно. Всегда найдутся недовольные, несогласные, считающие мой мир неправильным. Убогим, серым. Но, раз уж он есть, значит, соответствует абсолюту. И поэтому я должен тебя убить.
Рене вытащил ложку за черенок, облизал ее и пальцы.
– В конце концов, у меня есть формальный повод. Поджог Твиртове. Впрочем… Помнишь: "Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог"? Так вот, это не фигура речи. Это реальность, данная нам в ощущение. Даже нет, не так. Мир Слова и мир вещей существуют вроде сами по себе, абсолют обычно проявляется сюда незаметно и естественно, следуя закону кармы. Но этот мир отличается тем, что Слово, универсальное, ритмизованное заклинание, абсолютный текст, который есть где-то там, может ворваться в реальность и взрывом, безо всякой видимой причины. Вот как ты, например. И перевернуть все, да так, что ни один из нас не уловит изменения. Говорят, храмы Кораблей были точками стабильности… сохраняли память о предыдущих эпохах. Знаешь, я извел их под корень, и людей, и храмы. Понимаешь, Корабельщик говорил, что каждый человек – это корабль. Не раб Божий – корабль! Разве я мог это стерпеть?
Он потер глаза. Голос звучал глухо, устало. Словно Одинокий Бог в самом деле нес на себе всю тяжесть мира.
– Так вот, чтобы изменить… все… сразу… Взрывом… Вторжением… нужно одно единственное: тот, кто откроет ему ворота…
…Дверь была сломана. Самым зверским образом. Видимо, неизвестные злодеи делали это долго и с упоением, под покровом ночи выдирая из нее замок. Золотились под солнышком рыжие щепки, широкий луч проникал в дыру, оставшуюся от хитрого устройства, и Гай, сидя перед дверью на корточках, морщился, потому что луч этот бил ему прямо в глаза. Замок валялся тут же, сверкал начищенными деталями, нагло отрицая версию о корысти бандитов. Рядом с замком, возя сандалькой по сырым доскам террасы, стоял Кешка. Голова у Сорэна-младшего была повинно опущена, он сопел, пыхтел и глотал слезы. И молчал, как партизан. А Гай, пылая педагогическим рвением, рассказывал брату, какая тот скотина, каторжник, вахлак и оболтус. Это ж додуматься! Чужая вещь, музейная, можно сказать! В общем, счас он позвонит в город, и за Кешкой приедет полиция.
– Так что иди и собирай вещи.
Кешка поднял на старшего брата несусветно красивые, полные слез глаза.
– Сам ты каторжник. Я на тебя жаловаться буду.
Гай по-птичьи заглянул в дыру одним глазом. Непонятно, что он там увидел, только обрадовался Кешкиным словам как-то не по-хорошему.
– Иди-иди, жалуйся, – сказал он. – Кто тебе поверит, бандиту. Я еще деду напишу, как ты кузена тут подвел. И вообще.
Кешка наконец заплакал. Но просто так плакать он не умел, не тот это был ребенок. Вместе со слезами на Гая обрушились яростные вопли.
– Феодал! – орал ребенок, размазывая сопли по щекам. – Деспот! Ты!.. Краон недобитый!
– Чего?
– Того! – рявкнул Кешка и бросился прочь.
Гай только плечами пожал. Не побежит он следом, пускай Кешенька и не надеется. Вот побегает и назад вернется, тогда Гай ему пропишет… и за замок, и за прочие художества. Он поднял с пола раскуроченный механизм, задумчиво покачал на ладони. Внутри замка что-то откликнулось мелодичным звоном. Гай ощутил прилив бессильного бешенства. Потом услышал скрип досок под чужими шагами. Опять эти обормоты. Гай поднял глаза. Над ним с непередаваемым выражением на лицах стояли двое: Саша Миксот, эсквайр, и старший воспитатель. Вдалеке, на травке, с удобствами расположились остальные.
– Вот, – нервно изрек Гай, протягивая замок. Голос трагически дрогнул. – Варвары. Ты знаешь, что он мне сказал? Что я Краон недоделанный. Хотел бы я знать, что это такое.
– А это, – охотно пояснил Саша Миксот, – это такой дядька.
– Саша, – с тоской безнадежной допытывался Хальк. – Ну зачем вы это сделали?
– А че?! – возмутился Лаки. – Я один, что ли?
Он еще постоял, дожидаясь, когда его начнут ругать, но мессиры воспитатели сидели на крыльце и в полном отупении пялились друг на друга. Не ждали они от ребенка такой простоты. Ребенок пожал плечами, перепрыгнул через перила и исчез вместе со всей компанией.
…А может, это были и не лютики. Маленькие, желтенькие такие. От них у Кешки рябило в глазах. С высоты лошади, где каждый мужчина благороднее раза в четыре, все равно, лютики это или «куриная слепота». Кешка втянул в себя остатки слез и принялся искать платочек. Потому как вытирать нос коротеньким рукавом затруднительно и неприлично. Кешка вспомнил вдруг, что он сын благородных родителей и вообще мужчина. Через плечо покосился на дядюшку. Когда он ворвался к мессиру управляющему с воплем: «На почту! Сейчас же! Или умру!», такие мелочи его еще не тревожили. Мессир Сорэн не стал добиваться причин этой спешки, молча оседлал Мишкаса и повез горе семьи Сорэнов в потребном направлении. Поскольку Феличе и сам принадлежал к означенной семье, то знал: лучше сразу действовать. А уши отодрать можно и позже.
– Спусти, – мрачно потребовал Кешка. – И отвернись.
– Деру дашь?
– Не, – Кешка все же вытер нос ладонью и стал спиной.
Мишкас с аппетитом хрумкнул цветочками.
– Не поедем, – сказал Кешка и тяжело вздохнул.
Дядюшка тоже вздохнул, слез с лошади и уселся на обочине с таким видом, что Кешка ощутил муки совести. Дергает занятого человека: то еду, то не еду…
– Я не ломал. Ну, почти…
– Ну, скажи мне, детище, зачем ты Гая Краоном обозвал?
– А он обиделся? – с надеждой спросил Кешка.
– Кто? Краон?
– Краон не мог обидеться, его Александр Юрьевич выдумал.
Мессир Феликс подался вперед, обхватывая руками колени.
– Погоди. Говоришь, выдумал?
Кешка почесал комариный укус на колене и взахлеб выложил всю сказочку. С такими подробностями, каких в ней и не было. Воображение у ребенка работало. Феликс задумчиво кивал головой, в положенных местах широко распахивал глаза, а иногда даже подбирал отвисающий подбородок. И Кешка старался вовсю. И тяжело вздохнул, когда история закончилась.
– В общем, вывез он ее на пустошь, и там, это… – в Кешкином голосе пробилась слеза.
Мишкас дожевал траву с одной обочины и перешел к другой, но Феличе не заметил выбрыков гнедого. Так и сидел. Громко голосили в траве кузнечики. Полуденное солнце жарило вовсю. Феличе поежился от озноба и встал.
– Поехали, дружок.
Он помог Кешке забраться на высокую спину Мишкаса и повел коня под уздцы. Это был хороший способ не оказаться с Кешкой лицом к лицу.
– Племянник сказал, что вы сожгли мои свечки.
Хальк покраснел. И пообещал на выходных съездить в поселок и возместить ущерб. Управляющий величаво отмахнулся: мол, не стоит. На коленях у него, свисая массивным задом, дрых тот самый котик. Отмахивался ухом от комаров. Мессира управляющего комары, похоже, не беспокоили. Невкусный он, что ли… Хальк завистливо вздохнул.
– Мы, наверное, завтра палатки опять поставим. Вам от нас одно беспокойство.
Сорэн улыбнулся. Улыбка эта была такая, что Хальк почувствовал себя очень неуютно. Уж лучше бы обругал.
– Ну отчего же, – сказал Сорэн вежливо. – Вовсе нет. Мне интересно. Дети у вас замечательные.
Хальк онемел. Не понимал он, что может быть замечательного в сорока с лишним обормотах, которые орут, дерутся, жгут хозяйские свечки и ломают хозяйские же замки, а по ночам хороводами отправляются на ловлю привидений. Вот только сегодня, вот совсем еще недавно он собственноручно изловил в коридоре компанию полусонных барышень. Барышни крались шумно, с повизгиваниями, с нервным хихиканьем, и топотали, как стадо сусликов. Предводительница каравана, тринадцатилетняя Лизанька Воронина, освещала путь классическим фонарем: горящей в бутылке с отбитым дном хозяйской свечкой. Завидев Халька, девицы спешно свечку задули, да было поздно. В пылу разборок выяснилось, что барышни ловили привидение. Являлось оно им. В саване с кружевами (и в лаптях с оборками, проворчал совершенно озверевший Хальк, но его не услышали). Имя призраку было, чего уж проще, Клод Денон безвинно убиенный. Этот Денон охотился на невинных девиц, жутко стонал и вообще… Упокоить его можно было только клубничным вареньем, причем обязательно в серебряной ложечке. Ложечку Воронина стащила из буфета в парадной столовой. Теперь надо было возвращать.
– Вот, – сказал Хальк. – Привет от замечательных детей.
Ложечка была красивая, с эмалевым черенком. По зеленой траве, под небывало ярким небом, шел паренек и играл на флейте. Мелко и тщательно выписанные детали включали даже черты лица и травинки. Феликс Сорэн с равнодушным видом спрятал ложечку в карман. И попросил не расстраиваться из-за мелочей: детям свойственно так легко всему верить. Особенно если это таинственные приключения и сказки.
– Знаете, а в вашу последнюю сказку весь лагерь взахлеб играет. У Викентия мозги набекрень.
– Извините. Я не хотел.
– Напрасно.
– И вообще, это не сказка!
Сорэн перестал гладить кота. Широкая, но все равно аристократически красивая рука замерла над пушистым загривком. Кот недовольно дернул хвостом, потянулся, щуря глазищи и выпуская когти. Управляющий за шкирку снял кота на пол.
– Брысь, – сказал он и встал. – Слушайте, вина хотите?
Хальк замялся. С одной стороны, вино – это чудно, с другой – пьянствовать правила запрещали. А, с третьей, как только здесь зазвенят рюмки, прискачет Ирочка. У нее на зайцев нюх.
– Лучше чаю.
Феличе сходил в дом и вернулся, неся на вытянутых руках нечто. По виду это нечто более всего напоминало помесь самовара с кофейником, сверху заботливо прикрытое кружевной салфеткой. Феличе водрузил бронзовое чудище на стол, принес чашки.
– А… это что?
– Чаеварка.
Из выгнутого носика в чашку полилась черная, глянцевая при свете керосиновой лампы жидкость. Запахло пьяной вишней.
– Эдерский мускат, – сказал Феличе. – Урожай семьсот двенадцатого года.
– Это когда бунт Мелешки?
– Вы историк? – Феликс покачал в ладони чашку.
– Филолог.
– Ну-ну. А в воспитатели как попали?
Прикрытая колпаком матового стекла лампа мерцала, ночные бабочки летели на свет. Хальк молчал. Объяснять не хотелось. Это выглядело бы, как оправдание, а он не чувствовал себя ни в чем виноватым. Видимо, Ирочка права. Рано или поздно все проходит, абсолютно все, даже смерть перестает казаться чудовищной и непоправимой. Человек – такая скотина, что ко всему привыкает. Он вдруг подумал, что, как ни странно, легче ему стало только после злосчастной этой сказки.
– Так получилось.
– Хорошо получилось, – со странным удовлетворением отметил Феликс. – Кстати, возвращаясь к племяннику. Он мне сегодня понарассказывал… Это что, пассивный пласт эйленского фольклора? Я таких легенд не припомню.
– А вы из Эйле? – Хальк ощутил, что начинает злиться. Феличе кивнул и небрежно прибавил, что нынешняя работа для него – что-то вроде развлечения. Способ приятно и нехлопотно провести лето, не особенно мучаясь от безделья. А вообще-то у усадьбы есть хозяин. Между прочим, владелец одного из столичных издательств.
– Вы ведь пишете? Хотите, я возьмусь пристроить ваши рукописи? Но только стихи.
Хальк залпом допил вино. В голове шумело. Он не понимал почти ничего из этой странной беседы. Почему стихи? Это издательство что, ничего другого не печатает? Может, ему взяться дамский роман написать? Да, это будет здорово, тетки на кафедре изящной словесности разом заткнутся.
– А сказку нельзя? Это же не легенды, я сам…
– Нельзя, – сказал Сорэн. – Ни при каком раскладе. Даже и не думайте.
Было в его голосе что-то, что заставило Халька моментом протрезветь. Озноб пробежал по спине.
– Почему? – чувствуя себя последним дураком, тем не менее, спросил он.
Феликс откинулся к плетеной спинке стула. Скрестил на груди руки. Помолчал. Потом сказал осторожно:
– Видите ли… Саша. Это все очень красиво, это заставляет ощутить… я не знаю, как сказать. Убогость нашего мира, серость, собственную тупость и трусость. Это красиво и очень страшно. Но пока только на словах. А вот если вы запишете… все эти ощущения можно смело помножить на десять. Не слишком ли? И потом. Вы же слушали курс философии. Помните, как там про бытие и сознание?
– Сознание вторично.
– Ерунда, – сказал Феличе убежденно. – Вот вы представьте хоть на минуту, что своим сознанием вы определяете чужое бытие. И не надо далеко ходить за примерами. Весь лагерь живет теперь вашим сознанием… созданием, если хотите. Но они дети, они веселятся, они не могут долго задумываться о всех… обо всем, что там всерьез. Они ловят призраков и ругают вашего коллегу Краоном. И это закономерно. Вы же не хотите, чтобы сорок пять детей и трое взрослых испытывали такую же боль, какую испытываете вы.
Мотыльки летели на свет. Пахло приближающимся дождем. Малиновая молния расколола небо над террасой. У Сорэна невольно дернулась щека.
Хальк видел все это, как через стекло.
– Я. Не. Понимаю.
– Смерть моны да Шер… я соболезную. Простите.
Хальк встал, с шумом отодвинув стул.
– В-вы!.. Кто вам?!..
– Неважно. Кстати, вот вам лишний повод задуматься над тем, как кончаются в жизни страшные сказки. Не придумай вы такого, кто знает, может, она осталась бы жива.
– Прекратите! Я не верю!
– И правильно, – Феликс вдруг широко, ослепительно улыбнулся. Как будто и сам углядел ущербность своих доказательств. – Не верьте. Когда вам скажут. Когда прочтете. Даже когда увидите собственными глазами – все равно не верьте. Есть только иллюзия. Смерти – нет.
Глава 3.
…Непонятно, питал давний мастер отвращение к супруге, теще либо ко всему человечеству сразу или стремился устрашить, потому что сам всех в упор боялся, но надо признать, что ему удалось: любой, кто встречался с химерами Твиртове лицом к лицу, испытывал брезгливое отвращение и страх. Не потому, что в этой мифической тварюшке (в каждой по-своему) были смешаны черты змеи, козла и льва – сами по себе эти звери если и устрашающи, то вовсе не отвратительны. Но безвестный мастер учинил с их чертами такое, что может привидеться только в кошмарном сне. А еще он нетвердо понимал, что есть химера, этот мастер, и потому прибавил каждой чешуйчатые бронзовые крылья и грифоний клюв. Из клюва свисало раздвоенное змеиное жало, и создавалось впечатление, что вымышленная зверушка дразнится или облизывается, схрумкав очередную жертву. А может, это был стилизованный огонь. Кстати, последнее сомнительно, так как химеры Твиртове пыхали огнем вполне настоящим. Неведомый умелец проложил в каменных телах тончайшие трубочки, и стоило залить масла зверюшке под хвост и ткнуть в нос зажженным факелом, как из клюва начинало извергаться короткое, но весьма ощутимое пламя. Ночью зрелище могло быть вполне феерическим – три уступа зловещих теней и на равных расстояниях огни. Только вот жителям столицы с воцарения Одинокого Бога любоваться не приходилось – все забивали проклятые молнии.
Из каморки, где Кешка прятал тряпки и мел, послышался слабый стон, и мальчишка споткнулся о каменные кольца химерьего хвоста.
– Ох, извини, – произнес он. Нашарил завалявшийся в мешочке у пояса сальный огарок.
Тот едва осветил закуток, шалашик щеток у стены, позабытый в древние времена строительный мусор и – заслонившегося рукой человека.
– Ты кто? – спросил Кешка шепотом. – Что ты тут делаешь?
И снова стон. Кешка вспомнил какие-то разговоры внизу про воровку, пробравшуюся в Твиртове, про адептов… неужели она тут прячется? Он втиснулся в каморку – та была невелика, но и Кешка в свои двенадцать лет был вовсе не богатырь, поместился. Двери слегка притворил – они с таким визгом проехались по камню, что, казалось, перебудили пол Твиртове, – задул огарок и спросил тихим шепотом:
– Тебе помочь?
– А ты кто? – голос был сдавленный, словно на грани стона и слез.
– Я за химерами прибираю, чищу.
– Как в конюшне?
Кешка хихикнул и разозлился.
– Они живые, понятно? Дура ты! Вот придет истинная хозяйка – и проснутся.
Он зажал рот рукой. За эти слова запросто угодишь в нижние казематы. А там и на костер. Бог Одинок, и он же Велик, и никого не может быть рядом. Дурочка опять застонала, громко. И Кешке сделалось стыдно. Ну и страшно, хотя на уступы по ночам не рискуют заглядывать даже стражники: легенды легендами, а как вдруг?.. Мальчишка протянул руку в темноте, уткнулся в теплую мокрую щеку:
– Больно?
В дверном проеме полыхнула молния, выхватила из темноты и словно залила кровью женское лицо.
– Тебя как… звать? – спросила беглянка.
– Кешка. Викентий. Но чаще – «щенок» и… – Кешка проглотил бранное слово. – Только я тут один работаю. Они боятся.
– Это правда… про химер?
Кешке вдруг до смерти захотелось рассказать, все, что он слышал и знает, но трезвые рассуждения перевесили. Мало ли что сотворили с девчонкой адепты, вдруг истечет кровью. И пить может хотеть. Кое-что у него тут припрятано… и надо подумать, как ее вывести из цитадели – утром обыщут и здесь.
…Патент, отмеченный большими печатями зеленого воска, висел у самой двери. Хозяйка цветочной лавки, хотя и неграмотная, безмерно им гордилась и пересказывала наизусть любому, кто хотел услышать. А услышать хотели многие – это была единственная на весь город «божественная цветочная лавка», и закупались в ней и цвет рыцарства Твиртове, и дворяне из провинции. По случаю жары тетушка Этель, страдавшая одышкой и ожирением, из своих комнат на задах лавки не выходила, предоставив все дела семнадцатилетней племяннице Роде, своей единственной родственнице и наследнице. Рода была Кешкиной подружкой, если, конечно, считать основой дружбы валяние в угольном подвале и совместное поедание черствых пирожков с повидлом, которых можно было купить дюжину на пятак у булочника на углу. Бледный Кешка дождался, когда уберется очередная недовольная покупательница, и шмыгнул в лавку. Рода привычно улыбнулась:
– Мессир?
– Рода! – Кешка положил локти на прилавок, совершенно случайно заглядывая в глубокий вырез ее кофточки. – Понимаешь, мне надо пристроить сестру. Она приехала из деревни, и заболела. В Твиртове я ее взять не могу, назад отправить – тоже.
Рода мило покраснела, откидывая со щеки прядь волос.
– Надеюсь, это не одна из тех жутких болезней…
– Что ты! – перебил Кешка. – Она попала под карету, а потом кучер еще избил ее кнутом.
– Какой ужас! – ахнула Рода.
– Конечно, я не хотел бы, чтобы тетя Этель про нее знала.
– Конечно! Я… – Рода, предаваясь раздумьям, по привычке зажала прядь в зубах. – Приводи ее, только задами. Я постелю ей на чердаке.
Кешка облегченно вздохнул.
…Отсутствие его заметили и даже сильно выругали, но приколотить не успели, потому как Кешка был нужен везде и сразу, а потом, чистя толченым мелом крыло третьей справа на нижнем уступе химеры с гордым именем Оладья, мог размышлять обо всем в свое удовольствие.
– Викентий, к тебе пришли! – голос старшего слуги Уступа был сладок, как мед. Кешка вздрогнул: обычно такой важный человек не обращал на него внимания.
– Здравствуй, Викентий.
Высокий мужчина в сером плаще адепта и синей рясе шел к нему от дверей. В каменном нутре Оладьи родился тихий рык и крыло дернулось, оцарапав мальчишке руку острым краем.
– Ох, я и не знал, – незнакомец широко улыбнулся.
– Тихо, тихо, – Кешка погладил бронзовые перья. – Это какой-то древний механизм. Когда попало срабатывает.
– А ты осведомленный.
Не понять было, упрек это или похвала.
– Адам Станислав Майронис, – представился священник, – глава прихода Стрельни.
Это был приход, где жила Рода.
– Я хочу с тобой поговорить.
Кешка опустил тряпку в ведро и вытер о штаны измазанные руки.
– Где бы мы могли присесть? Хорошо здесь, правда?
Ударила молния, и незнакомец прикрыл глаза.
– Мешают, да?
– Я привык.
– Спустимся вниз? Мессир управляющий был любезен отпустить тебя со мной до вечера.
Кешка сглотнул. Видимо, это не простой священник, раз с ним любезен сам мессир управляющий. Впрочем, со священниками опасно быть нелюбезным – Бог, он рядом.
Сидя в аккуратной беленой комнатке полуподвального кабачка, Кешка пытался заставить себя не дрожать. Может, это после жары на улице. Предупредительный кухмистер накрыл на стол и удалился, осведомясь перед этим, не угодно ли еще чего его почтенным гостям. Священник отправил его небрежным взмахом руки.
– Ешь, что же ты.
– Я не голоден.
Мессир Адам Станислав прищурился:
– Мальчишки всегда голодны. Я, по крайней мере…
Он не стал продолжать. Кешка через силу проглотил несколько кусков.
– В каких отношениях ты находишься с девицей Донцовой?