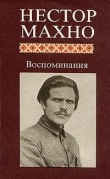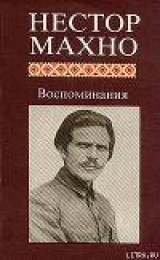
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Нестор Махно
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава XII
В пути от Астрахани до Москвы
Против течения пароход шел не так быстро, как я представлял себе. До Саратова путь далекий, и это дало мне возможность наедине сосредоточиться и подумать о том, куда я еду и зачем.
Куда я еду – это было просто и понятно. Я еду до Саратова пароходом, а там сяду в поезд и отъеду в Москву. В центре бумажной революции я увижусь, с кем пожелаю; поговорю, о чем захочу, и направлюсь на Украину. Так мы ведь решили на таганрогской конференции!.. Кажется, тоже все просто и понятно. Однако я о чем-то тревожился. Что-то нагоняло на меня какую-то навязчивую боязнь ответственности перед тем, что предстоит мне с рядом товарищей начать на Украине в связи с борьбой не на жизнь, а на смерть со всеми явными и тайными силами контрреволюции. И вот я еще раз пересмотрел газеты с сообщениями о деяниях немцев и гетманщины на Украине; еще раз продумал ту цель, во имя которой я и многие мои близкие, дорогие друзья и товарищи по группе должны быть к первым числам июля на Украине. Во всем, что я продумывал, я сознавал замысел великого дела, в особенности если мы начнем его удачно, если разовьем и предохраним его от искажений, которые могут найти себе место в нем хотя бы уже потому, что мы растворимся в массе тружеников, сбросим белые перчатки с рук и слащавую идеализацию с уст и поведем за собой в бой против контрреволюции широкие массы, действие которых встретит жестокое противодействие со стороны наших врагов, врагов подлинной революции, а это обстоятельство придаст нашей борьбе всеразрушающий, всеуничтожающий на пути противодействия характер. В этой жестокой борьбе моральные стороны преследуемой нами цели неизбежно будут уродоваться и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением своим делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно им самим… Да, да, все это так… «Но правилен ли подход к этому делу?» – задавал я себе вопрос. Можно ли посредством отдельных групповых выступлений против помещиков, немецко-австрийского и гетманского командования и устанавливающихся под военной охраной учреждений поднять на борьбу широкие трудовые массы? Ведь прошло уже больше месяца с тех пор, как над украинскими тружениками села и города царит деспотия упомянутых палачей. Неизвестно, какие психологические изменения произошли в среде тружеников за это время. Ведь может случиться, что они убаюканы (если не застращаны казнями) этими палачами так, что перестали и думать о своем позорном положении… Может случиться, что весь бунтовской дух украинских тружеников под давлением жестоких казней пал; что его заменил дух уныния, дух рабства, сковывающий вольную мысль дерзания на лучшее… Все это может быть, рассуждал я сам с собою, в своей одинокой тихой каюте…
Но когда я это «может быть» отбрасывал в сторону и ставил себе вопрос, мог ли бы я лично примириться с тем, что сейчас воцарилось на Украине, с тем, что совершается над ее трудовым населением, именно я, вышедший из недр этого населения, знавший его рабскую жизнь и то, как оно, наполовину свергнув гнет опутавшего его экономического и политического рабства и ощутив на этом пути свободу, стремилось воспринять для своей жизни новые идеи, разобраться в их содержании и, вступая на путь строения новых форм социально-общественной жизни, вооружало ее новыми порядками, новым правом, которое обеспечивало бы свободу и социальную справедливость одинаково за каждым человеком, – когда я ставил себе этот вопрос, тогда мое допущение, что, может быть, украинские труженики психологически изменились под давлением казней и утеряли свой бунтовской дух, свою готовность к новой, более цельной борьбе за свое освобождение, быстро теряло значение для моей оценки положения на Украине. В моей непримиримости с тем, чтобы на Украине надолго воцарились корона гетмана и немецкое юнкерство, я чувствовал и видел непримиримость украинских революционных крестьян, на которых единственно была надежда, что они способны пережить всю деспотию гетманщины на себе, но не помириться с нею. Наоборот, при первом удобном случае, они восстанут против нее и, не щадя себя, постараются уничтожить как ее самое, так и те черные силы, которые способствовали ее приходу к власти над страной.
Эта моя глубокая вера в украинское революционное крестьянство заслоняла для меня все те явления, которые на Украине развивались в это время на пользу гетманщины и которые, не имей я в себе веры в крестьянство, могли бы поколебать меня в моих планах возвращения нашей анархической группы на Украину и организации крестьянского восстания. С помощью этой веры в крестьянство я сумел критически отнестись к тем явлениям, какие наблюдал месяц-полтора тому назад на Украине, какие видел в пути по России и какие предполагал снова увидеть в недалеком будущем на Украине. И так как это недалекое будущее представлялось мне отстоящим всего на один месяц, то я к нему готовился, заранее радуясь той свободе, которую, по-моему, украинское революционное крестьянство должно было в будущем, намечаемом нами восстании завоевать себе.
* * *
Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что он здесь пристанет, я подумал: а может быть, заехать на день-два к своим коммунарам, к подруге, которая, вероятно, уже родила мне сына или дочь?.. Повидаться со всеми ними… Обнять, поцеловать дитя… И тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня недели две, так как в центре бумажной революции я лелеял мысль встретить многих и разного направления революционеров… Я принужден был отказать себе в счастье увидеть своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что написал им несколько теплых приветственных слов на открытке и опустил ее в почтовый ящик.
На Царицынской пристани я купил свежие газеты. Они были полны сведений об Украине, о разгуле по ее городам и деревням экспедиционных карательных отрядов из немецко-австрийских оккупационных контрреволюционных армий и из армий «державной варты» гетмана. Все эти сведения об Украине переплетались со сведениями о боях Красной Армии с чехословаками, прорывавшимися через Центральную Россию в Сибирь, где в то время нашла себе широкий плацдарм контрреволюция адмирала Колчака и возлагавших на него большие надежды, а потому облепивших его социалистов-учредиловцев.
Все эти сведения, вместе взятые, наводили на меня грусть, сменявшуюся подчас боязнью то за окончательную гибель революции и всех ее завоеваний, то за то, что мне не удастся пробраться к назначенному времени на Украину, или если и удастся, то вряд ли я что успею сделать в области организации новой, более мощной по характеру и по вооружению социальными средствами действия крестьянской революционно-боевой силы. Эта боязнь за то и за другое иногда овладевала мною настолько сильно, что бывали часы, когда я не мог говорить ни с кем из пассажиров даже о необходимом и не отвечал, когда кто-либо из них меня о чем-нибудь спрашивал.
Так, замкнувшись в самого себя, с подавленным чувством негодования на ход событий, на себя, на людей, так или иначе ответственных за такие зигзаги в ходе этих событий, не замечая ряда пристаней между Царицыном и Саратовом, на которых во время моего переезда я выходил, делая нужные покупки, наблюдая невольно приковывающие взор отлоги волжских берегов, я приехал в Саратов, из которого всего две с половиною недели тому назад бежал…
Теперь Саратов, как и его краевая «Советская» власть, показались мне совсем другими. За этот сравнительно короткий промежуток времени власть достигла больших «побед»: она разоружила отряд одесских террористов и посадила его в тюрьму; она сразилась на улицах города с организацией матросов Балтики, Черноморья и Поволжья, и хотя и потеряла свое роскошное здание – «Смольный», в котором заседала и разрешала судьбы «своего» края (это здание было разрушено из орудий восставших), но разогнала и эту организацию. И теперь она хотя и помещалась в одноэтажном хиленьком домишке, но чувствовала себя полной победительницей и хозяйкой города.
В Саратове я бросился сперва в сторону анархистов, но их уже там не было. Выехали в направлении Самары. «Один только Макс с какими-то двумя барышнями путается возле революционного комитета. Его там всегда можно найти», – сказал мне один из товарищей, знавший меня со времени конференции приезжих анархистов.
Разыскивал я этого Макса и возле ревкома, и в самом ревкоме, но не нашел. Это был период начала приспособленчества многих анархистов к официальным большевикам. Их трудно было разыскивать в это время приезжему анархисту, в особенности при помощи расспросов у тех, возле кого они вертелись. И то, что я не разыскал его, Макса, притом там, где он, по указаниям товарища, путался, лишь усилило во мне подозрение к нему. Я прекратил расспросы и поиски и взял в ревкоме бумагу на получение внеочередного плацкартного билета до Москвы. На получение такой бумаги я, по своим документам (председатель гуляйпольского районного Комитета защиты революции), имел право, и я получил ее без всяких промедлений.
А чрез три-четыре часа я был уже в поезде и ехал в Москву.
В пути вследствие каких-то железнодорожных недоразумений, которых мне не удалось выяснить, поезд задерживался очень часто на станциях и полустанках. Публика роптала, а кондуктора ее успокаивали пояснением причин таких частых задержек поезда. Причины эти были разные: здесь были и чехословаки, выступавшие против соввласти, и дутовцы… Но вернее всего частые задержки поезда происходили от разрушенного железнодорожного транспорта, от нехватки угля, дров и т. п.
В Тамбове я задержался на целые сутки. Спал в номере отеля. Днем бродил по городу, искал бюро анархистов. Но, увы, найти не нашел. Попал к левым социалистам-революционерам. Среди них встретил немало бывших каторжан, знавших меня с московских Бутырок. От них я узнал, что в Тамбове сейчас что-то никого из анархистов не слышно. Не то ушли в подполье, не то просто, не имея почвы в широкой массе тамбовских тружеников, разъехались из города…
Больно мне было слушать от эсеров такое повествование об анархистах, но в нем была доля правды. Поэтому я опять, как только уселся в поезде на Москву, мысленно бросился за поисками тех социальных средств для социальных действий анархизма, которых анархизм, по-моему, не имеет у себя, без которых анархизм бессилен организовать под своими знаменами широкие массы трудящихся и формулировать им в их решительной борьбе задачи дня.
Копаясь в этих мыслях, я невольно бросал взор на деятельность социалистов-революционеров, левых и правых, социал-демократов – большевиков и меньшевиков. В этом лагере социализма я видел кипучую работу среди трудовых масс. Правда, работа социалистов этого рода сводилась, главным образом, к интересам их партии, но работа эта у них имела свое организационное лицо, с определенным выражением их воли, и была колоссальная работа. Почему бы и нам, анархо-коммунистам, не заняться организацией своего движения и выявлением среди широких трудовых масс деревни и города организационных начал мыслимого нами социально-общественного строя, задавал я себе вопрос. И тут же отвечал: мы не способны. У нас нет сил и нет навыка, нет практики держаться единства действий в целях нашего движения. Мы до сих пор не хотим понять того, что наши группы и группки в разнородных, подчас вовсе не анархических действиях, в которых мы привыкли видеть цели нашего движения, не могут справляться с теми требованиями времени, идя навстречу которым наше движение становилось бы все понятней трудовым массам, так что они за него ухватились бы как за единственное подлинно революционное движение… Но так ли будет у нас, на Украине, когда мы все благополучно возвратимся и займемся делом нашего движения, делом революции? Задавал я себе вопрос, и хотя не отвечал на него, но чувствовал, что так никогда у нас не будет…
Время на восходе солнца. Показалась Москва, со своими многочисленными церквами и фабрично-заводскими трубами. Публика в вагоне заворошилась. Каждый, кто имел у себя чемодан, вытирал его, так как в нем было у кого пуд, у кого полпуда муки, которая от встрясок вагона дала о себе знать: выскакивала мелкой пылью из сумок, сквозь замочные щели чемодана… Публика не рабочая. Предлагает попавшемуся встречному бешеные деньги за помощь пронести из вагона, сквозь цепи заградительного отряда при выходе из вокзала, свои вещи. Многие берутся, но большинство отказывается, заявляя: «Боюсь, попаду в Чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией…»
Еще минута-две – и поезд подошел к вокзалу. А еще минута-две – пассажиры с мукой в чемоданах отмыкали свои чемоданы перед стоявшими агентами заградительных отрядов, арестовывались и вместе с мукой отправлялись в надлежащие штабы.
Глава XIII
Москва и мои встречи с анархистами, левыми эсерами и большевиками
По приезде в Москву, как только я вышел из вокзала, я сразу же взял извозчика и поехал на Введенку, дом номер 6, к А. А. Боровому. Лично я Борового не знал, но по газетам узнал, что у Борового можно встретить секретаря Московского союза идейной пропаганды анархизма товарища Аршинова. Этот последний мне известен был еще с 1907 года, а на каторге я встретился с ним лично. И на каторге, и по выходе из нее я верил, что мне придется с Аршиновым работать вместе на Украине. Но вскорости мы пошли каждый своим путем, то есть он, по примеру большинства анархистов, предпочел деревне город и остался в Москве, я же уехал в деревню, и хотя не порывал связи с городом, но работал в деревне среди широкой массы населяющих ее тружеников.
Теперь, очутившись временно, не по своей вине, за пределами Украины, я решил посетить Москву. В этом центре «бумажной», как я уже выразился, революции нашли себе прочную оседлость все видные революционеры всех толков и направлений. Именно со всеми ими, поскольку мне позволит время, я, проделавший уже до некоторой степени опыт практической борьбы на Украине, и думал встретиться, поговорить, посоветоваться кое о чем. Но прежде всего я хотел встретиться с Аршиновым, хотел узнать от него, в каком положении находится наше движение в Москве после разгрома его большевистско-левоэсеровскою «Советской» властью 12 апреля.
Товарищ Аршинов, как бывший секретарь Федерации московских анархических групп, а в это время секретарь Союза идейной пропаганды анархизма, должен был, по-моему, знать положение нашего движения в Москве. Поэтому я его и искал.
Нашел я Введенку. Поднялся в квартиру Алексея Алексеевича Борового. Позвонил. Дверь открылась, и меня встретил среднего роста интеллигентный человек, красивый и хорошо, с особой четкостью, говорящий по-русски. Он провел меня далее в коридор и указал дверь в кабинет-библиотеку.
Не успел я перешагнуть порог этой двери, Алексей Алексеевич меня спросил: кого я здесь хочу видеть.
Я ответил:
– Товарища Аршинова.
Последовал ответ:
– Он здесь бывает два раза в неделю: по вторникам (если не ошибаюсь. – Н. М.) и пятницам.
Тогда я попросил у Алексея Алексеевича разрешения оставить у него свой чемодан, полный тамбовских белых булок, которые я, слыша, что в Москве хлеба нет, привез с собою. И услышав, что чемодан можно оставить, я оставил его, простился с Алексеем Алексеевичем и ушел в город.
Время подходило к обеду. Зашел неподалеку от Пушкинского бульвара в ресторан. Пообедал. Обед плохой и дорого, хлеба мало. Здесь я узнал, что хлеба можно достать сколько хочу, но какими-то задними ходами и за большие деньги. Это меня так рассердило, что я готов был поднять скандал. Однако, не будучи уверен в том, что распродажа хлеба за особую цену и задними ходами не производится самим хозяином ресторана вместе с большевистскими и левоэсеровскими чекистами, а также имея при себе револьвер, за который чекисты в то время могли даже не довести меня до Дзержинского – расстрелять, я воздержался от поднятия скандала.
И оказалось – был прав. Всего через пять минут по выходе из ресторана я встретил бывшего своего товарища по каторге, польского социалиста, некоего Козловского. В то время он был уже коммунист-большевик и занимал должность участкового милицейского комиссара. Он с большой радостью встретил меня. Повел меня в свой комиссариат, показал мне своих сотрудников и много кое о чем говорил со мною, извинительно подчеркивая мне, что, если бы не требования революции, он ни за что не был бы на должности милицейского комиссара. Революция, дескать, от него этого требует.
Я изрядно посмеялся над его аргументацией, приведшей его на пост палача революции. Узнал я от него трамвайную линию до Анастасьевского переулка, где помещался Комиссариат внутренних дел; а возле него (после разгрома московских анархистов на Малой Дмитровке) большевистско-левоэсеровская власть милостиво разрешила московским анархистам занять себе для нужд секретариата и редакции помещение-сарай, в котором до прихода анархистов «упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях», сказал мне комиссар.
Мой бывший товарищ комиссар Козловский провел меня к нужному трамваю, и я простился с ним, пообещав еще встретиться. Поехал я в Федерацию анархистов, надеясь встретить там и Аршинова.
Подступ к Федерации для новичков казался прямо-таки опасным. С одной стороны, потому что он занят был беспрерывно шатающимися агентами чеки, наблюдавшими за каждым приходящим, чуть не хватая его. С другой же стороны, вид здания Федерации не внушал к себе доверия: казалось, здесь помещается не Федерация анархистов, а живут агенты чеки, охраняющие сбоку стоящее роскошное здание, в котором находился Комиссариат внутренних дел.
Я долго стоял при входе в этот переулок со стороны Тверской, наблюдая за прохожими. А затем прошел по переулку, минул дверь Федерации, пошел дальше, взошел по ступеням к двери Комиссариата внутренних дел. Она была заперта. Я повернул от двери, спросил чекиста, когда откроется Комиссариат внутренних дел, и, получив ответ: «В три часа», пошел уже прямо в Федерацию анархистов.
В Федерации я застал многих товарищей: одни сидели за низким, широким столом и что-то записывали в большие книги; другие что-то переписывали; третьи перекладывали большие кипы связанной, видимо, нераспроданной ежедневной газеты «Анархия».
Как только я подошел к столу и спросил у сидевших за ним, где можно встретить товарища Аршинова, меня сейчас же отослали в другой угол, где стояли три-четыре товарища и о чем-то оживленно говорили между собою. Из них первым заговорил со мною товарищ Бармаш, которого я лично знал еще с марта месяца 1917 года. Он сказал мне, что Аршинов сюда редко когда заходит. Товарищ же Гордин-младший прямо заявил мне:
– Аршинов не захотел работать с рабочими и ушел к интеллигенции.
Он перечислил мне имена интеллигенции: Борового, Рощина, Сандомирского и других.
Я сперва как будто рассердился на Гордина, а затем подумал: быть может, он прав. Ведь люди, не сознающие того, что без рабочих и крестьян они никогда не воспитали бы в себе революционеров дела (только честно наблюдая за тяжелой жизнью и борьбой рабочих и крестьян, интеллигенты становились и становятся подлинными революционерами дела), эти люди так часто зазнаются перед рабочими и крестьянами. Может быть, что рабочий Аршинов дальше Москвы не постарался заглянуть в рабочие ряды, именно теперь, в дни революции. И может быть, предпочел рабочим организациям группу интеллигентов…
Впрочем, это были отвлеченные мысли. Как только я ушел из Федерации, я почувствовал еще большее желание встретиться с Аршиновым и воочию убедиться в том, что услыхал от Гордина.
Наступал вечер… Идти в отель мне не хотелось. Поэтому я возвратился опять в Федерацию анархистов и заявил товарищам, что у меня нет квартиры, где я мог бы ночевать. Товарищ Середа, посоветовавшись со своей подругой, предложил мне ночевать у него, предупредив, что спать придется в одной с ними комнатушке и на полу, так как, дескать, нет кроватей и постелей.
Предложение Середы я принял и пошел с ним, его подругой и еще несколькими товарищами, которые жили в том же особняке, к нему на квартиру… Здесь в доме, где жил Середа, я впервые познакомился с известным автором «ассоциационного анархизма» Львом Черным. С этим последним я много говорил о нашем анархическом движении на Украине (которой он никак не признавал и называл только Югом России), об организационном ничтожестве там нашего движения. Все, что я говорил Льву Черному, он принимал с особой болью. Но тут же протестовал против моих мыслей, что анархизму пора отказаться от раздробленной на сотни и тысячи групп и группок формы организации; что анархизм, благодаря этой своей бессодержательной форме организации, выявил себя в революции беспомощным овладеть трудовыми массами, пойти с ними в бой с капиталом и государством и вывести из этого боя тружеников победителями…
Это был главный пункт нашей беседы с Львом Черным. На нем мы разошлись. Однако и после часто встречались в том же особняке.
Из наблюдений моих над Львом Черным, я скоро убедился в том, какой он безвольный человек, как он бесхарактерен в отношениях и к друзьям, и к врагам. Помню, однажды он ходил по комнатам с книжечкой и переписывал мебель. На мой вопрос: «Что вы, товарищ Черный, здесь хозяин, что ли?» – я услыхал ответ: «Еще хуже…»
Я поинтересовался расспросить об этом и его, и других. Я узнал, что большевистско-левоэсеровские хозяйственники пришли в этот двор и заявили товарищу Черному, что отныне он комендант этого двора, он за ним должен смотреть, он за него ответствен…
– И что же вы, товарищ Лев, им ответили? – спросил я Черного.
Он сказал:
– Что же я мог им ответить? Они такие нахалы, так навязчивы, что я не мог им отказать в этом. И вот теперь вожусь здесь… Товарищи не понимают моего положения: и на ночь, и в полночь появляются здесь. Если ворота заперты, лезут через верх, нарушают покой обитателей, которые обижаются, заявляют об этом мне, а я не могу говорить об этом ни товарищам, ни квартальному комитету… Думал как-то сбежать отсюдова, но устыдился самой мысли об этом.
Больно было слушать и смотреть на этого деликатного человека, но еще обидней было мне видеть в нем безвольного человека, человека-тряпку, с которым другие делают что хотят, а он, как безвольное существо, не имеющее необходимого в его положении характера, не может все это перезреть и покинуть.
Да разве такие люди могут что бы то ни было сделать в круговороте революционных бурь, где у человека без воли, без характера не хватит ни терпения, ни нервов преодолевать те ненормальности, которые первыми всплывут на поверхность практической борьбы – той борьбы, через которую широкая масса трудящихся стремится обрести себе свободу и право на независимость от власти капитала и государства?! Разве такие безвольные люди могут быть способны находиться в рядах этой массы и оказывать ей своевременную нужную помощь?! Никогда в жизни!.. Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадется верный материал о нем и если правительственные хозяйственники не будут их назначать в коменданты. Вот с этой лишь стороны они могут оказать помощь: но уже не тем, кто сейчас действует, а идущим им на смену поколениям.
От всей души жалел я Льва Черного и в то же время возмущался его безволием и бесхарактерностью. Человек этот обладал талантом оратора и писателя, был искренен и в том, и в другом проявлении себя, но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство от той грязи, которая, судя по моим расспросам и точным наблюдениям, липла к нему. Эта сторона его индивидуальности мешала ему, как многим известным анархистам мешали другие стороны, выбраться на широкий путь массового действия анархизма в революции и занять на нем надлежащее место, очень далекое от комендантского поста в московском особняке…
Расстался я с особняком и с товарищами Середой и Львом Черным лишь тогда, когда разыскал наконец Петра Аршинова. Последний проживал в одном из отелей на базарной площади (близ Театральной площади) – не комендантом, конечно, а у коменданта, распоряжавшегося этим отелем от имени крестьянской секции при ВЦИК Советов.
Встреча с Аршиновым, а также и с комендантом этого отеля Бурцевым была для меня радостью. Все мы друг друга знали из московской каторги. Все чувствовали взаимное уважение друг к другу. Это нас сближало без того, что мы все считались анархо-коммунистами.
От Аршинова я узнал, что он действительно ушел от работы Федерации московских анархических групп, потому что не нашел в ряде товарищей серьезного отношения к делу нашего движения.
Кто из них прав, я, конечно, не старался выяснить. Я старался понять, чем дышит теперь Аршинов и чем занимается.
В ряде бесед, а также при совместном с Аршиновым посещении Алексея Алексеевича Борового и из беседы с последним, я выяснил, что Аршинов работает в качестве секретаря и организатора лекций для членов Союза идейной пропаганды анархизма.
Вскоре после нашего посещения А. А. Борового Аршинов организовал лекцию «О Толстом и его творчестве», которую читал Иуда Гроссман-Рощин, со вступительным словом товарища Борового.
Эта лекция, как и вступительное слово к ней Борового, меня, крестьянина-анархиста, очаровали; в особенности, должен сознаться, очаровало меня слово Борового. Оно было так широко и глубоко, произнесено с такой четкостью и ясностью мысли и так захватило меня, что я не мог сидеть на месте от радости, от мысли, что наше движение не так уж бедно духовными силами, как я себе представляю. Помню, как сегодня, что я, как только Алексей Алексеевич окончил свою вступительную речь к лекции Рощина, выскочил из зала и побежал в фойе, чтобы пожать ему, Алексею Алексеевичу, руку и выразить свое чувство товарищеской благодарности. Зайдя в фойе, я встретился лицом к лицу с Алексеем Алексеевичем, прохаживавшимся по фойе. Я был полон радости за него, за его успех перед аудиторией, которая – я видел и переживал это вместе с ней, я был в этом убежден – аплодировала с такой радостью и чувством благодарности. Затем, разговорившись с ним, я подал ему руку и выразил ему все то, что чувствовал… По-моему, он вполне заслужил такое выражение признательности.
Но Алексей Алексеевич был скромен и, крепко держа мою руку в своей, полусмеясь и глядя на меня и на стоявшего рядом со мной Аршинова, сказал:
– Благодарю, но мне кажется, что я несколько обидел товарища Рощина: заставил его долго ожидать конца вступительного слова.
Я подхватил:
– Нет, вам, Алексей Алексеевич, мало времени дали!..
Мы обменялись еще несколькими фразами и разошлись. Он, Алексей Алексеевич, пошел на кафедру и сел возле начинавшего свою лекцию Рощина, а мы, я и Аршинов, пошли в зал и уселись на скамьи слушателей.
Товарищ Рощин говорил. Публика тихо, с напряженным вниманием смотрела на него и слушала.
Лекция была серьезная, и прочитана она была очень удачно. Успех был колоссальный. Помню, я говорил о ней и с Рощиным, и с Аршиновым, который в то время считал Рощина звездой среди молодых теоретиков анархизма. Заметно было, что Аршинов перед ним таял, хотя и отмечал, что он, Рощин, страшно бесшабашный. (Я думал, это потому, что Рощин на целый час опоздал на свою лекцию; за ним посылали товарища, и, как выяснилось, он забыл, что сегодня читает лекцию.) Я сказал ему и Аршинову, что лекция очень хороша, но язык, которым она излагалась перед аудиторией, ни к черту не годится. Рощин смеялся, а Аршинов как будто был недоволен этим моим замечанием.
Вскоре после этой лекции я попал в том же зале на лекции товарища Гордина. Он тоже показался мне с запасом знания анархизма, но незнанием того, что носители его идей должны делать во время революции, где они должны группировать свои силы. В общем же лекция Гордина мне понравилась, я этого не скрывал, а товарищ Аршинов назвал ее «мусором возле анархизма». Это мне, правду сказать, не нравилось.
Так протекали июньские дни моей жизни в Москве. Как-то Аршинов затянул меня к Александру Шапиро, который был в то время – если не ошибаюсь – хозяином издательства «Голос труда». В этом издательстве Аршинов издавал ряд книг П. А. Кропоткина. Как раз в этот момент в нем закончилась печатанием книга «Хлеб и воля». Аршинов разносил ее пачками по магазинам.
Товарищ Шапиро тоже произвел на меня впечатление опытного и делового товарища. Однако Шапиро еще до встречи моей с ним был мне известен как крайний синдикалист. Я над этим средством анархизма мало задумывался и продолжал по традиции считать его «меньшевистским» средством в анархизме. Поэтому я без особого интереса прислушивался к тому, что он говорил о некоторых вопросах с Аршиновым, и без особого же интереса отвечал ему, товарищу Шапиро, когда он расспрашивал меня о том, как трудящиеся на Украине (по Шапиро – на Юге России) прониклись идеей революции? Какое сопротивление оказывали оккупационным немецким и австрийским контрреволюционным армиям и т. д.? Раза три я был вместе с Аршиновым у Шапиро, на складе «Голос труда». Раза два я заставал его одного с маленькой, казавшейся умненькой его дочуркой за работой. Оба раза, при виде Аршинова и меня, он бросал свою работу, подходил к нам и подолгу говорил. И, нужно сказать правду, оставил во мне хорошее впечатление. Но одна мысль о том, что он синдикалист, да еще правого пошиба, который с рядом своих единомышленников переехал вслед за центральной большевистской и левоэсеровской властью из Петрограда в Москву только потому, дескать, что стремится представлять там какой-то центр (слова чужие), одна эта мысль дробила и разрушала во мне то более или менее цельное впечатление о Шапиро, которое я вынес при встречах с ним.
Впоследствии я встречался еще с рядом анархистов из студентов, из которых наиболее яркой фигурой мне показался товарищ Саблин. С ним я часто встречался, много говорил. Он был особенно чуток и принимал близко к сердцу все те слабые стороны нашего движения, которые тормозят его рост и развитие. И глубоко верил, что все это скоро заметят все действующие анархические группы и вопрос будет выяснен и разрешен в пользу того, чтобы создать определенную организацию и жизненно усилить наше движение.
Однако я должен заметить, что все это и со всеми были беседы отрывочного характера, и только. Фактически не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца. Или если они и были, то, видимо, не хотели задумываться над катастрофическим положением нашего движения. Между тем его нельзя было не заметить с первых же дней, как только правящая орда большевиков разбила наше движение, объявив свое право сперва на чистку его рядов, а затем и на ликвидацию его боевых, не склонявших голов перед этой ордой сил. У меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление после того, как я встретился со многими товарищами и увидел, чем они занимаются в такой острый момент и для революции, и для нашего движения. Не знаю, сознавали ли все товарищи то, что большинство из них болталось в это время без дела. Я-то видел это отчетливо. Часто тот или другой товарищ, осевши в Москве на более или менее продолжительное время, шатался там совершенно праздно или же находил такое дело, которое посильна была выполнять только организация, а он за него брался лишь с целью показать, что он и вне организации работает, что он и вне организации проводит дело организации. Все это меня, силою контрреволюции оторванного от кипучей массовой революционной работы на Украине и очутившегося временно в Москве, убеждало в том, что я прав был, мысля о Москве как о центре «бумажной» революции, которая привлекает к себе всех, и социалистов, и анархистов, любящих особенно сильно в революции одно только дело: это много говорить, писать, и бывающих не прочь посоветовать массам, но на расстоянии, издалека…