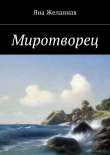Текст книги "Миротворец"
Автор книги: Нэнси (Ненси) Кресс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Я застукала его, когда он трахался с Мэри Делбартон. – Язык у нее заплетается, как у двухлетнего ребенка. – Мама, он трахался с Мэри Делбартон.
– Оставь его в покое, Мэйми.
– Я опять буду одна. – Она произносит это с каким-то величием, но его хватает ненадолго. – Этот сукин сын ложится со шлюхой на следующий день после нашей помолвки, и я снова одна!
Я молчу; сказать тут нечего. Муж Мэйми умер, когда Рэчел было всего пять лет, после испытания лекарства, которое проводили посланные правительством врачи. Колонии представляли собой источник подопытных животных. Семнадцать человек из четырех колоний погибли, прежде чем правительство прекратило финансировать подобные эксперименты и законодательно запретило посещать колонии. Слишком велик риск заражения, говорили они. Ради защиты здоровых граждан страны.
– Я не позволю ему прикоснуться ко мне! – всхлипывает Мэйми, на ресницах ее дрожат слезы. Одна слеза падает, оставляет дорожку длиной в дюйм и натыкается на болячку, затем стекает вбок, ко рту. Я протягиваю руку и смахиваю слезу. – Черт побери, проклятый сукин сын!
Вечером они с Питером держатся за руки. Они сидят рядом, и он шарит у нее под юбкой, думая, что из-за стола ничего не видно. Мэйми засовывает руку ему в штаны. Рэчел и Дженни отводят глаза, Дженни слегка краснеет. В мозгу у меня мелькает обрывок воспоминаний, из тех, которые годами не всплывали на поверхность: мне около восемнадцати, я первокурсница Йельского университета, лежу на огромной железной кровати, покрытой одеялом с современным геометрическим рисунком, рядом со мной рыжеволосый мужчина, с которым я познакомилась три часа назад. Но здесь, Внутри… Здесь сексом, как и всем остальным, занимаются после долгих раздумий, осторожно, скрытно. Слишком долго люди боялись, что эта болезнь, как и та, что свирепствовала ранее, может передаваться половым путем. И еще люди стыдились своего уродливого тела, исчерченного шрамами, оставленными болезнью. Я не уверена, что Рэчел когда-либо видела обнаженного мужчину.
Я говорю, просто чтобы что-нибудь сказать:
– В среду танцы.
– В блоке В, – подхватывает Дженни. Ее голубые глаза блестят. – Там будет группа, которая играла прошлым летом для блока Е.
– Гитары?
– О нет! У них труба и скрипка, – сообщает Рэчел, на которую оркестр явно производит впечатление. – Ты должна послушать, как они звучат вместе, бабушка, это совсем не то, что гитары. Пойдем на танцы!
– Вряд ли я пойду, милая. А доктор Мак-Хейб там будет?
По лицам девушек я понимаю, что моя догадка верна.
Дженни нерешительно произносит:
– Он хочет поговорить с тобой перед танцами, несколько минут. Если можно.
– Зачем?
– Я не… не уверена, не могу сказать.
Она не смотрит мне в глаза: она не хочет говорить, но и лгать тоже не хочет. Мне впервые приходит в голову мысль, что среди нашей молодежи очень мало лжецов. И испорченных детей. Им можно доверять, но с ними нужно поступать честно.
– Ты встретишься с ним? – энергично спрашивает Рэчел.
– Да.
Мэйми, которая уже некоторое время не смотрит на Питера, резко произносит:
– Если дело касается тебя или Дженни, он должен говорить со мной, мисс, а не с твоей бабкой. Я твоя мать и опекунша Дженни и прошу не забывать об этом.
– Дело не в этом, мама, – возражает Рэчел.
– Мне не нравится ваш тон, мисс!
– Извини, – отвечает Рэчел тем же голосом.
Дженни, смущенная, смотрит в пол. Но прежде чем Мэйми доводит себя до настоящего приступа материнского негодования, Питер шепчет ей что-то на ухо, и она хихикает, прикрыв рот ладонью.
Позднее, когда мы остаемся на кухне вдвоем, я тихо говорю Рэчел:
– Постарайся не огорчать свою мать, милая моя. Она ничего не может с собой поделать.
– Хорошо, бабушка, – покорно соглашается Рэчел.
Но я слышу недоверие в ее голосе, недоверие, заглушаемое любовью ко мне и к матери, но все же – недоверие.
Рэчел не верит, что Мэйми не может совладать с собой. Рэчел, рожденная Внутри, не понимает, почему ее мать гак боится потерять Питера Мэлони.
Во время второго визита ко мне, шесть дней спустя, как раз перед танцами в бараке, Том Мак-Хейб выглядит иначе. Я уже успела забыть, что бывают люди, излучающие такую энергию и целеустремленность, что сам воздух вокруг них, казалось, звенит. Он стоит, слегка расставив ноги, справа и слева от него – Рэчел и Дженни, обе одетые в парадные юбки ради танцев. Дженни вплела в свои белокурые волосы алую ленту; лента горит, словно цветок. Мак-Хейб слегка дотрагивается до плеча девушки, и по ее ответному взгляду я понимаю, что между ними что-то происходит. У меня сжимается сердце.
– Я хочу быть откровенным с вами, миссис Пратт. Я говорил с Джеком Стивенсоном, Мэри Крамер и еще кое с кем из блоков С и Е и теперь понимаю, как вы здесь живете. По крайней мере немного. Я собираюсь сказать мистеру Стивенсону и миссис Крамер то же, что и вам, но я хотел, чтобы вы первая услышали это.
– Почему? – спрашиваю я более жестко, чем намеревалась. А может быть, и не намеревалась.
Он не обращает внимания на мой тон.
– Потому, что вы одна из первых выживших жертв болезни. Потому, что вы получили хорошее образование Снаружи. Потому, что муж вашей дочери умер от аксопиридина.
В эту минуту я понимаю, что собирается сообщить мне мистер Мак-Хейб, я также понимаю, что Рэчел и Дженни это уже слышали. Они внимательно слушают его, слегка приоткрыв рот, словно дети, которым рассказывают чудесную, но уже знакомую сказку. Но понимают ли они ее? Рэчел не видела, как умирал ее отец, хватая ртом воздух, который не принимали его легкие.
Мак-Хейб, наблюдая за мной, продолжает:
– Со времени этих смертей проведено множество исследований вашей болезни, миссис Пратт.
– Нет. Ничего не было. Это слишком рискованно, так утверждает ваше правительство.
Я вижу, что он понял намек.
– Испытание на людях любых лекарств запрещено, это правда. Чтобы снизить число контактов с зараженными.
– Тогда каким же образом возможно было проведение этих исследований?
– Их осуществляли врачи, которые добровольно приходили Внутрь и не возвращались обратно. Данные передавались наружу с помощью лазера. В закодированном виде.
– Какой же нормальный врач согласится прийти сюда, чтобы никогда не возвращаться обратно?
Мак-Хейб улыбается; и снова меня поражает эта клокочущая в нем энергия.
– О, вы будете удивлены. Трое жили в Пенсильванской колонии. Один уже миновал пенсионный возраст. Второй, истый католик, посвятил свои исследования Богу. Третьего никто не мог вычислить, это был непреклонный, целеустремленный человек, блестящий ученый.
Был.
– И вы?
– Нет, – спокойно возражает Мак-Хейб. – Я могу входить сюда и возвращаться.
– А что произошло с остальными?
– Они умерли. – Он делает правой рукой едва заметное, тут же подавляемое движение, и я догадываюсь, что он курильщик или был им. Сколько лет прошло с тех пор, как я сама перестала вот так же тянуться за несуществующей сигаретой? Почти два десятилетия. Сигареты – неподходящая вещь для пожертвования; они слишком дорого стоят. Но я все еще помню этот жест. – Двое из троих врачей заразились болезнью. Они проводили опыты на себе, а также на добровольцах. Затем в один прекрасный день правительство перехватило передачу, солдаты пришли и все уничтожили.
– Зачем? – спрашивает Дженни.
– Исследования, касающиеся этой болезни, запрещены законом. Люди Снаружи боятся утечки заразы: вирусов, каким-то образом попадающих наружу с комарами, птицами, даже в виде спор.
– Но за эти годы ничего не попало наружу, – возражает Рэчел.
– Верно. Однако правительство опасается, что, если ученые начнут сращивать и перекрещивать гены, вирус станет более устойчивым. Ты не понимаешь психологию людей, живущих Снаружи, Рэчел. Там все запрещено. Это самый темный период в американской истории. Все чего-то боятся.
– Но вы же не боитесь, – тихо говорит Дженни.
Я едва слышу ее. Мак-Хейб улыбается ей так, что у меня становится нехорошо на душе.
– Мы не желаем сдаваться. Исследования продолжаются. Но все происходит подпольно. И мы многого достигли. Мы узнали, что вирус затрагивает не только кожу. Существуют…
– Молчите, – прерываю его я, понимая, что сейчас он скажет нечто важное. – Подождите минуту. Дайте мне подумать.
Мак-Хейб ждет. Дженни и Рэчел смотрят на меня, и я вижу на их лицах с трудом подавляемое возбуждение. В конце концов я нахожу слова:
– Вам что-то нужно, доктор Мак-Хейб. Всем этим исследователям что-то от нас нужно, помимо чистой радости познания. Если дела Снаружи идут так плохо, как вы описываете, то там, должно быть, свирепствует множество болезней, которые можно лечить, не жертвуя собой. Многие из ваших сограждан нуждаются в вас, – он кивает, и глаза его светятся, – но вы пришли сюда. Зачем? У нас не возникает никаких новых симптомов, мы едва выживаем, а людям Снаружи давным-давно безразлично, что с нами происходит. У нас ничего нет. Так зачем вы здесь?
– Вы ошибаетесь, миссис Пратт. Напротив, у вас здесь происходит кое-что весьма интересное. Вы выжили. Ваше общество несколько деградировало, но не рухнуло. А ведь вы существуете в условиях, при которых существовать невозможно.
Снова эта чепуха. Я поднимаю брови. Он не отводит глаз от огня и негромко продолжает:
– Сказать, что в Вашингтоне беспорядки, – значит не сказать ничего. Вы не видели, как двенадцатилетний мальчишка швыряет самодельную бомбу, не видели человека, которому вспороли живот только потому, что у него была работа, а у его соседа – нет, не видели трехлетнюю девочку, умирающую от голода, потому что родители выбросили ее, словно ненужного котенка… Вы ничего не знаете. Такого не происходит Внутри.
– Мы лучше, чем они, – говорит Рэчел.
Я смотрю на свою внучку. Она произносит это просто, без чувства превосходства, но с некоторым удивлением. В свете горящих поленьев утолщенные серые участки кожи на ее щеке кажутся темно-малиновыми.
Мак-Хейб соглашается:
– Можно сказать и так. Как я уже начал говорить, мы выяснили, что вирус воздействует не только на кожу. Он также изменяет структуру нервных рецепторов, расположенных в мозгу. Этот процесс происходит довольно медленно, вот почему в суматохе ранних исследований его не заметили. Но он происходит реально, он так же реален, как стремительное увеличение емкости рецепторов, вызываемое, скажем, кокаином. Вы следите за моей мыслью, миссис Пратт?
Я киваю. Дженни и Рэчел тоже как будто понимают его, хотя они не разбираются во всей этой терминологии, и я догадываюсь, что Мак-Хейб, должно быть, объяснил им все это другими словами.
– По мере того как вирус воздействует на мозг, рецепторы, получающие импульсы возбуждения, постепенно становятся труднодоступными, а рецепторы, получающие сигналы торможения, работают быстрее.
– Вы хотите сказать, что мы тупеем.
– О нет! Интеллект совершенно не затрагивается. Происходят изменения в эмоциональной сфере и поведении, но не в интеллекте. Вы – все вы – становитесь спокойнее. Вы менее склонны к действию, к чему-то новому. Вы испытываете легкую, едва заметную депрессию.
Огонь угасает. Я беру кочергу, слегка погнутую – кто-то пытался воспользоваться ею в качестве лома, – и переворачиваю полено, прессованное синтетическое полено идеальной формы, со штампом «Дар „Weyerhaeuser-Seyyed“». [8]8
Weyerhaeuserа – один из крупнейших в мире производителей целлюлозно-бумажной продукции.
[Закрыть]
– Я не испытываю депрессии, молодой человек.
– Это подавленное состояние нервной системы, но эта депрессия нового типа, не сопровождающаяся безнадежностью, обычно сопутствующей клинической форме болезни.
– Я вам не верю.
Правда? При всем уважении к вам, могу я спросить, когда в последний раз вы – или кто-нибудь еще из старожилов – пытались что-то существенно изменить в жизни Внутри?
– Здесь никакие конструктивные изменения невозможны. Вещи можно только принять. Это не химия, это реальность.
– Но Снаружи реальность не такова, – мрачно возражает Мак-Хейб. – Снаружи люди тоже не производят конструктивных изменений, но и не принимают действительность такой, как она есть. Они становятся жестокими. У вас, Внутри, почти не наблюдалось проявлений жестокости, за исключением нескольких первых лет, даже притом, что жить становится все тяжелее. Когда вы в последний раз ели сливочное масло, миссис Пратт, или курили сигарету, или надевали новые джинсы? Вы не знаете, что происходит Снаружи, когда товары первой необходимости становятся недоступными, а поблизости нет полиции. А здесь, Внутри, вы просто распределяете все, что у вас есть, как можно справедливее или обходитесь без каких-то вещей. Никаких грабежей, никаких бунтов, никакой разъедающей зависти. И никто Снаружи не понимает почему. А теперь мы поняли.
– Мы испытываем зависть.
– Но она не переходит в гнев.
Каждый раз, когда кто-то из нас заговаривает, Дженни и Рэчел поворачивают головы, глядя говорящему в лицо, как зрители, напряженно следящие за игрой в теннис, которой они никогда не видели. Кожа Дженни светится жемчужным светом.
– Наши молодые люди не подвержены приступам жестокости, но болезнь не успела сильно затронуть их.
– Они учатся тому, как вести себя, от старших – как и все дети.
– Я не ощущаю депрессии.
– Значит, вы полны энергии?
– У меня артрит.
– Я не это имею в виду.
– Тогда что же вы имеете в виду, доктор?
И снова это беспокойное движение украдкой за несуществующей сигаретой. Но голос его спокоен.
– Сколько времени прошло, прежде чем вы собрались воспользоваться инсектицидом против термитов, который я привез Рэчел? Она сказала мне, что вы запретили ей самой делать это, и были правы; это ядовитая штука. Сколько дней прошло, прежде чем вы или ваша дочь разбрызгали его?
– Отрава все еще в банке.
– Вы сейчас чувствуете гнев, миссис Пратт? – продолжает он. – Я думаю, что мы понимаем друг друга, вы и я, и теперь вы догадываетесь, зачем я здесь. Но вы не кричите на меня, не приказываете мне убираться прочь, даже не говорите, что вы обо мне думаете. Вы слушаете, и слушаете спокойно, и вы принимаете все, о чем я вам говорю, хотя понимаете, что мне от вас нужно…
Открывается дверь, и Мак-Хейб замолкает. В комнату врывается Мэйми, за ней – Питер. Моя дочь хмурится и топает ногой.
– Где ты ходишь, Рэчел? Мы уже десять минут стоим на улице и ждем вас всех! Танцы начались!
Еще несколько минут, мама. Мы разговариваем.
– Разговариваете? О чем? Что происходит?
– Ничего особенного, – успокаивает ее Мак-Хейб. – Я просто задал вашей матери несколько вопросов о жизни Внутри. Простите, что задержал вас.
– А меня вы никогда не расспрашиваете о жизни Внутри. И кроме того, я хочу танцевать!
Мак-Хейб предлагает:
– Если вы и Питер хотите пойти, идите, я приведу Рэчел и Дженни.
Мэйми прикусывает нижнюю губу. Я вдруг понимаю, что ей нужно пройтись по улице до танцплощадки между Питером и Мак-Хейбом, держа их под руки, и чтобы девушки шли следом. Мак-Хейб твердо смотрит ей в глаза.
– Ну ладно, как хотите, – с обидой в голосе отвечает она. – Пошли, Пит!
Она сильно хлопает дверью.
Я смотрю на Мак-Хейба, не желая задавать свой вопрос при Рэчел и надеясь, что он догадается, какое возражение я собираюсь привести. Он понимает.
– Всегда существует небольшой процент больных, у которых болезнь проявляется не в пассивности, а в раздражительности. Возможно, так происходит и здесь. Мы не знаем.
– Бабушка, – перебивает его Рэчел, которая явно не в силах больше сдерживаться. – У него есть лекарство.
– Оно избавляет только от накожных проявлений, – быстро говорит Мак-Хейб, и я вижу, что он не хотел бы выпаливать новость таким образом. – Но воздействие на мозг остается.
Я невольно спрашиваю:
– Как можно избавиться от одного, не затронув другое?
Он проводит рукой по волосам. У него густые каштановые волосы. Я вижу, как Дженни смотрит на его руку.
– Ткани, образующие кожный покров и мозг, различаются, миссис Пратт. Вирус достигает кожи и мозга в одно и то же время, но изменения в мозговой ткани, которая имеет более сложную структуру, гораздо труднее заметить. И их нельзя устранить – нервные клетки не восстанавливаются. Если вы порежете кончик пальца, то поврежденный кусок кожи отвалится и на этом месте вырастут новые клетки. Черт возьми, если вы достаточно молоды, у вас вырастет новый кончик пальца. Мы считаем, что наш препарат стимулирует клетки кожи и с пораженными участками произойдет то же самое. Но если вы повредите кору головного мозга, то новых клеток на этом месте не вырастет. И если другой участок коры не компенсирует работу погибшего, поведение, за которое отвечали умершие клетки, исчезнет навсегда.
– Исчезнет и сменится депрессивным, вы хотите сказать.
– Спокойным. Человек будет воздерживаться от активных действий… Страна нуждается в спокойствии, миссис Пратт.
– И поэтому вы хотите забрать кого-то из нас Наружу, вылечить накожные болячки и позволить распространиться "депрессии", "воздержанию", "нежеланию действовать"…
– У нас там слишком много действия. И никто не в состоянии его контролировать – это действие, приносящее вред. Мы хотим немного замедлить все происходящее – пока еще есть что замедлять.
– Вы собираетесь заразить все население Земли…
– Постепенно. Осторожно. Для их же блага…
– Разве вы имеете право решать, что является благом?
– Если вспомнить альтернативу, да. Потому что это работает. Колонии существуют, несмотря на все лишения. И они существуют благодаря болезни!
– Каждый заразившийся будет страдать от кожных проявлений…
– Которые мы вылечим.
– А ваше лекарство подействует? Отец Рэчел умер от подобного препарата!
– Вы неправы, – возражает он, и в его голосе чувствуется абсолютная убежденность молодости. Убежденность энергичного человека, который живет Снаружи. – Мы разработали препарат совершенно нового типа. Он обязательно подействует.
– И вы хотите испытать этот совершенно новый препарат на мне, как на морской свинке?
На мгновение повисает напряженная тишина. Мы обменивается взглядами серых, голубых, карих глаз. Прежде чем Рэчел успевает подняться с табурета, прежде чем Мак-Хейб успевает сказать: "Мы считаем, что лучший способ избежать появления шрамов – испытать лекарство на молодых людях с небольшими пораженными участками", – я все понимаю. Рэчел обнимает меня. А Дженни – Дженни, с алой лентой в волосах, сидящая на ломаном табурете, как на троне, Дженни, никогда не слышавшая о нейромедиаторах, медленных вирусах или рисках, просто говорит: "Это буду я" – и смотрит на Мак-Хейба глазами, в которых сияет любовь.
Я говорю «нет». Я отсылаю Мак-Хейба прочь и говорю ему «нет». Я спорю с девушками и говорю «нет». Они с несчастным видом смотрят друг на друга, и я размышляю, сколько времени пройдет, прежде чем они поймут, что могут действовать самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения. Но вряд ли такое время когда-нибудь наступит.
Мы спорим почти час, а затем я настаиваю, чтобы они шли танцевать, и иду с ними. Ночь холодна. Дженни натягивает свитер, тяжелое бесформенное одеяние домашней вязки, закрывающее ее от шеи до коленей. Рэчел надевает черное синтетическое пальто, полученное в качестве пожертвования, вытертое на запястьях и подоле. Когда мы выходим из дому, Рэчел останавливает меня, положив руку мне на локоть.
– Бабушка, почему ты запретила нам?
– Почему? Дорогая, я целый час говорила тебе почему. Риск, опасность…
– Только поэтому? Или… – хотя в прихожей темно, я словно вижу, как она собирается с силами, – или из-за того – не сердись на меня, бабушка, прошу, не сердись на меня, – потому что лекарство – нечто новое, что принесет перемены? Нечто… новое, чего ты не хочешь, потому, что это интересно? Как сказал Том?
– Нет, не поэтому, – отвечаю я и чувствую, что она напряжена, и в первый раз за всю ее жизнь я не могу понять причину этого напряжения.
Мы идем по улице, направляясь к блоку В. На небе сияют луна и звезды, крошечные, бесконечно далекие булавочные головки, излучающие холодный свет. Блок В празднично освещен керосиновыми лампами и факелами, воткнутыми в землю перед обшарпанными бараками, которые образуют унылую четырехугольную площадь. Или она просто кажется мне унылой из-за того, что сказал Мак-Хейб? Может быть, мы могли бы жить лучше, чем живем сейчас, в этом бесцветном утилитаризме, среди этих приглушенных, тусклых красок, среди этого серого мира?
До сегодняшнего вечера мне не приходили в голову подобные мысли.
Я стою в темноте в начале улицы, как раз рядом с площадью, с Рэчел и Дженни. Напротив меня играет оркестр – скрипка, гитара и труба, у которой западает один клапан. Люди, одетые в лучшие наряды, наполняют площадь, собираются в группы вокруг факелов, говорят приглушенными голосами. Шесть или семь пар медленно танцуют посредине, на клочке голой земли, едва держась друг за друга и двигаясь под заунывное исполнение песни "Звездолеты и розы". Эта песня была хитом в тот год, когда я заразилась, а еще через десять лег ее снова вспомнили. В тот год, когда впервые отправились на Марс. Предполагалось, что астронавты учредят там колонию.
Интересно, они еще там?
Мы не пишем новых песен.
Питер и Мэйми кружатся среди других пар. "Звездолеты и розы" заканчиваются, музыканты начинают играть "Вчера". На мгновение в ярком свете факелов передо мной мелькает лицо Мэйми: оно напряжено, челюсти стиснуты, на щеках – следы слез.
– Тебе лучше сесть, бабушка, – говорит Рэчел.
Она заговаривает со мной в первый раз с той минуты, как мы покинули свой барак. Голос ее звучит глухо, но не сердито, и я вижу, что Дженни тоже не сердится, когда она раскладывает трехногий табурет, принесенный для меня. Они никогда не сердятся по-настоящему.
Табурет проседает под моим весом, ножки его неровно уходят в землю. Мальчишка двенадцати-тринадцати лет подходит к Дженни и молча протягивает ей руку. Они присоединяются к танцующим. Джек Стивенсон, страдающий от артрита гораздо сильнее, чем я, ковыляет ко мне со своим внуком Хэлом.
– Привет, Сара. Давненько не виделись.
– Привет, Джек.
Толстые полосы обезображенной кожи пересекают его щеки, уродуют нос. Когда-то, много лет назад, в Йеле, мы были любовниками.
– Хэл, иди потанцуй с Рэчел, – говорит Джек. – По сначала дай мне табурет. – Хэл послушно обменивает табурет на Рэчел, и Джек опускается рядом со мной. – Большие дела творятся, Сара.
– Я слышала.
– Мак-Хейб рассказывал тебе? Все? Он говорил, что, перед тем как зайти ко мне, побывал у тебя.
– Рассказывал.
– И что ты об этом думаешь?
– Не знаю.
– Он хочет испытать лекарство на Хэле.
Хэл. Я не подумала об этом. Лицо мальчика чистое и гладкое, единственный видимый признак болезни – на правой ладони. Я отвечаю:
– Он предлагал это и Дженни.
Джек кивает, он не удивлен.
– Хэл отказался.
– Вот как?
– Ты хочешь сказать, что Дженни согласилась? – Он изумленно смотрит на меня. – Она согласилась на такое опасное дело, как испытание нового лекарства? Я уж не говорю о предполагаемом бегстве Наружу.
Я не отвечаю. Питер и Мэйми появляются из-за спин танцующих, снова исчезают. Песня, под которую они танцуют, медленная, печальная и очень старая.
– Джек, а можем ли мы жить лучше? Здесь, в колонии?
Джек наблюдает за танцующими. Наконец он произносит:
– Мы не убиваем друг друга. Мы не сжигаем дома. Мы не воруем, или, по крайней мере, воруем мало. Мы не утаиваем продукты. Мне кажется, мы живем лучше, чем кто-нибудь когда-нибудь надеялся жить. Включая нас самих. – Он шарит глазами среди танцующих, ища Хэла. – Он самое лучшее, что есть в моей жизни, этот мальчик.
Еще одно мимолетное воспоминание: Джек выступает в Йеле на диспуте по какой-то давным-давно забытой политологической дисциплине; он молод, полон энергии. Он стоит, слегка раскачиваясь на каблуках, наклонившись вперед, словно фехтовальщик или танцор, его черные волосы блестят в свете электрических ламп. Девушки не сводят с него глаз, сложив руки на открытых учебниках. Он выступает в диспуте "за". Итог: разжигание превентивных войн в странах третьего мира – эффективный метод избежать ядерного конфликта между сверхдержавами.
Неожиданно музыка смолкает. Стоящие посреди площади Питер и Мэйми кричат друг на друга:
– …видела, как ты трогал ее! Подонок, бабник бесстыжий!
– Ради бога, Мэйми, только не здесь!
– А почему не здесь? Ты не против был танцевать с ней здесь, здесь лапал ее за спину, за задницу, за… за…
Она плачет. Люди смущенно отводят глаза. Какая-то женщина выступает вперед и нерешительно прикасается к плечу Мэйми. Та стряхивает руку, закрывает лицо и убегает прочь. Питер какое-то мгновение оцепенело стоит посреди площади, затем произносит, ни к кому не обращаясь:
– Мне очень жаль. Танцуйте, пожалуйста.
Он пробирается к оркестру, который начинает нестройно наигрывать "Didn't We Almost Have It All". [9]9
Песня Уитни Хьюстон (1987).
[Закрыть] Этой песне двадцать пять лет. Джек Стивенсон говорит:
– Может, тебе чем-нибудь помочь, Сара? С твоей дочкой?
– Чем?
– Ну, не знаю, – отвечает он.
Разумеется, он не знает. Он предлагает помощь просто из сочувствия, понимая, что безобразная сценка на танцплощадке расстроила меня.
Мы все можем вот так легко заметить у другого человека депрессию.
Рэчел танцует с каким-то незнакомцем, это мужчина старше ее, с безмятежным лицом. Она бросает озабоченный взгляд через плечо: Дженни теперь танцует с Питером. Я не вижу его лица. Но вижу лицо Дженни. Она ни на кого конкретно не смотрит, но это и не нужно. Я ясно понимаю, что она хочет сказать своим поступком: я запретила ей приходить на танцы с Мак-Хейбом, но не запрещала танцевать с Питером, и вот она танцует, хотя ей этого совершенно не хочется, и по лицу ее видно, что она сама испугалась своего неповиновения. Питер прижимает ее к себе, она с вымученной улыбкой отстраняется.
Ко мне подходят Кара Десмонд и Роб Котрелл, закрывая от меня танцующих. Они живут здесь столько же, сколько и я. У Кары есть новорожденный правнук, один из редких детей, рожденных со следами болезни на теле. Платье Кары, надетое для тепла поверх джинсов, порвано на подоле; голос ее звучит тихо:
– Сара. Как я рада видеть тебя.
Роб ничего не говорит. За те несколько лет, что я его не видела, он располнел. В мигающем свете факелов его лицо, украшенное двойным подбородком, излучает безмятежность; он похож на больного Будду.
Только через два танца я замечаю, что Дженни исчезла.
Я оглядываюсь вокруг в поисках Рэчел. Она наливает музыкантам травяного чая. Питер танцует с какой-то женщиной, у которой под платьем нет брюк, она дрожит и улыбается. Значит, Дженни ушла не с Питером…
– Роб, ты не проводишь меня до дома? Вдруг я споткнусь.
Холод пробирает меня до костей.
Роб без удивления кивает. Кара говорит: "Я тоже пойду", и мы оставляем Джека Стивенсона на его табурете ждать, когда ему принесут горячего чая. Мы идем по улице так быстро, как только я могу, хотя мне хотелось бы идти быстрее, и Кара беззаботно болтает по дороге. Луна зашла. Земля неровная, на улице темно, видны лишь звезды и редкие огни в бараках. Это свечи и масляные лампы. Один раз я замечаю мощный свет, исходящий, очевидно, от фонаря на солнечных батареях – я давно таких не видела.
Корейский, как сказал Том.
– Ты дрожишь, – замечает Кара. – Вот, возьми мое пальто.
Я качаю головой.
Я уговариваю их не провожать меня в дом, и они уходят, не задавая вопросов. Я бесшумно открываю дверь в темную кухню. Печь погасла. Дверь в спальню полуоткрыта, из темноты доносятся голоса. Я снова содрогаюсь, но пальто Кары сейчас не смогло бы мне помочь.
К счастью, я ошибаюсь. Голоса не принадлежат Дженни и Питеру.
– …не хочу об этом сейчас говорить, – произносит Мэйми.
– А я хочу поговорить именно об этом.
– Правда?
– Да.
Я стою, прислушиваюсь к голосам, которые звучат то громче, то тише, прислушиваюсь к раздраженному топу Мэйми и решительному голосу Мак-Хейба.
Дженни – ваша подопечная, гак?
– Ах, Дженни. Да. Еще год.
– Тогда она подчинится вам, даже если ваша мать… решать вам. И ей.
– Думаю, да. Но мне нужно подумать об этом. Мне нужна информация.
– Я отвечу на все ваши вопросы.
– Значит, ответите? Вы женаты, доктор Томас Мак-Хейб?
Тишина. Затем его голос, он уже звучит по-другому:
– Не надо.
– Вы уверены? Вы точно уверены?
– Уверен.
– Совершенно, совершенно уверены? Вы хотите, чтобы я остановилась?
Я пересекаю кухню, ударяюсь коленом о незамеченный в темноте стул. Через открытую дверь спальни я вижу проделанную термитами дыру и усыпанное звездами небо.
– О!
– Я сказал, перестаньте, миссис Уилсон. А теперь, пожалуйста, подумайте о том, что я сказал насчет Дженни. Я вернусь завтра утром, и вы сможете…
– Убирайся ты к дьяволу! – вопит Мэйми. И затем, другим голосом, странно спокойным, спрашивает: – Это потому, что я больна? А ты нет? И Дженни – нет?
– Нет. Клянусь, не потому. Я пришел сюда не за этим.
– Нет, – произносит Мэйми ледяным тоном, я никогда не слышала, чтобы она говорила так, – вы пришли помочь нам. Принести нам исцеление. Дать нам возможность выйти отсюда. Но не всем. А только тем немногим, у кого болезнь еще не зашла далеко, кто еще не слишком изуродован, – тем, кого вы можете использовать.
– Все не так…
– Немногим, кого вы можете спасти. И оставите всех прочих гнить здесь, как мы гнили все эти годы.
– Со временем исследования…
– Время! А что для нас здесь, Внутри, значит время? Здесь время – это дерьмо! Время имеет значение, только когда Снаружи приходит кто-нибудь вроде вас, выставляя напоказ здоровую кожу, и нам становится еще хуже, когда мы глядим на вашу новую одежду, на ваши новые часы, на ваши блестящие волосы, ваши… ваши…
Она разражается рыданиями. Я вхожу в комнату.
– Успокойся, Мэйми. Успокойся.
Никто из них не показывает, что замечает меня. Мак-Хейб стоит на месте; наконец я машу рукой в сторону двери, и он уходит, не сказав ни слова. Я обнимаю Мэйми, она прижимается ко мне и рыдает. Моя дочь. Даже сквозь пальто я чувствую толстые пласты обезображенной кожи на ее щеке, которая прижимается ко мне, и в голове у меня кружится единственная мысль: а я и не заметила, что у Мак-Хейба есть часы.
Позднее, ночью, после того как Мэйми, отупев от слез, впала в забытье, а я несколько часов провалялась на кровати без сна, в нашу комнату прокралась Рэчел и сообщила мне, что Дженни и Хэл Стивенсон получили инъекции экспериментального препарата Тома Мак-Хейба. Она дрожит от холода, но держится дерзко, хотя сама пугается своей дерзости. Я держу ее в объятиях, пока она, в свою очередь, не засыпает, и я вспоминаю Джека Стивенсона в молодости, вспоминаю, как блестели его волосы в свете ламп, когда он воодушевленно доказывал необходимость пожертвовать одной цивилизацией ради другой.
На следующее утро Мэйми уходит из барака рано. Веки ее припухли и покраснели. Я думаю, что она уходит искать Питера, и ничего не говорю. Мы сидим за столом, Рэчел и я, едим свою овсянку и не смотрим друг другу в глаза. Поднять ложку ко рту стоит неимоверных усилий. Мэйми все нет и нет.