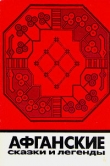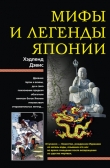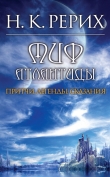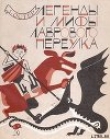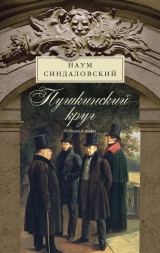
Текст книги "Пушкинский круг. Легенды и мифы"
Автор книги: Наум Синдаловский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава II
РОДОСЛОВНАЯ
Пушкины
Отец Александра Сергеевича Пушкина принадлежал к одной из древнейших дворянских фамилий России. Пушкин гордился, как об этом он сам не раз говорил, своим «шестисотлетним дворянством». Не будем забывать, что при Петре I, а это всего лишь за сто лет до описываемых нами событий, в России появились, говоря современным языком, «новые русские» с новыми, чаще всего европейскими, титулами – графы и бароны. Иметь такое пожалованное звание считалось почетно и даже модно. Однако это не было в чести у представителей старинных русских княжеских родов. Они не без основания говорили: «Родню умей счесть и отдай ей честь». Подразумевалось счесть, то есть сосчитать, можно только то, чего много, а вовсе не одно – два поколения.
Известен анекдот о том, как Пушкин понимал свое происхождение. На одном великосветском бале, на котором все были в расшитых золотом мундирах и только один Пушкин – во фраке, Николай I остановил его вопросом: «Ты кто такой?» – «Я – Пушкин», – ответил поэт. «Я не знаю, кто ты такой?» – повторил император. «Я – дворянин Пушкин». – «Вздор! Если бы ты был дворянином, ты бы явился в дворянском мундире, ты видишь, все в мундирах, ты один – во фраке».
В государственной бюрократической машине, фундаментом коей служила петровская Табель о рангах, мундир служил показателем чина, звания, без которого даже самый гениальный поэт официально находился ниже последнего писаря. Пушкин это остро чувствовал. Владимир Соллогуб вспоминал, что, когда при разъездах кричали «Карету Пушкина!» – «Какого Пушкина?» – «Сочинителя!», – Пушкин обижался. При всей гордости за свою литературную профессию на первое место он, все-таки, ставил древность рода. (Заметим, что именно за это Пушкина не жаловали московские литераторы, многие из них были выходцами из купеческого сословия и не могли похвастаться древностью своих родов. Их раздражал пушкинский аристократизм да еще в сочетании с литературной профессией.) Жена московского друга Пушкина Вера Александровна Нащокина вспоминала, как после помолвки овдовевшей Натальи Николаевны с Ланским начальник московской артиллерии барон Врангель поинтересовался у нее, за кого выходит замуж Пушкина, и, узнав, что за генерала Ланского, удовлетворенно сказал: «Молодец, хвалю ее за это! По крайней мере, муж – генерал, а не какой-то там Пушкин, человек без имени и положения».
Род Пушкиных ведется от некоего Радши, или Рачи, еще во времена князя Александра Невского приехавшего в Россию из Славонии. В XIII веке такое название носили хорватские земли, расположенные в междуречье Дравы, Дуная и Савы. С XVI века название стало официальным. В надписи под гербом Пушкиных эти земли называются Семиградскими: «Изъ Семиградской земли выехалъ знатной славянской фамилш Мужъ честенъ Радша». Кстати, рисунок герба включает в себя изображение княжеской шапки на алой подушке, поднятую вверх руку с мечом и одноглавого орла с мечом и державой в когтях. Все, согласно русской геральдической символике, говорит о знатном славянском происхождении обладателей герба.
Здесь надо сказать об одной особенности пушкинской родословной, которой исследователи не всегда придают должное значение. Дело в том, что Радша волею судьбы оказался предком Пушкиных по обеим линиям: и отцовской, и материнской. Предок Пушкина в шестнадцатом колене стольник Петр Петрович Пушкин, живший в 1644–1692 годах, имел двух сыновей. Старший, каптенармус Преображенского полка Александр Петрович, женатый на Евдокии Ивановне Головиной, стал прадедом Пушкина по отцу, а младший Федор Петрович взял в жены Ксению Ивановну Кореневу и стал предком Пушкина по материнской линии.
Среди более или менее знаменитых русских фамилий, перечисленных Пушкиным в «Автобиографии», которые пошли от этого Радши, некогда избравшего новую родину, есть и такие широко известные имена, как Мусины-Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, Кологривовы. Фамилия же самого Пушкина, которая, как пишет сам Александр Сергеевич, «встречается поминутно в нашей истории», не раз упоминалась летописцем нового времени Карамзиным в его многотомной «Истории государства Российского».
Интересно отметить, что и сам Радша имел богатую и древнюю родословную. Только упоминание его далеких предков, а значит, и предков Пушкина – это увлекательнейший экскурс в историю Российского государства. Исследователи считают, что предком поэта в 31 колене был сам легендарный Рюрик, а в 22 колене – основатель Москвы Юрий Долгорукий. Предком поэта по прямой линии являлся Александр Невский. Родней Пушкину приходятся спасители России от иностранных интервенций Дмитрий Пожарский и Михаил Кутузов. Предки Пушкина были известны во времена Ивана Грозного. Четверо Пушкиных подписались под грамотой об избрании на царство Романовых. Служили Пушкины и при Петре I.
Письменные свидетельства о фамилии Пушкиных впервые появляются в XV веке. Тогда под этой фамилией был записан дворянин Константин Пушкин, младший сын некоего Григория Александровича по прозвищу «Пушка», принадлежавшего в свою очередь к седьмому колену от основателя рода легендарного Радши.
Предки Пушкина по отцовской линии были людьми деятельными и энергичными. Но в семейной жизни нравы многих из них отличались крайней грубостью, дикой жестокостью и беспощадностью. Благодаря Пушкину нам известны два случая из жизни деда поэта, которого он называет «пылким и жестоким». Эти рассказы, уже после смерти Пушкина, в 1840 году были опубликованы в журнале «Сын отечества». Тогда же их достоверность в письме в редакцию журнала решительно и с негодованием опроверг отец поэта Сергей Львович, что дает нам право считать оба рассказа семейными легендами Пушкиных. Если верить им, прадед Пушкина по отцу зарезал свою жену во время родов, а первая жена деда Пушкина умерла в домашней тюрьме, куда он ее заточил только за одно подозрение в связи с неким французом, учителем его детей. Самого же француза он будто бы самолично повесил на черном дворе.
Тиранил он и вторую свою жену. Однажды, когда она была на сносях и вот-вот ожидала роды, да к тому же чувствовала себя крайне нездоровой, он потребовал от нее одеться в лучшие свои наряды и поехать с ним в гости. В дороге она почувствовала родовые муки. Так, «разряженная и в бриллиантах», прямо в карете, она и родила, как пишет Пушкин, «чуть ли не моего отца». Домой ее привезли полумертвой.
Впрочем, не менее дикими страстями отличались предки поэта и по материнской линии. Известно, что его прадед Ганнибал, гордившийся своим абиссинским происхождением, заставил свою белокожую жену постричься в монашенку только за то, что она родила ему белую дочь, а дед Пушкина Осип Ганнибал при живой жене женился вторично, представив фальшивое свидетельство о смерти первой.
Отец Пушкина, как и положено в дворянских семьях, с детства зачисляется в армию, сержантом в лейб-гвардии Измайловский полк. Реально начал служить только в 1791 году, когда переехал в Петербург. В 1796 году он женился на Надежде Осиповне Ганнибал, а через год в чине капитан-поручика вышел в отставку. Писал стихи, слыл мастером на каламбуры, за что был неизменно любим в аристократических салонах. В городском фольклоре сохранился анекдот о том, как однажды Сергей Львович встретил знаменитого в то время комедиографа Копьева, известного в Петербурге своей невероятной скаредностью. Из экономии он даже своих собственных лошадей постоянно недокармливал, отчего те едва передвигали ноги. Поравнявшись с Сергеем Львовичем, Копьев предложил его подвезти. «Благодарю, – ответил тот, – но не могу, я спешу».
Сергей Львович тоже отличался редкой скупостью. Сохранился анекдот из его семейной жизни. Однажды сын Сергея Львовича – Лев – за обедом разбил рюмку. Отец вспылил, а затем весь обед проворчал. Не выдержал и Лев. «Можно ли, – сказал он, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» – «Извините, сударь, – с чувством возразил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек».
Однако к серьезной деятельности Сергей Львович, как говорят, расположен не был, предпочитая службе и хозяйственной деятельности светские визиты и холостяцкие развлечения. О его беззаботности и легкомыслии ходили легенды. Любимым занятием Сергея Львовича во время службы в гвардейском полку было сидеть у камина и помешивать горящие угли своей офицерской тростью. Как-то раз, согласно легенде, с такой обгоревшей тростью Сергей Львович явился на учения, за что будто бы и получил выговор от командира: «Уж вы бы, поручик, лучше явились на ученья с кочергой».
Рассеянность Сергея Львовича принимала порой самые неожиданные формы. В салонах рассказывали историю, как однажды на придворном балу к нему, стоявшему на одном месте и не принимавшему участия в танцах, подошел император Павел Петрович. «Отчего вы не танцуете?» – спросил он его. «Я потерял перчатки, Ваше величество», – ответил Сергей Львович. Государь снял со своей руки перчатки и благожелательно сказал: «Вот вам мои». Затем взял Сергея Львовича под руку и подвел его к одной даме. «А вот вам и дама», – великодушно добавил он.
В 1796 году Сергей Львович женился на Надежде Осиповне Ганнибал. В сложной системе родственных связей семьи Пушкина Надежда Осиповна приходилась своему мужу внучатой племянницей. Ее мать, дочь тамбовского воеводы Мария Алексеевна, в замужестве Ганнибал, была Сергею Львовичу троюродной сестрой. Между прочим, она стала первой воспитательницей Пушкина, выучила его читать и писать по-русски и, по утверждению П. И. Бартенева, значила для формирования детского мировоззрения Пушкина не меньше, чем его знаменитая няня Арина Родионовна.
Мария Алексеевна искренне любила своего внука. В ее имении Руново, что находится вблизи деревни Кобрино по дороге в Михайловское, до 1940 года росла старая развесистая липа. По местным преданиям, ее посадила Мария Алексеевна, когда до нее из Москвы дошли вести о рождении Александра Сергеевича. Любил свою «московскую бабушку» и Пушкин. Ей он посвятил несколько благодарных строк в неоконченной поэме «Езерский»:
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
Об отдаленной старине…
После развода с Осипом Абрамовичем Ганнибалом Мария Алексеевна жила с единственной дочерью Надеждой Осиповной и умерла в 1818 году в Михайловском на руках своего внука, который впервые приехал туда летом того же года, сразу по выходе из Лицея.
Сергей Львович Пушкин пережил знаменитого сына более чем на десять лет. Он скончался в 1848 году. Прах его покоится на семейном кладбище Пушкиных возле Святогорского монастыря, рядом с могилой его жены Надежды Осиповны и сына Александра Сергеевича.
Ганнибалы
Если происхождение отца Пушкина считалось в России довольно традиционным, так как в жилах многих отпрысков старинных русских дворянских семей текла кровь немецких, литовских, польских, французских и других искателей счастья, богатства и благополучия, в разное время покинувших свою родину и поступивших на службу русским государям, то происхождение матери поэта, Надежды Осиповны, представляется более экзотичным. Прадедом Пушкина по материнской линии был русский военный инженер, генерал-аншеф, начинавший свою карьеру с должности камердинера и личного секретаря Петра I, африканец абиссинского происхождения Абрам Петрович Ганнибал.
Надежда Осиповна была дочерью сына Абрама Петровича – Осипа Абрамовича. В молодости она слыла необыкновенной красавицей, была украшением салонов, где ей постоянно ласково и любовно намекали на африканское происхождение, в глаза и за глаза называя «Прекрасной креолкой», или «Прекрасной африканкой». Правда, среди дворовых людей можно было услышать и более вульгарное прозвище «Арапка», но Пушкину льстило древнее и благородное происхождение матери. Абиссинские цари считали себя прямыми потомками царя Соломона и царицы Савской.
Из истории известно, как Ганнибал появился в России. Русский посланник в Константинополе Савва Рагузинский в 1705 или 1706 году прислал приобретенного им на рынке рабов ребенка в подарок Петру I. Правда, в пушкинском Петербурге бытовала злая легенда о том, что Ганнибала купил Петр I у пьяного английского матроса за бутылку рома. Известно, что эта легенда стала предметом яростного ожесточенного литературного спора между Пушкиным и Булгариным. В ответ на бесцеремонный выпад последнего Пушкин ответил стихами, в которых вывел известного литературного фискала под именем Видока Фиглярина. Все в этом прозвище было убийственным. Имя полностью совпадало с фамилией известного французского сыщика Эжена Франсуа Видока, а фамилия была произведена от слова «фигляр», то есть грубый, жалкий шут.
Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкипера попал.
Так или иначе, царь крестил десятилетнего мальчика, дав ему в качестве восприемника свое имя и производное от него отчество и фамилию: Петр Петрович Петров. Абрамом тот стал по собственной инициативе. Будто бы, еще находясь в мусульманской Турции, он так привык к данному ему там имени Ибрагим, что выпросил разрешение называться в России русским аналогом этого имени. С фамилией сложнее. Согласно одной легенде, Абрам Петрович получил ее лично от Петра в честь легендарного полководца Древнего мира – покорителя Карфагена Ганнибала, причем, скорее всего, первоначально «Ганнибал» было прозвищем чернокожего мальчика. Согласно другой легенде, фамилию Ганнибал он присвоил себе сам, в память о своем африканском происхождении. И произошло это гораздо позже, уже после смерти Петра I. Будто бы, прибыв в Сибирь, он решил, что громкая фамилия поможет ему в его положении ссыльного. Во всяком случае известно, что первоначально чернокожего генерала звали просто Абрам-арап, или Абрам Петров, и только потом, через несколько десятилетий «Петров» превратилось в «Петрович». Тогда же появилось и добавление – Ганнибал. Историкам известно и первое упоминание имени Ганнибал в качестве фамилии. Оно действительно впервые упоминается в 1727 году, в официальном документе, связанном с приездом Абрама Петровича в Сибирь: «В декабре месяце прибыл из Тобольска лейб-гвардии, бомбардирной роты, поручик Абрам Петров, арап Ганнибал, для строения селингинской крепости».

А. П. Ганнибал
Есть и еще одна легенда, автором которой считается сам А. С. Пушкин. Согласно ей, женил Ганнибала сам Петр I, просватав за своего арапа русскую барышню. Однако известно, что впервые Ганнибал женился только через шесть лет после смерти императора, в 1731 году, после возвращения из Сибири, где он находился в ссылке. Его супругой стала гречанка Евдокия Андреевна Диопер, а когда та умерла, вдовец женился вторично, и уже от этого брака родился дед Пушкина Осип Абрамович Ганнибал.
Второй женой Ганнибала стала ревельская уроженка, дочь капитана Матвея фон Шеберга, полунемка-полушведка Христина-Регина фон Шеберг. У них родилось 11 детей, из них четверо умерли в раннем возрасте. Один из сыновей – Осип – и стал дедом Пушкина по материнской линии.
Как попал чернокожий мальчик из Эфиопии в Турцию, где он родился, непонятно, но в семье Пушкиных сохранилась легенда о том, что единокровный брат Ганнибала однажды отправился на поиски Ибрагима. Не найдя Ибрагима у турецкого султана и узнав каким-то невероятным образом, где надо его искать, брат будто бы явился в Петербург с дарами в виде «ценного оружия и арабских рукописей», удостоверяющих княжеское происхождение Ибрагима. Братья встретились, но православный к тому времени Абрам Петрович Ганнибал, как рассказывает предание, не захотел вернуться к язычеству, и «брат пустился в обратный путь с большой скорбью с той и другой стороны». По другому преданию, Петр I сам категорически отказал Ганнибалу в его возвращении на родину предков.
Совсем недавно, уже в наше время, эти легенды вроде бы получили неожиданное подтверждение. Некий Фарах-Ажал, проживающий в поселке Неве-Кармаль на территории современного Израиля, рассказал журналистам, что один из его предков в Эфиопии по имени Магбал мальчиком был подарен «белому царю». Это происходило во время какой-то войны, когда «белый царь» помогал эфиопам оружием. В деревне до сих пор живет легенда, что Магбала обменяли на оружие. Через много лет до эфиопской деревни дошли сведения о том, что Магбал стал большим человеком у «белого царя». Портрет мальчика, сделанный художником, находившимся в составе миссии «белого царя», по утверждению Фараха, до сих пор хранится у одного из многочисленных родственников Магбала. Кстати, определение «белый» на родном языке Фараха обозначает не только цвет кожи, но также и такие понятия, как «холод», «лед», «снег». Что придает легенде еще большую достоверность.
Между тем более чем через триста лет после рождения Ганнибала была предпринята серьезная попытка разрушить монополию на легенду о его эфиопском происхождении. В 1962 году в английском журнале появилась статья Владимира Набокова «Пушкин и Ганнибал», в ней он доказывал, что знаменитый предок Пушкина родился в султанате Логон, в XVII веке находившемся на территории современного Камеруна. Все бы ничего, ну Африка и Африка, если бы не одно обстоятельство. В последнее время между двумя странами – Камеруном и Эфиопией – разгорелась нешуточная борьба за право называться родиной прадеда «великого африканского поэта» Пушкина.
Но вернемся в Россию. В народе Ганнибала окрестили «Арапом», «Арапом Петра Великого» и «Черным барином». Иногда это обстоятельство приводило к самым невероятным происшествиям. Однажды ночью, возвращаясь из Петербурга в свое имение Суйду, Ганнибал нанял извозчика. К утру приехали в Суйдинскую вотчину. Было уже довольно светло. Извозчик повернулся к барину, чтобы получить плату за проезд, но, взглянув на него, в ужасе закричал: «Вез барина, а привез черта!» Потерял сознание и упал с тарантаса. Дворовые и в самом деле считали Абрама Петровича дьяволом и утверждали, что «когти его были копытцами».
Между тем в современной Суйде память о любвеобильном «Черном барине» сохраняется до сих пор. Многие суйдинцы считают, что в их жилах течет горячая африканская кровь, и вполне откровенно называют себя внебрачными потомками Абрама Петровича и родственниками самого Пушкина.
Старинное село Суйда, или «Погост Никольский Суйдовский», упоминается еще в новгородских Писцовых книгах. Тогда это была небольшая деревушка Суйда на левом берегу одноименной реки. В первой четверти XVIII века Суйда пожалована Петру Матвеевичу Апраксину, освобождавшему этот край от шведов. По одному из местных преданий, в строительных работах по благоустройству усадьбы участвовали пленные шведские солдаты. Об этом напоминает пруд, сооруженный ими в усадебном парке. Говорят, Апраксин, чтобы поиздеваться над шведскими солдатами, лично придумал оригинальную форму пруда. В плане его очертания напоминают натянутый лук, направленный в сторону Швеции.
Необычная форма пруда породила легенду о том, что именно здесь, в Суйде, находится знаменитое пушкинское Лукоморье, о котором говорится во Вступлении к поэме «Руслан и Людмила». Будто бы Пушкин писал поэму, сидя под старинным дубом, на каменном диване, вырубленном некогда из огромного валуна крепостными крестьянами для своего «Черного барина» – Абрама Петровича Ганнибала (на самом деле поэт в Суйде никогда не был). Каменный диван сохранился. Возле него до недавнего времени и в самом деле рос развесистый 700-летний дуб, вокруг которого, как утверждает Пушкин, «и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Теперь не ходит. В 2000 году дуб погиб. Говорят, его подожгли местные недоросли.
Из других легенд о Ганнибале известна одна, согласно которой именно ему Россия обязана полководческим гением Суворова. Будто бы Ганнибал, друживший с отцом полководца, сумел уговорить его уступить наклонностям сына и разрешить юноше вступить на военное поприще.
Петербургский городской фольклор до сих пор обращается к имени славного предка великого поэта. Так, фразеология современного Петербурга пополнилась еще одной лексической конструкцией, напрямую связанной с Ганнибалом. Речь идет о пословице «Темен, как Ганнибал». И, надо сказать, более удачного объекта в качестве метафорического средства для иронически уничижительного поношения человека невежественного и малообразованного, чем зримый образ единственного в русской истории столь высокопоставленного чернокожего вельможи, как Абрам Петрович Ганнибал, пожалуй, и не сыскать.