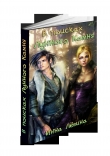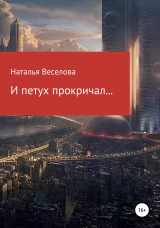
Текст книги "И петух прокричал…"
Автор книги: Наталья Веселова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
В роковой день все потекло быстро и необратимо. Сначала он слышал редкие болезненные стоны из-за запертой двери ванной, негромкие приказы акушерки: роды, казалось, шли очень легко – во всяком случае, во всех фильмах, где их показывали, роженицы испускали дикие и неприличные вопли, а Лена так ни разу по-настоящему и не крикнула; он, например, гораздо громче вел себя в кабинете травматолога год назад, когда сверзился с велосипеда, и ему вправляли вывихнутое плечо… И таинственный хрупкий сынок, которого скоро с победоносным видом вынесла к юному отцу акушерка, тоже голосил прямо по-мужски – Влад принял его, неожиданно красненького и головастого, в свои трясущиеся руки. Прошло несколько полностью позабытых минут – их поглотило трепетное осознание важности свершившегося таинства, после которого жизнь не может идти по-прежнему…
Но эти минуты быстро кончились, и настали другие, навеки незабываемые: темные лужи на линолеуме, окровавленные тряпки по всему полу; на хозяйском диване, наспех застеленном куском полиэтилена, накрытая светлым плюшевым пледом, на котором тоже быстро проступают багровые пятна, крупной дрожью трясется и что-то бормочет родильница – уже отходящая, уже равнодушная даже к новорожденному сыну, в спешке положенному акушеркой голеньким прямо на стол, горько зовущему мать из-под наскоро накинутой пеленки с бабочками… Неустойчивый взгляд Лены на какой-то миг ловит искаженное лицо растерянного мужа – а у него нет сил и жалости даже взять ее ледяные руки в свои, прошептать нежное, подбадривающее, потому что нежности не осталось, потому что любовь ушла, потому что ее и вовсе не было; с великим облегчением кидается он на дверной звонок – это приехала уже бесполезная «скорая»…
* * *
И не общались в церкви запросто, и приходили-уходили не вместе – а вот поди ж ты: отец Петр прекрасно знал, про кого, опустив глаза, мямлят они на исповеди – живу-де невенчанно… И говорил каждому отдельно: «Кайся в этом на исповеди, молись, чтоб Господь управил», – и ничего более. Потому как знал природу человечью… Ну, что – сказать им теперь: либо женитесь, либо расходитесь, либо к Чаше не приближайтесь? А по Номоканону – так и вовсе за это на семь лет отлучать положено. Только уже лет сто пятьдесят, как ни одним вменяемым отцом не применяется. А он, отец Петр, и вообще не знает – не утратил ли сам право «вязать и решить» – с той проклятой ночи, до которой попадья его, Валентина, к счастью, не дожила… Как убивался он, тогда тридцатилетний безумец, узнав, что бездетность ее – неспроста, а из-за рака четвертой стадии, которую никто никогда не заметил, – да и где, кому заметить было? Загнали обоих после семинарии (в один год окончили; она – регентское) в полуживую деревню на краю области, где из медицины – только медсестра-пенсионерка на пункте, два раза в неделю с девяти до часу; ничего не болит – значит, здоров, заболело – анальгин прими или чаю с малиной выпей. А у Вали и не болело. По первости несколько лет, пока церковь достраивали, да трухлявый священнический дом до ума доводили, да прихожан себе отыскивали, – только радовались, прости Господи, что Он детей пока не посылает. Когда заволновались, еще пару лет недосуг было провериться – и вот собрались, наконец, в родной Питер, да и там не сразу руки дошли. А когда дошли – врач у Вали на яичнике огромную кисту обнаружил, удалили – а это рак; метастазы уже и в мозг выстрелили – то-то жена на головокружения недавно жаловаться стала… Думали, что от тревог и многозаботливости, а оказалось…
А оказалось, что радоваться надо было, потому что до той страшной новогодней ночи, что очень скоро разделила его жизнь на роковые «до» и «после», попадья не дожила буквально неделю… И вот уже тридцать один с лишком год он твердо знает: не служи за него невидимо ангелы, как за нерадивых или пьяных попов, – и вино с хлебом у него бы в Плоть и Кровь не претворялись. Только прихожане-то, умильно складывающие руки перед Чашей, не виноваты – вот и вышла ангелам лишняя работа. А то другой им мало. Особенно теперь, во времена, которые, вполне может статься, последние. А раз так – то все эти испуганные полухристиане, теперь валом повалившие в храмы, в том числе и Владислав с Василисой, в жизни будущего века могут оказаться выше первомучеников… Кто он такой, чтобы им указывать, как заповеди соблюдать, да еще и жизни их об коленку переламывать, если сам…
Владик ему нравился – среднего роста русоволосый парень с красивой бирюзовинкой в непростом, проницательном взгляде; а главное, по-хорошему, по-доброму веселый парень – не из лукавых смехачей и смехотворцев, а от глубинной доброты и вечной детскости, что прямой дорогой в рай ведет… Действительно жаль, что вдовый, – не то давно бы с Василисой обвенчал его, да и отправил в семинарию. Она-то замужем не была, ну, а про физиологические подробности ныне особо не вспоминают… Толковый бы получился священник со временем, к людям чуткий и характером легкий – да что уж теперь. А с Василисой точно любовь у них зреет, большая, тут не обманешься. Она – слева, у поминального ящика, даже в платочке темненьком – хотя сейчас в городах уж такое редко встречается. Со стороны посмотришь – никогда не скажешь, что бизнес у нее там какой-то крутой и успешный, что выйдет из храма – да и уедет на молодом «мерине». Владик же спустится с клироса – и полезет на леса тонкие золотые листы по куполу разглаживать; а к вечерне, когда останется в храме один псаломщик, по совместительству алтарник, – тут опять Влад тут как тут: и на чтении его подменит, и кадило раздует, и Евангелие на нужной странице раскроет – и все ловко, споро, без суеты ненужной… А живут-то с Василисой, скорей всего, вместе… Только в воскресенье часто стоит Влад с малым сынишкой (раньше на руках всю службу держал его, теперь чинно – за руку и иногда, склонясь, по-отцовски увещевает – смотреть умилительно) – и никто его утруждать на службе не думает: без матери ребенка растит, только с бабушкой – шутка ли! Нет, не пойдет за него богатая Василиса… Или пойдет? Есть в ней что-то надломленное… Стихи пишет, искренние и неумелые, что-то про «дикирий66
Двухсвечник для архиерейского богослужения; две свечи символизируют два естества Иисуса Христа.
[Закрыть] стойкий» и «царевен-мучениц», книжку свою издала и подарила ему – прочитал и прослезился: видно, что много человечек пережил, но внутри – как хрусталь, ничего не пристало… Как такое бывает? Красивая женщина, чистого русского типа, под платком тяжелый узел русых волос угадывается, лицо светлое и умное, глаза ясные, сама не худосочная, лет под тридцать, на пальце кольцо с большим сверкающим бриллиантом. Ну и что? Заработала. Когда церковную кружку вскрывают, отец Петр почти наверняка знает, что большая часть крупных купюр – ее. Так что ж – молодухе колечком себя не побаловать? Стоит, никого не трогает, ни с кем не разговаривает – а словно невидимая нить между ней и Владом натянута; нет, не нить – провод. Электрический. Он читает и поет – для нее (должен бы для Бога, конечно, да разве ж усовестишь), а она и в храм – не совсем к Богу, и тоже ничего не скажешь… Да еще сейчас, когда того и гляди жахнет.
Последнее время после службы он домой редко ездил – пусто, холодно, и сирень под окнами ироды вырубили – ночевал прямо в храме, на кушетке в своем настоятельском кабинетике. Вот и в ту ночь правило отбубнил с полузакрытыми глазами – и, у раковины наскоро ополоснувшись, навзничь лег, на лампаду глядя; задумываться не хотел, тогда бы точно сон долой, а уж сколько толком не спал… Да и о чем задумываться? Грех свой он так никому и не исповедал – язык не повернулся, только в общих чертах, запутанно промямлил что-то, когда заезжий священник одну литургию сослужал с ним, – так тот и не понял ничего – короче, не считается… Поэтому лежал почти без мыслей, радио потрескивало тишиной, язычок пламени в оранжевом стекле лампадки мерцал еле-еле… И все равно не спалось, хоть ты что делай, – как заноза внутри гноилась, даже злость какая-то подниматься стала – на Бога, именно на Него, не как-нибудь! Поднялась – и выплеснулась. В глухом раздражении подлетел со своего тощего одра, подумал в подрясник влезть – да не стал из принципа, только брюки натянул и свитер, в мирском в храм выскочил, свет включил… В алтарь, правда, не решился в таком виде – но прямиком к нерукотворному Спасу, лоб перекрестил – и безо всяких там предначертательных77
Молитвы (как правило, с «Трисвятого» по «Отче наш») с определенными тропарями, читающиеся перед основным молитвенным правилом или прошением.
[Закрыть] бухнул Ему в очи: «Ну, дай мне шанс! Я ведь тоже тварь Твоя, хоть и гнусная! Немощь мою и Сам знаешь – так помоги же, наконец, как-нибудь! Тридцать один год, пять месяцев и четыре дня терзаюсь – освободи! Ну, не могу я так больше мучиться! Один шанс дай! Один! Ну, а коли не оправдаю – прибей тогда, как пса смердящего, и труп выкини! Во тьму внешнюю…».
Другой бы испугался собственной дерзости, ужаснулся – а отец Петр, иссякнув на полуслове, стоял перед Спасом молча. И вдруг понял, что услышан. И что там сейчас именно о нем держат совет Трое… Постоял немного в растерянности: неужели так просто? Что это было сейчас с его стороны – дерзость или… дерзновение? Лучше не думать… Он перекрестился и тихо пошел к себе.
Утром его разбудил стук в окно – значит, пришел кто-то из своих, знавших о привычке настоятеля иногда оставаться в запертом храме на ночь. Светящийся циферблат показывал половину седьмого утра – то есть, службу он, по крайней мере, не проспал, зато кто-то, верно, при смерти, и сейчас повезут исповедовать. Он откинул зеленую штору и увидел близко за стеклом словно росой умытое лицо Владислава, чуть поодаль, за оградой, – пыльный Василисин «мерседес» и ее саму у раскрытой задней дверцы. «Надо же, не скрываются. Точно случилось что-то… Не приведи Бог, с ребенком…» – со сна тупо предположил отец Петр. «Дверь откройте, батюшка! Занести надо!» – кричал за окном Владик. «Гроб с покойником? В такую рань? И не позвонили?» – лихорадочно соображал священник, наскоро одеваясь.
Когда он, наконец, распахнул двери на паперть, молодые люди сияли; Василиса держала на весу перед собой что-то, похожее на маленькую столешницу, заботливо обмотанное тюлевой тканью и перевязанное.
– Скорей, отец Петр! – нетерпеливо бормотала Василиса, шагая внутрь. – Помогли бы даме… – она тоже улыбалась.
Донесла до широкой лавки, положила плашмя, и только тогда отец Петр додумался:
– Икона! Храмовая!
– «Нечаянная радость», – гордо сказал Владислав. – Только к вам. Больше не к кому.
Он не мог знать, что отец Петр в первый миг не понял, что ему просто сообщили название привезенной иконы, зато вспомнил свой ночной демарш к строгому Спасу, дерзкую молитву, понимание, что ее услышали и решают его участь, сопоставил одно с другим… Потому Влад и переглянулся с Василисой совершенно непонимающе, видя, как вдруг зашатался на месте их только что вполне бодрый духовник, как дико взглянул на них, перевел глаза на Нерукотворного Спаса…
– Батюшка… Все хорошо? – решилась женщина. – Может, мы что-то не так сделали?
Он кивал, постепенно обретая дар речи, сердце замедляло бег… Решение, значит, принято положительное. Теперь следует ожидать последний шанс.
Икону перенесли в кабинет, аккуратно положили на стол, со всею почтительностью распаковали… Это действительно оказалась она, «Нечаянная радость» с коленопреклоненным грешником; на вид – конца девятнадцатого века, с очень грязными, в потеках и разводах ликами, в дешевом и довольно грубом латунном окладе, во многих местах утерявшем гвоздики, которыми был прибит. Под ним могло скрываться все, что угодно: драгоценная икона, писанная в стиле классицизма или, например, безыскусно напечатанные лики и дурно отесанная доска. В любом случае, это была старинная святыня возрастом около полутора сотен лет…
– Батюшка, гвозди на окладе еле держатся, может, снимем его осторожненько? – угадал его мысли Влад. – И вообще интересно, что там под ним…
– Конечно, снимем, все равно мыть-чистить ее надо, – согласился священник, сам немало заинтригованный. – Где взяли-то?
– Да так… – замялся Влад при потупленном взгляде Василисы. – В деревне одной дом брошенный – кто только там перед нами не побывал! Мы так просто зашли, из любопытства… И вот…
Отец Петр энергично кивнул, не желая вводить ребят в смущение, – что, дескать, за деревня, как там оказались вдвоем, да не ночевали ли случайно в одной комнате, – и все немедленно в шесть рук приступили к делу.
Оклад сходил легко. Дребезжащий, хрупкий, во многих местах истончившийся почти до прозрачности, с будто мышами обгрызенными венцами у Богоматери и Младенца, заросший вековой пылью, грязью и паутиной, выбрасывающий из-под себя россыпи засохших мух и пауков, видевших этот свет быть может, в позапрошлом веке…
Уже было понятно, что это не штамповка – а полноценно написанная заказная икона, прекрасно сохранившаяся, только очень грязная, буквально исторгавшая из-под оклада комья свалявшейся пыли и мусора – и вдруг Василиса коротко взвизгнула:
– Ай! Крыса сушеная! – когда вывалилось что-то серое и продолговатое, глухо шмякнувшись об пол.
С полминуты поколебавшись, Влад подобрал это, пробормотав про себя: «Не могла она упасть с таким стуком…», – и выпрямился, отряхивая от векового праха неизвестный предмет:
– Да это сверток, господа… Обернут какой-то очень твердой материей, – («Парусина», – подсказала Василиса), – и перевязан… Ага, веревка сгнила давно…
Бросив свое дело, все они сгрудились над таинственной находкой и принялись осторожно разворачивать ее на краешке стола.
– Бомба времени… Вот, как она выглядит, оказывается… – прошептала Василиса.
– Главное, пока не ядерная, – сострил Владислав. – Смотрите, там бумага под парусиной… Коричневая, как оберточная, только плотнее…
– Осторожно, а то рассыплется еще… – волнуясь сверх меры, потому что откуда-то знал, что все это напрямую касается лично его, предупредил пересохшим ртом отец Петр.
Но лист бумаги оказался промасленным – из тех, почти неподвластных времени, в которых хранили оружие, но по весу пакета было уже ясно, что металла в нем нет. Бумагу сняли, обнаружив под ней еще одну, в несколько слоев, – твердую и хрустящую, в какой много лет назад продавались бинты…
– Что же там спрятано такое… – выдохнула женщина. – Может, бриллиант? Один, но очень ценный…
– Тебе-то он, в любом случае, не достанется, – с притворной строгостью сказал Влад. – Это все рано достояние Церкви…
– Да и вряд ли он сейчас кому-то особенно поможет. «…Злато будет, как грязь, под ногами потомков»88
Поэт А. Маничев.
[Закрыть], – поэт это еще в прошлом веке написал, но время, кажется, наступает, – сказал отец Петр и, задержав дыхание, снял последний слой бумаги.
Пронесся общий разочарованный выдох: в сердцевине своей пакет содержал обычный, ввосьмеро сложенный тетрадный листок, пожелтевший до коричневатости, ровно исписанный несколько поблекшими карандашными буквами.
Влад вышел из остолбенения первый:
– Увы, увы, увы! – громко провозгласил он. – Кому бы ни было адресовано сие таинственное послание, адресат явно не дожил до его получения.
– А вдруг нам?! – с робкой и смешной надеждой спросила Василиса, и мужчины коротко хохотнули над ее дамской романтичностью.
– В любом случае, давайте прочтем, – скомандовал отец Петр, и три разноцветные головы – седая, пепельная и темно-русая – интимно сблизились над углом стола.
* * *
Владислав с некоторым изумлением начинал понимать, что ему действительно нравятся именно сильные и независимые женщины, сделавшие, как принято говорить, «сами себя». И обязательно умные – только не традиционно похвальной женской «мудростью», заставляющей отрекаться от себя в пользу надуманных ценностей, а настоящим, от пола не зависящим, гибким и острым умом. Умом, который не подавляет и не наставляет других, а просто есть в распоряжении обладательницы как данность – и женщина автоматически принимает верные решения, без насилия ведет за собой других людей обоего пола – тех истинно мудрых, кому чужды петушиные обиды, вроде: «А чего это тут баба раскомандовалась!». Мужчина, оценивший и полюбивший такую женщину, – вовсе не тряпка, как любят изгаляться неудачливые мачо, считающие, что «Баба должна быть вот, где!» – и демонстрирующие брутальный кулак, на деле не способный удержать и курицу. Чувствовать превосходство над откровенно беззащитной истеричкой, которую сам себе и вылепил с этой целью, – не велика мужская заслуга, думал Влад. А ты вот встань-ка рядом с такой вот – гордой, цельной, раненой, но уверенно поднявшейся на ноги, – и добейся, чтобы она считала тебя равным и спрашивала твое мнение, – вот только тогда и можешь называть себя крутым мужиком…
В тот летний день почти год назад – когда еще все было почти в порядке вокруг, еще не покатился под гору смертельный ком, готовый вот-вот захватить и его самого, и сына, и мать, и Василису, – Влад неловко оступился на лестнице, спускаясь после литургии с клироса, полетел головой вниз и довольно сильно разбился, подвернул ногу, ушиб грудь и голову… «У меня в машине есть аптечка», – сказала оказавшаяся рядом высокая статная прихожанка в темной косынке, с внимательными светлыми глазами. Он не стал изображать из себя героя – мол, пустяки, до свадьбы заживет, – потому что его действительно порядком оглушило, а на ногу едва можно было ступить. До машины доковылял, с одной стороны поддерживаемый здоровенным парнем-регентом, а с другой – этой доброй женщиной; почему-то ожидал увидеть старенькую обшарпанную иномарку, а увидел новехонький свежевымытый «мерседес» – из тех, в которых уже были поставлены первые автопилоты. Гаденько ухмыляясь, регент впихнул пострадавшего на заднее сиденье и исчез. А женщина сняла платок, обнаружив волнистые пепельно-русые волосы, небрежно собранные на затылке, – и, улыбнувшись, одним движением вынула заколку, чтобы рассыпать их по плечам. Влад сразу понял, что сделано это было не из пустого бабьего кокетства, а просто по привычке: садясь в машину после службы, она всегда снимала обязательный в церкви покров и распускала волосы, что машинально сделала и теперь. Сверкнули бриллианты в ушах… «Мужик у нее богатый», – ревниво кольнуло Влада, когда спасительница споро, явно имея не раз примененный навык, промывала ему ссадины перекисью и заклеивала лейкопластырем наиболее пострадавшие места; он пока еще был полностью во власти стойкого стереотипа, что благосостояние женщины зависит исключительно от ее мужчины. То, вероятно, действовал яркий материнский пример: нет мужа – есть нищета и тяжкий труд, а будь у них папа – и зажили бы другим на зависть.
– С ногой вашей я ничего не могу поделать, – закончив почти безболезненную, ощутимое облегчение принесшую первую помощь, сказала Василиса (имя ее он давно уже подслушал у Чаши, мимоходом подивившись). – Поехали в травмпункт, нужен рентген, вдруг вы лодыжку сломали…
Влад оценил ее деликатность: она, конечно, могла отвезти его в дорогую клинику, где за деньги его бы в эту ногу хоть поцеловали, и оплатить все исследования, – но, не зная, достаточно ли у него денег на платное лечение, и не будучи уверенной, что он примет их от нее, доставила в обычное районное отделение с длинной очередью покалеченных вдоль темного коридора – спасибо, хоть с рентгеном на том же этаже… Здесь ее христианский долг перед ним заканчивался, с чистой совестью могла Василиса, пристроив терпилу на скамейку, попрощаться – но она без колебаний осталась и просидела с ним плечом к плечу, подбадривая, рассказывая истории про собственные попадания в гипс – забавные, как все давно пережитое и благополучно закончившееся, – не менее четырех часов. А тем временем в кабинете кого-то неспешно зашивали, гипсовали и освобождали от клещей, после выдаваемых в бумажке для анализа на энцефалит… Нога болела жутко и пухла прямо на глазах – а Влад был идиотически счастлив. С Василисой он чувствовал небывалый покой – и совсем не как с матерью, рядом с которой все время приходилось держаться настороже, чтобы случайно не пошатнуть тот образ, который она сама для своего сына придумала – непутевого и безвольного болванчика, – и не огрести тем самым неприятностей. И не как с Леной, при которой требовалось постоянно как бы ходить на цыпочках, чтобы, опять же, дотягивать до придуманного ею – на сей раз для себя – образа «золотой» богемы. И уж, конечно, не как с несколькими другими девушками, глубоко его не цеплявшими и довольствовавшимися самым рядовым поверхностным отношением: подарил кулончик – значит, любит… С этой женщиной он с самого начала разговаривал, как с самим собой. Она родилась на четыре года раньше него – и тоже так и осталась тайной для собственных родителей, живя своей насыщенной внутренней жизнью, куда путь им был заказан, а внешне с дочерним послушанием демонстрируя то, что они ожидали увидеть: скромную девочку со средними способностями, в лучшем случае, будущую воспитательницу, чью-то в меру несчастную жену и мать… Сразу после школы она без сожаления покинула скучный отчий дом – и дальше пошли сплошные увлекательные «университеты»! Она работала телерепортером и помощником режиссера, организовывала и водила экскурсии, писала статьи в газеты, участвовала в кругосветной экспедиции, издала книгу стихов, волонтерствовала в детском хосписе, основала и раскрутила умный глянцевый журнал, которым владеет и до сих пор, – оттуда и внезапный достаток. А вот «корочек» не нажила ни одних! Но фору даст какой-нибудь очкастой краснодипломнице… Любой мужчина-авантюрист мог позавидовать внушительному списку «специальностей», коим обучил восприимчивую студентку самый искусный педагог на свете – кипучая человеческая жизнь. Влад смотрел на Василису с восторгом – и вдруг подумал: а ведь у нее, раз она, оказывается, не замужем, были связи с мужиками, и много – не могло не быть – не девственница же она с такой биографией! И вся эта бурная деятельность, за которую уважали бы и хвалили любого мужчину, неизбежно должна была запачкать окунувшуюся в нее женщину – потому что пришлось ей столкнуться с отвратительным безобразием, пережить много такого грязного и страшного, что меняет человека безвозвратно. Мужчине это не страшно – танки грязи не боятся! А вот будущая мать должна хранить чистоту души, не допуская в нее ужасных впечатлений, не наносить ей глубоких незаживающих ран, не допускать разъедающих сомнений – всего того, что лишает сердце умиротворения, необходимого для вынашивания и воспитания здорового потомства, не поврежденного дополнительно ко всеобщей человеческой поврежденности… И все же она была – родная. Тихий свет не угас на дне много чего повидавших серых глаз. Ей одной можно было рассказать не только про тот страшный кровавый день рождения и смерти, который, в конце концов, с каждым мог случиться, – но и о том, как он не подошел к разлюбленной умирающей жене в последние минуты, не утешил, не солгал, потому что знал, что актер из него дурной, и сыграет он неубедительно… Василиса кивнула. Было совершенно ясно, что ей знакомы подобные чувства.
Тут подошла очередь – и вновь подруга не оставила страждущего: вместе пошли (вернее, шла-то Василиса, а Влад комично скакал на одной ноге) и в кабинет, и на рентген, и в гипсовую… Больше они практически не расставались, даже деньги волшебным образом не встали между ними, как Влад поначалу боялся. Но, с присущим ей редким тактом, Василиса не кинулась немедленно одевать-обувать и вообще «приводить в божеский вид», пропихивать «на достойную работу» и обустраивать в жизни по своему усмотрению за каким-то хреном подобранного «неудачника», за что немедленно взялась бы другая богатая баба, с полным правом потребовавшая бы за это впоследствии благодарности: полного и безоговорочного рабства… Он действительно почти сразу, в гипсе еще, переехал в Василисину большую удобную квартиру – но продолжал обеспечивать свои нужды сам, по мере сил помогая сыну и матери, которая, разумеется, сразу решила – ведь так положено раз и навсегда! – что ее сына «купила» богатая стерва, которая выкинет его на улицу, как только «наиграется». «Хоть на семью с нее требуй, не стесняйся!» – с тихой свирепостью шипела мать, когда он навещал со скромными гостинцами ее и ребенка. Разубеждать было бесполезно – оттого дома Влад появлялся все реже и реже, да и то сказать: любовь, постепенно расцветая, поглощала его целиком…
Весной, когда мир уже агонизировал, Василисин журнал предсказуемо прекратил свое существование, лишив ее источника дохода, – ей даже карточек продуктовых по закону не полагалось! – а обесцененные деньги таяли на глазах. Влад, став теперь единственным, пусть сомнительным, кормильцем их тесного союза, почти решился сделать любимой официальное предложение – но все тянул и робел, хотя знал, что не встретит отказа. Но, женившись, он никогда не станет безбрачным священником; отказавшись же от брака, потеряет редкого, драгоценного человека, а вынесет ли безбрачие – Бог весть… Слишком много было не вынесших.
В мае Василиса однажды задумчиво сказала за завтраком (завтраки у них еще случались, когда по коммерческим ценам удавалось достать парижский сыр или копченую колбасу):
– Дальше откладывать нельзя, нужно решать что-то с моим домом.
– А у тебя еще и дом есть? – удивился Влад.
Она кивнула:
– На Псковщине, в Островском районе. В тучные годы – как все: купила участок, снесла развалюху, которая там раскорячилась, отстроила зимний дом со всем необходимым… Только ведь сейчас его бандиты, наверное, разорили… Надо поехать, посмотреть, что с ним; и, может, на продажу по дешевке выставим? В случае настоящей войны оставаться в городах, наверное, безопасней – а в деревне, боюсь, будут резать людей за банку тушенки.
Влад помрачнел, вспомнив рассказ матери:
– Уже режут. И давно. У матери на работе родственников старшей медсестры где-то под Новгородом зверски убили. Но в нашем-то городе оставаться точно опасно. Верней, смертельно, потому что, в случае чего, его просто не станет…
– Как бы то ни было, у тебя семья. И надо иметь свободу решения – везти их туда или нет, а для этого – выписать в сельсовете пропуск к моей недвижимости. Ходят, знаешь ли, слухи, что на дорогах из города вот-вот будут введены блокпосты – и никого просто так не выпустят, чтоб мародеры не затопили деревни. Надо ехать, милый, а одна я боюсь… – это последнее Василиса сказала так просто, будто не подозревала, что поразит возлюбленного: страх и она – это вообще совмещается? И, на худой конец, он-то какая ей защита?
– Конечно, поедем! – обрадованный ее доверием, подскочил Влад. – В такое время надо исследовать все шансы… Да и весной, наверное, безопасней… Мы туда и обратно – я своим даже говорить не буду.
Дом стоял на месте – целый и невредимый, с нетронутыми дверями и ставнями, неожиданно зажглось электричество и, сразу подхватившись, как вздремнувшая кухарка при виде строгой барыни, услужливо заурчал огромный золотистый холодильник, класть в который все равно было нечего. Безгрешно переночевав в прохладных сумерках, утром они нашли сельсовет открытым и мирным – в приемной тучная секретарша как ни в чем не бывало обсуждала с главой поселения грядущее страшное событие: вязку чужого свирепого быка, которого хоть завтра на корриду, и своей белолобой телочки, серьезно жалея ее, как девушку, насильно выдаваемую замуж. Справку о недвижимости и пропуск к оной Василисе выдали и заверили круглой печатью сразу же, оставив три свободных строки, куда позже можно было вписать имена ввозимых «гостей». Невежливо было уходить сразу, по деревенским правилам полагалось спросить сначала о новостях.
– Да какие новости! – махнула рукой секретарша. – Вымирает народ. Медицины нет. До района не добраться. Вот и мрем потихоньку. На той неделе бабки Семеновны померли – так за счет сельсовета хоронили, а дом их уж настежь стоит – вон, сама посмотри… – кивнула в сторону окна, за которым действительно низкий коричневый дом вдалеке стоял распахнутым, как разграбленный старинный шкаф.
– Семеновны – это две бабки-близняшки лет по девяносто, – шепнула Василиса в сторону скромно мявшегося в уголке Влада – и секретарше: – Что, в один день родились, в один и померли? Или по очереди?
– Девяносто три им было, – поправила секретарша. – Вера и Надя… В оди-ин… Всю жизнь ходили, как нитка за иголкой, иначе и быть не могло… А родни никакой…
– Чудно-о… – на деревенский манер протянула Василиса и дернула Влада за руку: – Пойдем, посмотрим перед отъездом. Я бабок этих, Царствие им Небесное, хорошо помню. Девственницы были, гордились этим очень. В молодости, говорят, на клиросе пели… – она усмехнулась. – Почти как ты…
…В разоренном и оскверненном доме не было темно – дневной свет шел буквально отовсюду – не только из распахнутых окон и дверей, но даже через какие-то щели наверху: смерть неразлучных двойняшек позволила беззастенчивым односельчанам не только мгновенно обнести их дом, но даже вытащить уцелевшие доски из потолка. Дом отчетливо походил теперь изнутри на древний парусник, потерпевший крушение; беспрепятственно вошедшие Владислав с Василисой чувствовали себя, как в трюме выброшенного на сушу затрепанного жестокой бурей корабля.
– Какое скорбное место… – присев среди отталкивающей кучи рухляди, проговорила женщина.
Она извлекла старый, рассыпающийся в руках фотоальбом, Влад глянул ей через плечо. На залитых дождевой водой, искореженных, почти полностью выцветших фотографиях, проступали лица неизвестных, давно умерших людей. Их карточки хранили, с любовью прикасались к ним, они будоражили память, заставляли болезненно трепетать сердце – но вот настал срок, и чьи-то бледные бумажные лица оказались в куче помойного хлама. Наибанальнейшая история, всегда одинаково печальная… Внимание Влада привлекло высокое, в человеческий рост зеркало, треснувшее сверху донизу, помутневшее от времени настолько, что казалось, будто в нем стоит вечный туман. Он подошел поближе, начал вглядываться – и вдруг в один миг остро, до печенок испугался, увидев отчетливое движение позади собственного отраженного плеча – словно кто-то двинулся навстречу из глуби зеркала. Влад непроизвольно вскрикнул и отдернулся, не сумев скрыть испуг от Василисы. Но та посмотрела на дело вполне серьезно:
– Отойди от греха. Это зеркало за столько лет успело отразить слишком много. В том числе и такого, на что не дай Бог даже намек увидеть. Со старыми зеркалами не шутят… «Алиса в Зазеркалье» не просто так написана… Пойдем в сени, там совсем светло, – и она за руку вывела слегка опешившего друга из комнаты.
В сенях они встали рядом у полностью лишенного стекол окна.
– Тут места непростые, – тихо говорила Василиса, глядя в запущенный, похожий на косматую голову великана, сад. – Не знаю, поверишь ли ты мне, но… Я дважды здесь видела… принято говорить, что галлюцинации, но я все думаю – а вдруг это было другое… На миг открытые кем-то двери в какое-то другое время или мир…