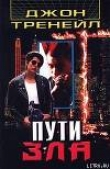Текст книги "Крик Алектора"
Автор книги: Наталья Веселова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Наталья Александровна Веселова
Крик Алектора
Непрославленным новейшим мученикам ХХ и ХХI вв. – с благодарностью – автор.
© Н. А. Веселова, 2019
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019
Часть I
И надо мной, как жернова Вселенной, слоистое, распластанное небо вращало медленно густую черноту и перемалывало зерна света.
И. Важинская
1. Алектор
«Внимание! Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны Санкт-Петербурга. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной зашиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской обороны!». Один длинный и два коротких сигнала сирены последовали немедленно, равномерно сменяя друг друга. «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!».
Несколько секунд Вета лежала неподвижно, за последние невероятные недели привыкнув к многочисленным учебным тревогам в Питере и почти перестав вздрагивать при первом гавке ближайшего уличного матюгальника (из остальных в их тихом южном микрорайоне, утонувшем в идиллических соловьиных сквериках, доносились лишь непонятные отголоски, ничуть не страшнее, чем отдаленные звуки уличных гуляний, вроде народной Масленицы, на скромной площадке перед бывшим кинотеатром, а ныне закрытым магазином дорогих спорттоваров). Она бегала с ребенком в подвал только в первый раз – от неожиданности, провела там полчаса и вместе с соседями убедилась в том, что никакой защиты – ни от чего! – это помещение по определению не может обеспечить: хлипкая пятиэтажка, стоящая в зоне поражения сразу нескольких ракет с ядерными боеголовками, нацеленных на разбросанные тут и там обреченные стратегические объекты, ближайшие из которых с одной стороны – Кировский завод, а с другой – аэропорт, эта бедная пятиэтажка не то что сложится хрестоматийным карточным домиком, а попросту превратится со всем содержимым в небольшую горстку праха, разметанную в кратере на глубине полукилометра под слоем «стекловидной массы толщиной 12–15 метров», как обещала упраздненная Всемирная Сеть…
Радио или телевизор теперь строго предписывалось держать включенными круглые сутки, чтобы не пропустить настоящую тревогу, – но как позволить себе такую пытку, когда твой нервный пятилетний внук даже в полной тишине засыпает не ранее, чем через час после дочитанной сказки про воронов Ут-Рёста[1]1
Норвежская сказка. (Здесь и далее – примечания автора).
[Закрыть] – и еще минимум минут сорок ты не можешь пошевелиться, сидя на краешке его тахты: твоя самая скромная попытка приподняться и на цыпочках покинуть место ежедневного мытарства немедленно прерывается протяжным: «Ну, Ба-аа… Ну, не уходи-и…». Кроме того, когда еще работал интернет, откуда Вета жадно вылавливала все возможные подробности «Часа Икс», она вместе с другими любознательными гражданами благополучно вбила себе в голову, что ядерный удар по Москве и Петербургу по ряду очень – слишком! – убедительных причин будет нанесен именно в шесть часов вечера. Уже одно это само по себе могло навести на мысль о том, что противник прекрасно осведомлен об их ожиданиях и, уж конечно, устроит так, чтобы нападение оказалось совершенно внезапным, – ракеты рванут на Невском, например, в два часа ночи. Вот как сейчас. Неужели они – где-то там, на недосягаемом «верху» – всерьез полагают, что замотанные люди в который раз кинутся в отсутствующие бомбоубежища и угаженные подвалы – измученные страшным ожиданием люди, едва-едва ненадолго уронившие на подушки свои исстрадавшиеся головы? А еще лучше – потащат куда-то в ночи инвалидов в колясках, грудных детей в одеялах, сиамских котов в переносках – надеясь, что в панике никто не заметит, как в убежище тайком проносят незаконного поглотителя драгоценного незараженного воздуха… Вета включала радио только в полночь – когда за последними аккордами гимна воцарялась живая, чуть потрескивавшая в ночи тишина, в шесть утра закипавшая все тою же торжественной, но уже давно никакого оптимизма не внушавшей мелодией…
Упомянутые несколько секунд Виолетта Алектор промаялась ощущением смутной неправильности происходящего – что-то не так было в привычном сообщении об очередной учебной тревоге. Чуть-чуть не так… Не по правилам… И ее подбросило на раз и навсегда бесцельно разложенном для двоих диване: слово «учебная» теперь заменилось на «воздушная». То есть, тревога оказывалась настоящей. То самое, во что никто по-настоящему не верил – «До этого никогда не дойдет!» – взяло и пришло. До апокалипсиса осталось максимум четырнадцать минут – смотря откуда взлетели ракеты, а до закрытия всех входов в метро – шесть. Нет, уже пять, пока она тут разлеживалась. А потом будут применять оружие. Без разбора пола и возраста – против тех, кто попытается воспрепятствовать герметизации дверей. «Молитесь, чтоб не случилось бегство ваше зимою»[2]2
Марк, 13:18.
[Закрыть]. Но сегодня это бедствие, по-видимому, считавшееся самым страшным, им с Ванечкой не грозило: вплотную подступало лето.
* * *
Нет, нет, грех жаловаться: что такое настоящее счастье, Виолетта, урожденная Попова, знала не из книг. Она и до сих пор, незаметно перейдя границу возраста «бабы-ягоды», считала свою первую любовь не детской блажью, из которой следует попросту вырасти, как из старого платья, а полноценным женским чувством, вполне разделенным и принесшим законный плод – сына Владислава. И теперь, тридцать лет спустя, она без насмешки или отвращения мысленно возвращалась в ту нелепую комнату, просто не имевшую права существовать в Петербурге на радужном пороге Миллениума. Комната, в которой жил со своей разведенной мамой одноклассник Миша Алектор («Ты что, немец или еврей, да, милый?» – «Да Бог с тобой, Веточка, «алектор» – это просто «петух» по-старославянски!»), будто перепрыгнула в панельную сероватую «брежневку» из самого начала Железного Века. Там стояли две замечательные доисторические кровати с прекрасными панцирными сетками, хромированными спинками со множеством начищенных до блеска шишечек, покрытые одинаковыми светлыми покрывалами, поверх которых постилались еще и кипенно-белые кружевные накидки. Каждую кровать венчали три разновеликие, в крахмальных белоснежных наволочках подушки, идеально взбитые и положенные одна на другую в строгом порядке, торжественной пирамидой – от большой к маленькой; для них полагались отдельные тонкие покрывала – из хлопчатобумажного шитья, и свисать они обязаны былы уголком, оканчивающимся точно в пяти сантиметрах от основания первой, наибольшей подушки. На всех полках вполне обычной, дубовато-советской «стенки», куда ни кинь взгляд, замерли в степенном шаге многочисленные слоники с эрегированными хоботами: папа-слон, за ним – мама-слониха, далее слонята мал мала меньше, соблюдая строгую иерархию, шагали друг за другом вдоль пестрых рядов редко тревожимых книг и чашек с блюдцами, беззвучно трубя в потолок. Наборы по семь особей в каждом – мраморные, серебряные, малахитовые, терракотовые, хрустальные, майоликовые, коралловые – и даже один раскрашенный пластилиновый, собственноручно вылепленный когда-то Мишей-дошкольником в минуту детского вдохновения, – занимали все свободное пространство.
Настольная лампа на рабочем месте Миши имела пыльный тканый абажур и солидное медное основание, опутанное гирляндами фарфоровых лилий, а на люстру под низким потолком, которую все то и дело задевали головой, и вовсе смотреть было немножко страшно: многоярусная, переливавшаяся синим, красным, желтым и зеленым стеклом, невпопад звенящая бесчисленными хрустальными подвесками, длинными и короткими, утыканная бронзовыми розами вперемешку с беззаботно свесившими пухлые икры амурчиками, – она выглядела почти монструозно, производя не то устрашающее, не то отталкивающее впечатление, – а уж смотреть на нее Ветке приходилось часто, по крайней мере, весь десятый класс, когда одну из двух ужасающих постелей они вдвоем основательно разворашивали, проводя там после школы часа по три почти ежедневно, ухитряясь даже поспать недолго в тесном переплетении размаянных тел. Ну, а в одиннадцатом классе на люстру смотрел уже Миша, потому что его довольно быстро расколдовавшаяся после девичества возлюбленная основательно занялась верховой ездой – что ему, сперва тайно страдавшему от утраты мужского доминирования, по мере вхождения во вкус стало нравиться даже больше, ибо Вета, взяв бразды правления в свои мягкие руки, скоро научилась продлевать обоим удовольствие до бесконечности… Рабочий день Мишиной матери-бухгалтера заканчивался ровно в шесть – и к половине седьмого они в четыре руки восстанавливали порушенный монумент на кровати и успевали сесть под пыльный абажур настольной лампы – голова к голове над раскрытым учебником.
А у Веты мама работала дома, она трудилась техническим переводчиком на вольных хлебах, у них рано появился настоящий компьютер, продвинутый «Пентиум», поэтому встречи дома у Поповых происходили только самые целомудренные, с чаем и печеньем, в присутствии мамы, все время тревожно переводившей глаза с невозмутимой дочери на ее сомнительного молодого человека – тощего шатена с взъерошенной шевелюрой и темно-сизыми, как у новорожденного, глазами. Как и большинство русских женщин, она обладала даром безошибочного предвиденья, и внутренний ее взор без труда проникал в недалекое будущее, где тинейджерская тощесть пока еще застенчивого юнца превратится через несколько лет в красивую мужскую поджарость, раздадутся вширь плечи, лягут мягкими шоколадными волнами умело подстриженные волосы, длинные ресницы сделают заманчиво сумрачным его пока еще открытый и вопрошающий взгляд… И где он походя не бросит, нет – просто смахнет, как крошку со стола, ее глупую дочурку – пегую блондиночку с незначительным личиком и пока тоненькой, но ровной, без выпуклостей фигуркой, обреченной после родов, в грядущей матерости, располнеть по невыгодному типу «яблоко»… Мальчик нацелился в программисты, компьютерную премудрость хватает на лету, денежкам счет любит – вот взять, хотя бы, тортик, который он к чаю принес: дорогой и красивый, слов нет, а с пластиковой крышки наклейку снять забыл: уценка семьдесят процентов, срок годности истекает сегодня… Нет, не будет он мужем ее Веточки… И хорошо! «Ты только не вздумай уступить ему! Сразу не нужна станешь! И опомниться не успеешь! Запомни: главное – им не уступать, иначе потом бегать за ними будешь, а они и в сторону твою не посмотрят!».
Вета, конечно, не могла рассказать маме, что уже почти два года, как не она Мише, а он ей уступил, жарко и обескураженно бормоча: «Вета, а может, не надо?.. Вета, ты точно уверена, что хочешь этого?.. Вета, ты понимаешь, что потом ничего нельзя будет вернуть?.. Вета! Вета…». «Мне никогда не захочется ничего возвращать… Мне нужен ты один – и навсегда», – с полным убеждением шептала она уста к устам.
Виолетта действительно так думала, а благим примером послужила именно мама, любившая раз и навсегда. Та вышла за однокурсника, распределилась с ним в одну организацию прямо перед темным событием истории, до сих пор носившим странное название «перестройка», через год родила дочку, а еще через пять уже стояла в длинном кафельном коридоре, одной рукой сжимая хрупкую ручку своего ребенка, а другой – терзая у горла воротник свитера, и вежливо просила спокойного человека в белом халате и высоком крахмальном колпаке со смешными треугольными отворотами: «Вы мне этого, пожалуйста, не говорите. У меня дочь пятилетняя. Как я одна ее подниму в такое время? А вы мне – «рак». Какой может быть рак, когда ему двадцать семь лет. Так что вы прекратите эти страшилки и поставьте нормальный диагноз. И, уж, пожалуйста, вылечите. Потому что у нас дочь. И потому что… Просто вылечите. Рак! Какой еще рак!».
А Вета трясла ее за руку – «Мам! Ну, мам!». Она хотела напомнить маме, что такое рак, вернее, кто это: это такие черно-зеленые, мокрые и блестящие водяные животные с хвостом и больно цапающими клешнями, которых папа и лысый сосед по даче руками в больших рабочих варежках вылавливали из-под камней в камышах у них рядом с пляжем на бирюзовом озере – и бросали в глубокое пластиковое ведро, где пучеглазые усатые пленники давили друг друга скользкими уродливыми телами, безуспешно пытаясь взобраться по гладким отвесным стенкам. Позже в огромной зеленой кастрюле их ставили на веранде на плиту – и девочка с тайным удовольствием смотрела, как они варятся, в адских муках пытаясь вырваться из смертоносного кипятка, будто жертвы инквизиции на допросе, но терпят закономерное поражение и становятся красными и неподвижными – мертвыми. «Вот кого смерть красит!» – всегда одинаково шутил сосед, входя на веранду с брякающей сумкой, полной зеленых и коричневых, чем-то напоминавших еще живых раков в ведре, бутылок с пивом. Взрослые дяди и тети садились вокруг стола, в центре которого возвышалось блюдо, где горой были навалены сваренные заживо, отмучившиеся раки, и весело раскурочивали их, бросая хрусткие куски панцирей в специальную миску – как крашеную скорлупу пасхальных яиц – некрасиво высасывали что-то из клешней, хвалили, запивали янтарным напитком из разнородных дачных емкостей, и четырехлетней Веточке разрешалось пригубить пену с папиной и маминой кружек, и было весело… Она определенно знала, что такое рак!
Мама больше не вышла замуж. Злые люди, как водится, объясняли это просто: «Кому она нужна была «с прицепом»!», но мама убежденно говорила всем желающим услышать: «После такого брака, как был у нас, любой другой – ступень вниз». Также считала и Вета про свою любовь: другой не будет, никакой ступени вниз – только лестница, и обязательно вверх, до самого неба. Как положено.
Ступенек вниз оказалось три: первая называлась потрясение, вторая, чуть ниже и не такая крутая, – изумление, а на третьей, пологой и безопасной, под названием «удивление», Виолетта застряла навсегда. Она до сих пор не могла понять – как вообще могла произойти такая нелепая, невозможная метаморфоза. Ведь это был один и тот же человек! Ее родной Миша, с которым она лежала на настоящей пуховой перине среди трубящих вокруг слонов, прижавшись так тесно, что казалось, будто, отодвинувшись, они вырвут у кого-то из двоих кусок приросшей к другому кожи, и слышала теплый шепот у виска: «Между нами сейчас и волоска не протиснуть! И это меж телами! А представляешь, что творится с душами?! Смогут ли они когда-нибудь разъединиться хоть на микрон?!». «Нет, конечно, – спокойно и уверенно отвечала она. – О таком даже думать смешно». Тот же самый, недавно писавший длинные, нежные, достойные любовного романа письма из армии, давший потом ей свою красивую таинственную фамилию и подаривший замечательного здорового сына Влада, – год спустя, наотмашь, по-мужски, не рассчитывая силы, бил ее, прикрывающую локтями исходящую молоком грудь, обеими руками по щекам и хрипло выхаркивал в ее из орбит от ужаса лезущие глаза: «Сука! Уродка! Обезьяна тупая! Да когда ж ты сдохнешь, наконец, чтоб мне от тебя избавиться!». Закон тогда еще не позволял мужу подавать на развод во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка, поэтому освободить его действительно могла только смерть супруги, которой он в тот момент неистово и страстно желал… Любимый, только вчера, казалось, баюкавший ее у себя на груди.
Причину Виолетта узнала через несколько лет после развода: в армии Миша влюбился «не по-детски» в замужнюю женщину, жену командира, – безответно. Это банальное несчастье случилось перед самым дембелем, пришлось обреченно возвращаться в Петербург, где ждала исстрадавшаяся от разлуки разлюбленная невеста… Ему бы и тут поступить по-взрослому: объясниться и расстаться – глядишь, и целей – целостней! – остались бы оба. Он же по неопытности решил выбить клин клином, женившись и даже сразу настояв на ребенке, – желая сжечь мосты и упрямо шагать вперед. Мосты сгорели успешно, но любовь сотворена несгораемой – это он понял быстро и возненавидел жену просто за то, что она – не та, которая еще много лет стояла перед глазами… Михаил буднично, именно походя, как давно ожидала его прозорливая теща, сломал Виолетте жизнь. Оставшись одна с ребенком и потерявшей работу матерью, которая теперь перебивалась случайными заработками, а чаще всего неподъемной гирей, с которой хоть топиться иди, висела на шее дочери, Вета не смогла окончить свой любимый медицинский институт, вылетела после третьего курса с правом работать медсестрой – и ею всю жизнь и проработала, таща на хребтине семью: сначала на двух сестринских ставках и одной санитаркиной в простой городской больнице, а потом удалось пробиться в получастную клинику, где хотя бы не приходилось мыть палаты с коридорами и выносить судна из-под лежачих… Мама умерла от быстрого и безболезненного инфаркта в пятнадцатом, успев пышно отметить свое никому не нужное и безрадостное пятидесятилетие, – и тогда Виолетта, в то время стремительно увядающая фиалка, позволила себе такую роскошь, как всего полторы ставки, благо девятилетний Владик учился в бесплатной районной школе и особых расходов не требовал, а на себя она давно махнула рукой: пара юбок, пара свитеров, обувь какая-то еще от матери осталась, плюс потертая дубленка с лысеющим, как старый пес, воротником, да защитного цвета пуховик, почти приличный, если регулярно обирать с него перья… Косметикой Вета не пользовалась, украшений не носила, серые волосы закалывала удобной заколкой.
Но никак не могла перестать удивляться.
* * *
Через час все было кончено. Апокалипсис на какой-то срок отменялся. Отбой воздушной тревоги. Там, во временно «свободном» мире, где существовал еще, наверное, интернет, вероятно, знали, что именно произошло, а по их единственному питерскому телеканалу врубили в половине четвертого утра успокоительную комедию конца прошлого века: седой представительный мужчина в костюме и галстуке, вися на карнизе небоскреба, цепляется одной рукой за раму открытого окна, из которого только что выпал, а другой – за детородный орган могучего каменного атланта, поддерживающего крышу здания, и, судорожно разинув рот в сторону своей экзотической опоры, изо всех сил тщится подтянуться обратно на подоконник; видя эту сцену женщина с феном в другом окне истошно визжит…
Забытую Владом заначку – непочатую бутылку среднего качества водки – его мать нашла сравнительно недавно, но в дело – с полным правом! – пустила только сейчас. Руки тряслись крупным трусом – Виолетта задержала на них взгляд: разве это руки дамы? Или хотя бы просто женщины? Шершавые, с упругими шнурами вен, пока еще светлыми, но явно проступившими старческими пятнышками, неровно обстриженными ногтями с безнадежно заросшими лунками… Это руки бабы. Замотанной, навсегда испуганной и загнанной в пятый угол русской бабы, которой уже все равно. Фиалка увяла полностью, вот-вот упадет на землю ее сморщенный стебель – но весной не взойдет новый яркий цветок, потому что весны не будет. Скорей всего, ни для кого.
Она налила себе большую рюмку до краев, выдохнула, зажмурила глаза и опрокинула. Первая, как и должно, зашла «колóм». Вета наугад нащупала чашку с остатками вчерашнего бледного чая и сделала большой глоток, промывая обожженное горло… Стало легче. Молодец ее беспутный сын Владик: забыл бутылку, когда переезжал к своей Василиске. Хоть есть за что сыночка похвалить.
С сыном Виолетта в одиночку не справилась: в девять лет оставшись без бабушкиного строгого и нежного догляда, слишком рано получил он неположенную по возрасту вольность. Вета работала на полторы ставки – сутки через двое, и потому буквально с младшей школы пришлось Владику научиться эти сутки проводить полностью самостоятельно: газ она перед уходом перекрывала, поэтому мальчишка бойко разогревал обед в микроволновке и нес к компьютеру, где до поздней ночи погружался в продвинутые игры, даже не думая делать уроки или (к великому счастью) выскакивать в кишащий педофилами двор. Судя по обилию фотографий пропавших без вести детей обоего пола, коими обклеены были очень многие окрестные парадные, столбы и даже деревья, обширные дворы округи действительно представляли собой нешуточную опасность для рискового ребенка, но вот за свое домашнее немногословное чадо Вета могла почти не волноваться, каждую свободную минуту звоня ему по скайпу и убеждаясь, что от игрового компьютера мальчик отходит только в туалет или на кухню за невинной вкусняшкой. Вне дома он оказался за все годы лишь несколько раз – но исправно отвечал со смартфона, озвучивая вескую причину отлучки, – например, севшие батарейки капризной «мыши» или день рожденья очкастого соседа по парте. Следующие два дня проводя дома, мать гоняла упрямого отпрыска от компьютера, угрозами усаживала за уроки, которые Влад неохотно, но быстро делал, не вынимая наушников. Голова его, видимо, варила неплохо, потому что, не прилагая для учения почти никакого серьезного труда, в школе он уверенно занимал твердую и ровную позицию хорошиста с редкими тройками, что вполне устраивало как отрока-пофигиста, так и его со всем смирившуюся мать. С легкой грустью думала она редкими спокойными ночами в сестринской, когда удавалось прилечь и подремать вполглаза на мягком дерматиновом диване, медленно и коварно поглощавшим куда-то в колеблющуюся глубину ненадолго прилегшего человека, что помедлила бы ее мама воссоединяться на Небесах с любимым супругом – и, пожалуй, удалось бы им вдвоем слепить из головастого и невредного Влада отличника-медалиста с гарантированным будущим. Но одна Виолетта не потянула… К одиннадцатому классу у нее вырос рыхловатый юноша-тюфячок с неясными перспективами, смутными планами, равнодушно послушный, с лучшим другом-компьютером… Поэтому великой тайной, так никогда и не раскрытой, стала для Веты внезапная бурная любовь сына к однокласснице Леночке, тоненькой богемистой девушке, носившей по серебряному колечку на каждом пальчике, что странным образом выглядело не безвкусно, а загадочно. Леночка готовилась поступать в театральный, даже успела несколько раз сняться в эпизодах популярного детективного сериала, затащила туда в групповку покорного, как телок, Влада – и вот уже, вернувшись с ночных съемок в здании городского суда, он, возбужденно жестикулируя, чего за ним с рожденья не водилось, рассказывал на кухне как раз пришедшей с тяжелых «суток» матери, измученно припавшей головой к холодильнику:
– Слушай, а это круто, оказывается! Нас там было человек пятнадцать в групповке. Пока артисты снимались в зале суда – а Леночка-то секретаршу, между прочим, играла – маленькая роль, но даже со словами! – мы сидели за столом в холле – и каждому, прикинь, положен бесплатный горячий обед их трех блюд на выбор: там, типа, походный буфет поставлен. А чай-кофе-выпечка – вообще по принципу шведского стола – подходи, наливай, бери, что понравилось… Ну, мы, конечно, сразу все перезнакомились: есть люди, которые постоянно на съемках тусуются, надеются, что в эпизод пригласят. И, знаешь, случается! Одна красотка, черненькая такая, харáктерная – так ее прямо в «Войну и мир» раз пригласили. Там ее из горящей Москвы не то Пьер Безухов, не то Андрей Болконский спасал… Да, так вот, у кого-то с собой, конечно, «было»… Короче, всю ночь тусили классно – периодически только вызывали нас в зал, чтобы, это, публику изображать. Десять минут поизображаем – и опять за стол. А в зале артисты очередные дубли записывают… Наконец, приходит помреж и говорит: групповка свободна. Мы, такие, вещички свои похватали – и всей тусой на выход, светало уже. И вдруг слышим: «Куда? А деньги кто получать будет? Паспорта давайте!». А мы: «Так за это еще и деньги платят?!». И, прикинь, по две косых каждому выдали без всяких. Наличными. Тут я понял, почему некоторые чуть не каждый день снимаются, – чтоб я так жил!
Неожиданная мечта об актерстве завладела Владом прочно, почти так же, как и Леночка, только та, обросшая знакомствами и сама соответствующего роду-племени, с первого раза легко поступила в институт на Моховой, а Влад с грохотом провалился прямо на первом туре. По наущению Лены, он немедленно записался на какие-то ненадежные полупрофессиональные курсы актерского мастерства, где, внаглую подхалтуривая, преподавали почти все те же мастера своего дела, что и в государственном институте. Надо отдать Владу должное: с самого начала он платил за учебу лично, навострившись что-то ловко писать и продавать в Интернете, – сия наука была его матери непостижима, но она особо и не вдавалась в таинственные подробности… Сын и его девушка поселились в съемной квартирке неподалеку – и тут выяснилось, что Лена беременна. Едва вышедшие из детства полуподростки проявили дурацкую ответственность: тайно сходили в Загс, дабы обеспечить будущему дитяте рождение в законном браке, – и зажили было, как умели, весело – молодые, здоровые, полные любви и надежд… Виолетта не осуждала и не отговаривала: она помнила себя в их доверчивом возрасте, веру в чудо и сама не утеряла вопреки всему, от невестки подвоха не ждала, про сына знала точно, что не подлец. Все могло и сложиться…
Трагедия вошла к ним запросто: так нежданный гость, не потрудившись позвонить, бесцеремонно звонит в дверь нацелившимся на уютный вечер в кругу семьи, по-домашнему одетым хозяевам – жена без косметики и в бигуди, муж в растянутых трениках гол до пояса… Кто-то из «бывалых» убедил ребят решиться на модные домашние роды: Лена носила легко, играла на сцене до шестого месяца, не поворачиваясь в профиль к зрителям; акушерка, рекомендованная надежными друзьями, знала свое дело на ять… Здоровый трехкилограммовый мальчик родился быстро – в ванне – вынырнул красненьким, науке неизвестным дельфиненком на поверхность и, подхваченный умелыми руками, голосисто возвестил о своем прибытии в предапокалиптический, уже бурно лихорадящий мир. А у его матери не отходила плацента, требовалось ручное отделение под наркозом. Умелая акушерка лицензии на домашние роды не имела и «скорую помощь» все медлила и медлила вызывать, надеясь обойтись своими силами. Вколов кровоточащей Лене обезболивающее, она уверенно приступила к делу – и вдруг кровь хлынула неостановимо, как из крана. Юный отец, неловко державший первенца на вытянутых руках, не понимал в медицине ровно ничего – а Вету даже в известность о родах не поставили: ведь стоит детям достигнуть совершеннолетия – и решения прекрасно принимаются безо всяких там мам с устаревшими взглядами… С кровотечением акушерка не справилась, принуждена была позвонить в «скорую» – и немедленно скрылась с места преступления, испугавшись грозной ответственности и бросив умирающую родильницу без помощи. Машина приехала простая, не реанимационная, потому что, делая вызов, акушерка побоялась рассказывать диспетчеру подробности, упомянув лишь домашние роды… И до больницы Лену уже не довезли.
А дальше пошло как по писаному. Молодому отцу новорожденный младенец оказался пугающей помехой – и немедленно был сдан с рук на руки бабушке Вете, которая по счастливому стечению обстоятельство как раз вышла в очередной отпуск и сразу смогла наладить правильное взращивание и вскармливание; она же и стала крестной рабу Божьему Иоанну. Предполагалось передать его через некоторое время второй безутешной бабушке: той не было и сорока, так что Ваня мог стать ей фактически новым сыном-утешителем. Однако вскоре выяснилось, что молодая бабушка и сама давно уже ждет ребенка от некого женатого друга, и второе дитя ей сейчас не по зубам. Вот и остался сиротка-Ванечка у Виолетты, самовольно переименовав ее в пожизненную «Ба» – а отец его, огражденный от армии врожденным, но никак не ощущавшимся плоскостопием, так по-настоящему домой и не вернулся. Заскакивал, правда, пару раз в неделю, сосредоточенно катал кроватку, от чего сынишка заходился неостановимым ревом, навязчиво тряс над ребенком огромной нелепой погремушкой, вызывавшей у того ступор, добросовестно жал на кнопки стиральной машины, забитой пеленками, даже памперсы несколько раз приносил – правда, однажды по ошибке купил девичьи…
Через год он заявил матери, давно оформившей опекунство над внуком, что ребенка мало крестить, а нужно причащать ежевоскресно: он-де теперь, наученный смертью юной жены, усердно «воцерковляется» и намерен вырастить сына в вере. К тому времени его увлечение лицедейством исчезло, как не было, он по очереди начинал и бросал какие-то смутные интернетные проекты, окончил несколько разнородных курсов, потом прибился к одному из храмов в качестве «на все руки мастера» – и стены белил как умел, и алтарничал в старом стихаре до щиколотки, и купол золотил – показали и перенял, и сайт вел согласно одному из дипломчиков, и на клиросе подвывал… За все был очень уважаем и получал копейки… А вообще стал типичным «перекати-полем» – видели они с Ванечкой в Крыму этот странный сорняк без руля, ветрил и корней… Упустила она сына. Упустила.
Влад действительно стал прибегать каждое воскресенье, хватал уже чин по чину снаряженную коляску с ребенком и торжественно катил в церковь – не ближайшую, а «свою», особенную, где властвовал кроткий и милостивый отец Петр. Собственно, этим отцовское воспитание и ограничивалось: объяснять подросшему Ванечке, зачем и к Кому таскают его утром выходного дня в церковь, не давая выспаться, пришлось именно терпеливой бабушке… А на неделе, хнычущего и надутого от недосыпа, наспех одетая Ба снова и снова волокла его в недалекий и нелюбимый «садик», полный злых теть и жестоких деток. Поспать вволю позволялось только в субботу – и это Ванечку категорически не устраивало…
* * *
Вторая пролетела «соколóм» – Виолетта ее даже на запивала: чай в чашке кончился, а встать за новым после пережитого не было сил. Не раз приходилось, отоваривая карточки в бывшем супермаркете за углом, почти искренне рассуждать в очереди с товаркой по несчастью о том, что «…если действительно долбанет, то прятаться все равно бесполезно, только хуже будет – уж лучше пусть сразу…» – а когда дошло до дела, неперебиваемый инстинкт самосохранения заработал автономно, не позволяя жертве не то что думать о высоком, но и просто делать лишние, к спасению не относящиеся движения.
При первом же проблеске подлинного понимания, что тревога не учебная, а взаправдашняя, Виолетту подбросило с дивана – а внутри мгновенно включился точный до миллионной доли секунды обратный отсчет. Он не позволил ей сменить трикотажную пижаму на любую приемлемую одежду, но заставил влезть ногами в кроссовки, и одновременно забросить на спину уже много месяцев ожидавший в прихожей своей минуты славы «тревожный рюкзачок», собранный по настойчивым советам держать наготове чемоданчик с запасами всего необходимого «из расчета на трое суток». Последние полгода подобные призывы неслись отовсюду – даже с уличных баннеров, где олимпийски спокойная перед концом света молодая семейная пара навеки покидала благоустроенную квартиру, имея каждый в одной руке по чемоданчику, а в другой – по умытому и причесанному ребенку; озадаченная голубоглазая хаски оставлялась на погибель и для полной убедительности была перечеркнута красным крест-накрест. Впрочем, и хозяевам оставалось максимум три дня – или на сколько хватит чемоданчиков…