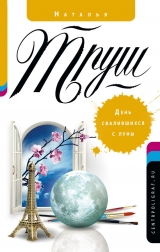
Текст книги "День свалившихся с луны"
Автор книги: Наталья Труш
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Евдокия Дмитриевна все так же невозмутимо восседала за столом и читала газету.
– Евдмитна, – скороговоркой выпалила Даша. – Я права?
Мудрая соседка, казалось, как будто ждала вопроса от нее.
– Ты вправе поступать так, как считаешь нужным. Кто-то готов мириться, кто-то – не может и не хочет. Тут нет правил.
– Я не могу и не хочу.
– Тогда будет болеть, пока не зарастет.
– А если бы я поступила иначе, не болело бы?
– Болело бы. Только там нужен был бы терапевт. А тут ты поступила как хирург. Это я тебе как врач в прошлом говорю. И еще, как доктор, скажу: любящее сердце болит всю жизнь, потому что на каждую каплю любви приходится по сто капель боли.
* * *
Даша переболела Сеней Зайчиком достаточно быстро. Наверное, потому, что обида была сильна. Да еще потому, что все это напомнило ей ее детские страдания. Неделю она лежала на диване, отвернувшись к стене. Вставала только утром на работу, быстро убирала двор, еще до того момента, когда жильцы начинали выползать на улицу, и пряталась в своей комнате. Сеня приходил несколько раз. Об этом ей додожил дядя Петя. Но мальчика с красивой фамилией Зайчик не пустили в дом, где он умудрился так легко нагадить.
Даша бы и еще с недельку хандрила, но в один из дней рама ее окна, завешенного плотными шторами, содрогнулась, с улицы в комнату протянулась здоровенная волосатая лапа, которая легко выбила шпингалет из его гнезда, после чего окно открылось, и в Дашину комнату ввалился Ваня Сурин.
– Вань, ты как это? У меня ведь этаж полуторный... – с удивлением сказала Даша.
В это время над подоконником поднялась голова Светы.
– Вань, ты не убился? – спросила его верная подруга. – Ну, Дашка, соседи у тебя – чистые церберы! Такую оборону тут организовали. Пришлось в окно пробираться.
Ваня присел на краешек дивана и неуклюже погладил Дашино плечо под старым свитерком.
– Даша-Данечка-Дашута! Уж такие мы, мужики, засранцы, прости господи! Дашка, нам плохо без тебя. Ты почему не приходишь? Сеньку мы выгнали. А тебя ждем.
– Вань, ему ведь идти некуда.
– Некуда. Так об этом раньше надо было думать, когда паскудничать решил. Ты не вздумай жалеть его! Он мужик. И я с него просто как с мужика спросил. Ты уж извини, я по-другому тоже не мог. И рыжую выгнали. Поэтому ты приходи к нам, а? Дашка, тебя все любят! А любовь еще будет у тебя!
– Ну уж нет! – Дашка зло прищурилась. – «Любовь»! Ты, Ваня, вроде большой мужик, а в сказки веришь...
Ваня со Светой, которая так и осталась за окном, переглянулись.
– Вот именно, Дашка, в сказки. И ты еще вспомнишь меня. А сейчас собирайся и пошли. Нам тебя недостает. Да, еще есть заказ на твои картинки! Пошли! Там все объясню.
Дарья немного поупиралась, но Ваня не отступал, и она вынуждена была покинуть диван, причесаться и пойти в мастерскую, где хитрый Ваня нагрузил ее работой. Потом уж она поняла, что «заказ на картинки» Ванька просто придумал, чтобы затащить Дашу к себе. Он выдал ей аванс, приличный, между прочим, объяснил задачу, мол, якобы некий книжный магазин желает оформить секцию детских сказок и с этой целью заказывает сразу десять маленьких – в Дашкином стиле! – работ.
Дашка взялась с таким энтузиазмом, что скоро от печали ее по Сене Зайчику не осталось и следа. Правда, вместе с этим Даша Светлова обрела способность очень цинично обращаться со словом «любовь» и с теми, кто ей ее предлагал. Как хирург. «Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!»
– Вань, – сказала она как-то старшему другу. – Мне теперь жить страшно. Я никому не верю.
– Доктор – время, Дашка. Просто твой день еще не пришел. День, как праздник, которого нет в календаре. У кого-то это День Розового Слона, у кого-то – День Малинового Варенья! Ну, в общем, чего-то такого, что имеет значение только для двоих. Для остальных – тайна за семью печатями. Сказка, Дашка!
– У меня пока что каждый день – День Сурка! И пока придет такой праздник, о котором ты говоришь, я разобью не одно сердце! Но и вывернуть себя наизнанку не могу, – жаловалась Дашка. – Ты Костика видел из 95-й квартиры? Ну, я пару раз его сюда приводила. Приличный парень, в университете учится. Мама-папа – замечательные люди. Бабушка меня обожает. И всем нутром я чувствую, что он человек хороший.
– Ну?
– А я ему сразу сказала – ничего серьезного, необременительные отношения. Вот тебе и «ну»...
– Сама не хочешь серьезного?
– Не хочу, представь себе. Не столько не верю, сколько не хочу. А, да ну их всех к черту! Счастье, Вань, не в том, чтобы кто-то сидел рядом. Да и рановато мне думать, есть ли кому стакан воды подать! Извини за цинизм, но, говорят, что пить-то тогда совсем и не хочется! Счастье в том, что у тебя что-то рождается. Мысль, картинка, ребенок. Про-из-ве-де-ни-е! Вот в этом, Вань, счастье. Для меня по крайней мере.
– Ну ничего, Дашка. Главное, ты не киснешь! Переубеждать ни в чем не буду. Всему свой срок. Но мысль твоя о «про-из-ве-де-ни-и» мне нравится. Я себя и сам уже ловил на ней. Но как-то не мог оформить. А ты схватила правильно.
* * *
Невинный обман художника Вани Сурина с заказом для книжного магазина сыграл в жизни Даши серьезную роль. Отработав его и получив приличные деньги, она загорелась идеей и дальше создавать свои маленькие «произведения». И у нее это славно получалось. Потом Ванька, конечно, признался, что не было никакого заказа, что это он, так сказать, для «поддержания штанов» Дашке помогал, а вернее, для поддержания духа.
– Дашка, но ты не думай, ты ничего не должна. Я твои картинки сувенирщикам отдал, они у них вмиг ушли. Можешь, кстати, писать свои картинки и так же продавать – пристрою тебя.
Так Даша Светлова стала своей среди художников, которые устраивали выставки-продажи на Невском. Благодаря авторитету Вани Сурина относились к ней там терпимо. А когда увидели, что она со своим письмом, с кошечками-собачками и прочей четвероногой мелюзгой – Дашка стала рисовать разных звериных детенышей – никому дорогу не переходит, с ней стали дружить.
Для Даши это был не просто существенный приработок к ее не очень большой дворничьей зарплате, но и дверца в иной мир. Дворник – это, конечно, хорошо. И стыдного в том ничего нет, и жилье опять же. И Дарья к этому всему относилась правильно. Вот только очень переживала, слыша «Понаехали!», поэтому предпочитала жить по легенде, которую сама придумала.
Этим всем, которые на свою голову «понаехали», приходилось тяжело пробивать себе дорогу в иной, нелимитный, мир. Учиться на заочном, так как надо было работать. Работу поменять не моги – жилье потеряешь. Прописка – с особой отметкой. Хорошо хоть, печать на лбу – «лимита» – никто не ставил!
Может быть, кому-то все это было, как говорится, по барабану, но вот Даша Светлова тяжело переживала эти унижения. Слишком много их было в жизни. И слишком мало радости. Вот поэтому, влившись в компанию уличных художников, она, словно через крохотную дверку в каморке папы Карло, уходила в иной мир. Картинки Дарьины раскупали охотно, цену она не задирала. Могла и вообще бесплатно отдать, если видела, что работа ее понравилась, а денег у покупателя нет. Она не им дарила, а себе, и главным образом то, чего у нее самой никогда не было в жизни.
А потом ее нашел Василий Михайлович Зиновьев.
Они тогда до закрытия просидели в этом кафе у Саши Никитина, который не мешал, не торопил. Дарья все-все о себе рассказала. Они выпили, кажется, ведро кофе, и, наконец, Зиновьев встал, задвинул стул и сказал:
– Поехали!
Вместе с молчаливым Витей Осокиным они довезли Дашу до дому.
– Даш, оставь мне свой телефон. Пожалуйста. – Зиновьев покопался во внутреннем кармане своего пальто, достал толстую записную книжку и, смущенно глядя на Дарью, спросил:
– На какую букву записать?
– На букву «С». Я – Светлова.
Даша продиктовала номер телефона.
– Только он у нас коммунальный, поэтому не звоните, пожалуйста, очень рано и очень поздно.
Даша неуклюже вылезла из машины и тут же почувствовала, как холодно на улице, как резко секут лицо сухие снежинки. После теплого и уютно-кожаного салона белого «мерседеса» Василия Михайловича Зиновьева контраст был разительный. И вообще, Дашка вдруг заметила свою дурацкую изрядно поношенную куртку из старомодной болоньи, красные руки с длинными пальцами, которые слишком сильно торчали из куцых рукавов.... Ей стало стыдно. Первый раз за ее питерскую жизнь. Среди обитателей мастерской Вани Сурина Даша ничем не выделялась. Там в ходу были изношенные свитера неопределенного цвета, драные джинсы и обувь, которую приличные люди стесняются носить. А тут...
Дашка вспомнила тонкий флер запахов этого вечера: нежно-морской парфюм очень небедного, судя по всему, человека, который почему-то сумел вытянуть ее на откровенность, запах нового автомобиля – кожаный, слегка острый, щекотавший ноздри, терпкий аромат хорошего кофе и даже ментоловый вкус крошечных конфет, которыми Василий Зиновьев заменял сигареты. И почему-то ее очень волновало то, что ее новый знакомый попросил у нее номер телефона. Правда, ее смущало, что мужчина вдвое старше ее... И вообще, она ведь совсем ничего о нем не знает.
* * *
Он первый раз за много лет испытал нежные чувства к женщине. Вернее, к девушке. Еще правильнее сказать – к большому ребенку. Это была такая смесь чувств, в которой он не мог разобраться сразу. Такого у него, пожалуй, не было никогда. Существовала семья, имелись жена, сын. Но Зиновьев не мог вспомнить, когда от чувств к своим близким у него щекотало под ребрами.
– На дачу поехали, – сказал Зиновьев. Витя Осокин обернулся к нему вполоборота и вопросительно посмотрел.
– На дачу, Витя, на дачу.
* * *
Дача у Зиновьева была в Комарове: на отшибе, в сосновом лесу он построил двухэтажный бревенчатый дом с теплой верандой. Сосен рубить не дал. Только на пятачке, где возводили домик, вырубили несколько стволов. Не планировалось на участке ни парников строить, ни грядок разбивать. Сосны в полном беспорядке да ели живой изгородью, за которыми не видно было высокого забора – не дощатого без просветов, а из сетки, который не был виден на зеленом фоне, и казалось, что за елками просто сразу начинается лес. Летом в нем росли грибы и ягоды. И на участке тоже.
Зиновьев любил полежать в старом полосатом гамаке, натянутом между двумя деревьями у высокого крыльца. Он был настоящим дачником, типичным. Причем не из тех питерских садоводов-огородников, что гнут спину на шести сотках с ранней весны до поздней осени, сажая два ведра картошки весной и собирая одно по осени, а настоящим дачником – отдыхающим в загородном доме с участком.
Сначала, когда Вася Зиновьев был маленьким, его родители по местной городской традиции ежегодно снимали дачу в Лахте. Они подружились с хозяйкой дома – одинокой старушкой Екатериной Матвеевной Куковой, и стали почти родственниками. Поэтому, умирая, баба Катя, как звали ее все Зиновьевы, отписала свой домик с участком им.
К даче все они были очень привязаны и не давали ей стареть: глава семейства Михаил Андреевич Зиновьев вместе с Васей постоянно что-то ремонтировали, колотили и поправляли.
Потом отца не стало. Он тяжело переживал то, что Василий не пошел по его стопам, забросил учебу в строительном институте. А потом... А потом Василий Михайлович вместе с его бизнесом загремел в лагерь, и сердце Михаила Андреевича не выдержало. Мать, Адель Максимовна, более стойко перенесла это несчастье и все восемь лет ждала своего Васеньку. И каждую весну отправлялась на дачу, где жила до холодов.
В то время у Зиновьева уже была семья, в которой родился сын Миша, и Адель Максимовна всячески зазывала на дачу невестку с внуком. Но Кира Сергеевна свекровь не жаловала, а посему на даче появилась за восемь лет лишь несколько раз.
Когда Адель Максимовна умерла, Кира Сергеевна буквально измором взяла Зиновьева. Спекулируя здоровьем сына, она убедила Василия Михайловича в необходимости разрушить старый дом и построить нормальный коттедж, «как у людей».
Он тогда еще очень надеялся на то, что все утрясется, что будет если уж не полноценная семья, то хоть видимость ее, и на уговоры повелся. Старый дом был разрушен и распилен на дрова, а на его месте за высоким забором за одно только лето стараниями умелых шабашников был возведен каменный дом в три этажа – дурацкий, безвкусный проект этого «замка» Кира Сергеевна смогла протащить вопреки воле Зиновьева.
От их старого дома в Лахте скоро не осталось даже дров, и Зиновьев возненавидел коттедж. Жить там он не хотел и лишь изредка навещал семью, выезжавшую на отдых за город.
Деревянный дом в Комарове он построил для себя. Чем-то он напоминал ему старый дом в Лахте. Не внешне, нет. Домик бабы Кати был куда проще. А вот запах и там и там был особый – лесной.
Зиновьев отпустил машину и Витю Осокина, который готов был остаться на ночь.
– Езжай-езжай! Какого черта со мной тут будет?! Хочу один побыть.
* * *
Зиновьев включил отопление, и скоро в доме стало тепло и уютно, а в камине затрещали дрова, выстреливая искрами, шипя и пузырясь в особенно отсыревших местах – дров Витя занес с улицы из-под навеса. Зиновьев плеснул коньяку в пузатый стакан, сел в глубокое кресло у камина и не удержался, стал рассматривать картинки уличной художницы Даши Светловой.
Они напомнили Василию Михайловичу его детство, в котором были кошки и собаки, птички и ежики. Адель Максимовна и Михаил Андреевич на свою голову воспитали в сыне любовь ко всему живому. Она – эта любовь – с годами разрослась до невероятных размеров и перла через край, как тесто из кастрюли. В детстве всего много – и счастья, и горя, и любви.
И Дашкины картинки были словно кадры светлого детства сурового делового Василия Зиновьева. Они подкупали пронзительной честностью, откровенностью. Детство нечестным не бывает. И даже если в детстве ты прослыл врушкой, с годами становится понятно, что это не враки были, а фантазии. Это взрослость примешивает к фантазиям корысть, и они становятся враньем.
* * *
Василий Михайлович сходил в кладовку и принес молоток и гвозди. Он облюбовал для Дашкиных картинок стену у камина и принялся колотить среди ночи. Гвозди легко входили в дерево, но пару раз Зиновьев засадил молотком прямо по пальцам. Он забавно тряс рукой в воздухе, беззвучно обзывая себя косоруким. Что правда, то правда, косорукость была ему присуща: приколотить или отпилить он мог, но без гарантий качества. Работать он привык больше головой. А руками он хорошо выполнял тонкую работу – шил и даже немного вязал, ничуть не смущаясь того, что эти способности многие считают исключительно женскими.
Через час Зиновьев закончил работу. Со стены ему улыбались Дашкины звери. Именно улыбались. Зиновьев нисколько не сомневался в том, что животные умеют это делать. Так же как они могут плакать, если им больно.
...В эту ночь он так и не уснул. Лежа в гостиной на диване под теплым пледом, он смотрел, как бегает по углям огонь, готовый сдаться и уступить место серому пеплу, слушал, как скребет крышу колючая ветка сосны, как гудят вдалеке поезда, проскакивая платформу Комарово без остановки. А в окно на него с любопытством пялилась огромная желтая луна, разрисованная едва заметными лунными морями и кратерами, словно глобус.
Василий вспомнил свой прошлогодний спор с двоюродной племянницей. Очаровательная студентка, влюбленная в своего однокурсника, просто расцвела, что не укрылось от дядиного глаза, и Зиновьев, притворно вздохнув, сказал:
– Ах, солнце мое, как я тебе завидую! Любовь – это так здорово!
А та кокетливо улыбнулась и вдруг выдала:
– Да уж, дядечка Васечка, это здорово! Жаль, что вам уже не дано!
– Что не дано? – не понял Зиновьев.
– Не дано любить! Всему свое время. В мои двадцать море любви, а через двадцать лет – одни воспоминания...
– Ты считаешь, что в сорок любви не бывает?!
– Нет, конечно! В сорок люди разводятся, потом просто находят себе пару и живут вместе, чтобы не жить в одиночестве.
– Это ты серьезно так думаешь?
– Ну, дядь Вась! А как иначе?! И вообще, что мужчина, что женщина в вашем возрасте просто смешны в своих попытках проявления чувств. Все-таки всему свой срок.
«Да, молодость беспощадна!» – с горечью заключил тогда Зиновьев. Собственно, не имея в виду себя. Его чувства, как ему самому казалось, давно засохли. В жизни Василия Михайловича Зиновьева было много работы, много долга перед близкими людьми. И все! Он даже не замечал, что мимо проскальзывают мгновения, которые хотелось бы запомнить, чтобы потом, вот так, бессонной лунной ночью, вспоминать каждую деталь, каждое слово, каждый жест.
Конечно, случались в его жизни виражи, которые захватывали его в свободное от работы время. Он сорил деньгами, покупая расположение понравившихся ему женщин, и у него это получалось. Причем получалось очень легко. Зиновьев даже не сомневался в том, что нет такой женщины, которую нельзя бы было... нет, не купить – не любил он это слово... Не купить, а, скажем, покорить красивой вещицей, широким жестом, корзиной цветов. И не казалось ему это чем-то продажным и мелким. Нормально все! Женщины хотят быть в центре внимания, хотят получать подарки, хотят слышать комплименты. Зиновьев не считал это чем-то низким. И в его жизни было немало таких вариантов. Вот только с племянницей он никак не хотел соглашаться в той части спора, что касалась возраста любви. «Она просто еще молодая девочка, для нее все чувства новы. Закружится в любовных мечтаниях, не дай бог, нарвется на кобеля, и он изрядно поломает ее жизнь», – думал про недавний спор Василий Зиновьев.
Сам он никогда в жизни не терял голову от женских чар. Да, захлестывали желания и фантазии, и голова вроде кружилась, но... Не так! Не так, как вот сейчас.
Ну что в этой Дарье Светловой? Женской красоты – пока что никакой. Ручки-ножки словно веточки-палочки. Ни тебе роскошных форм, ни томных взглядов, от которых кровь кипит. Волосы красивые – это да. И глаза. Хитрости в них – ноль. Она ему свои картинки продала, а не душу с чувствами. Да и какие у нее чувства могут быть к нему, пожившему, битому уже судьбой мужику? Ей еще по киношкам бегать с мальчишками! «Стоп! А я что, в киношку ее не смогу пригласить, что ли? Завтра же! Завтра же!!!»
Вот на этой славной ноте Зиновьев наконец-то и забылся сном зыбким и трепетным.
* * *
Он проснулся рано и в прекрасном настроении, чего с ним давненько не случалось. Дома было тепло и уютно. Можно было бы поваляться перед телевизором, но Василий Михайлович просто дрожал от нетерпения снова увидеть Дашу Светлову. Он еще не знал, что он ей скажет, как объяснит свое появление. Она ненамного старше его племянницы и, наверное, тоже думает, что в сорок с лишком лет не влюбляются. «А что? Возьмет да и пошлет!»
Он хотел сделать все, чтобы этого не произошло. Было немного стыдно за то, что его вдруг обуяла налетевшая неведомо откуда страсть. Правда, это была совсем не та страсть, что сжигает порой мужчину, желающего именно ту, а не другую женщину. Внутри его все было заполнено нежным светом, таким, какой вселяется в душу от общения с ребенком. Его не реализованное толком отцовство было тому причиной или нежное мамино-папино воспитание, которое не вытравили из него ни жизнь-борьба, ни зона, ни доступность всего и вся, – кто знает?
* * *
– Витя, – сказал Зиновьев телохранителю утром, – я тебя на сегодня отпускаю. И водителя тоже.
– Это как? – искренне не понял верный Витя Осокин.
– «Как-как»... просто! Я сегодня сам поеду, один. И не скажу куда.
– Васи-и-и-и-илий Михайлович, – укоризненно протянул Витя. – Ну, это не обсуждается!
– Вить, ну скажи: кому я нужен? Никому! А я хочу побыть один, подумать. Хочу, наконец, за рулем посидеть, как белый человек. И не возражай мне! Ну, если хотите, то ползите с Сережей следом, но чтобы я вас не видел и не слышал! Все, Витя, выметайся!
* * *
Он не мог определиться с тем, чего ждет от общения с Дашей Светловой. Он хотел сейчас только одного – в киношку! И даже не на последний ряд! Боже упаси! Такого Василий Михайлович даже боялся. Ему хотелось приехать с Дашей в кинотеатр, купить билеты, сидеть до начала сеанса в кафе и смотреть на нее. Ему хотелось снова увидеть ее длинные пальцы с ровно обрезанными ногтями, почувствовать, как отогреваются они на боках чайной чашки.
Зиновьев помотал головой, отгоняя видение.
– Витя, я еду в кино. Если ты хочешь, можешь ехать туда же! Но не со мной. А за мной. И чтоб я тебя не видел!
– Василь Михалыч, какое кино-то в девять часов утра?
– А все равно какое! Желательно хорошее и доброе. Все, братцы, по коням!
* * *
Зиновьев сел на водительское сиденье и тут же почувствовал, как он соскучился именно вот по этому! По дороге, которую сам придавливаешь колесами, по машине, которая послушно двигается по лесному серпантину, по настроению легкому – светлому, восторженному, мальчишескому.
За белым «мерседесом» грозно переваливался с боку на бок высокий черный джип, а Зиновьев в зеркало заднего вида рассматривал недовольные физиономии Вити Осокина и водителя Сережи Гаврикова. Такого давненько не было, чтобы он вдруг взбрыкнул и отстранил от работы тех, кто верой и правдой служил ему днем и ночью.
– Ничего, парни! Сегодня случай особенный. Я вам еще на трассе дам чертей! – сказал Зиновьев себе под нос и действительно вдавил в пол педаль газа, едва только вырвался на трассу. «Мерседес» махом, как сильный зверь, сорвался с места, оставив позади лесную дорогу, и Василий Михайлович с удовлетворением отметил, что никуда не ушло умение управлять мощной машиной. «Вот уж правду батя говорил: как нельзя разучиться ездить на велосипеде, так нельзя утратить навыки управления автомобилем», – удовлетворенно отметил Зиновьев и сбросил скорость. «Все, хватит парней пугать! Показал удаль и буде!»
Город Петербург встретил туманом и пробками, которые объехать мог только умелец Сережа, но он сегодня был в сопровождении. Зиновьев представил, как он злорадно улыбнулся и сказал Вите Осокину:
– Ну, пусть наш Шумахер поразвлекается, раз решил молодость вспомнить!
– А и ничего страшного! Давненько не стояли мы в пробочке да не слушали радио «Шансон»! – хохотнул довольно Зиновьев и включил погромче музыку. Он себя не узнавал. Ему хотелось хулиганить, да так, чтобы это заметили и, заметив, улыбнулись, и чтоб какая-нибудь старушка погрозила ему вслед сухеньким кулачком...
* * *
К Дарьиному дому они подъехали часа через полтора: довольный Зиновьев и уставшие от погони за ним по городу Витя с Сережей.
– Василь Михалыч, цветы не купили... – сказал Витя, покосившись на двери парадной, за которой вчера исчезла эта художница, ради которой их шеф сегодня устроил такую свистопляску.
– Цветы, говоришь... Не, Вить, не надо цветов. Я боюсь. Я ведь не знаю, как тут встретят, а ты – «цветы»!!! Все, я пошел. Она говорила, что на первом этаже живет. Я так понимаю, что всего две квартиры проверить надо. Ждите меня тут. Витя! Да не сходи ты с ума! Кто там ждет меня, в этом «парадном»?! – остановил Зиновьев своего телохранителя, который привычно шагнул к двери. – И вообще, Вить, пора бы уже уяснить, что страшнее врага, чем моя супруга Кира Сергеевна, у меня в настоящее время нет. Но она вряд ли уже пронюхала что-то.
«Тьфу-тьфу-тьфу», – сплюнул Зиновьев через левое плечо и вошел в пропахший кошками подъезд. Начитанный Василий Михайлович Зиновьев машинально вспомнил Льва Успенского, писавшего про то, что лестницы старого Петербурга пропахли жженым кофе, на что утонченная Анна Ахматова с возмущением ответила, что в респектабельных петербургских домах на лестницах не пахло ничем, кроме духов приходящих дам. И коль товарищ унюхал запах жженого кофе, то, вероятнее всего, его принимали с черного хода, где скорее уж пахло кошками, чем кофе...
Зиновьев обожал свой город, как бы он ни назывался в разные времена – Петербург ли, Ленинград ли. Он обожал его за то, что жители этого города проссанные кошками подъезды с маниакальным упорством называли парадными. А еще, в отличие от москвичей, здесь курицу называют курой, бордюр – поребриком, пончики – пышками, проездной – карточкой, гречку – гречей, гусятницу или утятницу – латкой, а белый хлеб – булкой. «Интересно, а знает ли об этом Дашка?» – снова машинально подумал Зиновьев и позвонил в первую квартиру на лестничной площадке.
За дверью послышались скорые шаги, щелкнул замок, и на пороге возникла Дарья Светлова собственной персоной в цветном переднике, под которым был длинный, вытянутый чуть не до колен свитер и толстые шерстяные колготки. Руки у нее, видимо, были в чем-то испачканы, поэтому она мгновенно вытерла их о тряпку, торчащую из кармана передника, и незаметным движением дернула свитер вниз.
Зиновьев смущенно сказал:
– Здравствуй, Даша! Это я. Можно войти?
– Можно. Здравствуйте, Василий Михайлович. Вы – ко мне?
– К тебе. Ты занята?
– Да. То есть – нет. Или... да... В общем, у меня там... – Дарья помахала рукой в направлении кухни. – У меня в духовке запекается... кура!
– Дашка! Ты – прелесть! Ты даже себе не представляешь, какая ты прелесть вместе с этой своей печеной курой!
Зиновьев понюхал воздух и понял, как он зверски хочет есть.
– Кура готова? – спросил он у Даши.
– Кура? – Дашка опешила. – Ну, в общем-то, готова, но хлеба нет!
– А что есть? – спросил, хитро прищурившись, Зиновьев.
«Ну вот, Дашка, это твой экзамен! Сдашь его сейчас – и все! А что все? Ее еще надо спросить – хочет ли она это «все»! Да для меня! Для меня – «все»!»
– Ну... есть немного... булки...
Дашка ничего не понимала. Она совсем не знала, как говорят в Москве и как принято говорить в этом городе. Она не читала Льва Успенского и не знала, что думала о питерских запахах Анна Ахматова. Она просто легко впитала тот язык, на котором говорили обитатели квартиры. Из настоящих, коренных горожан здесь была только Евдокия Дмитриевна. И это от нее у дяди Пети, у Аллочки с Юркой, а потом и у Дашки в обиходе легко появились «кура» к обеду, «булка» на завтрак и «пышки» по праздникам.
Услышав следом за «курой» еще и «булку», Зиновьев расхохотался.
– Дашка, Дашка! Знаешь, как ты меня порадовала? Ну что, накормишь меня своей курой? Я сегодня, Даш, не завтракал.
– Ну, проходите. Только у меня к чаю ничего нет...
– Это не проблема. Я сейчас.
Зиновьев достал из глубокого кармана своего долгополого пальто здоровенную трубку-телефон – самые первые мобильники были огромными, чуть меньше утюга, – набрал номер и коротко отдал распоряжение:
– Витя, смотайтесь в магазин и купите еды разной и к чаю вкусностей, и в семнадцатую квартиру – чай пить.
Потом присел на старый стул в прихожей, по-свойски стянул ботинки.
– Ой, а у меня... больших тапочек нет! – Дашка покопалась для приличия в обувной тумбочке.
– А я не замерзну!
– Да, не замерзнете, в комнате тепло. Проходите, пожалуйста!
* * *
Зиновьев давно уже забыл, что есть в природе такая смешная мебель, и такие шторы допотопные, и настольная лампа с гнущейся «шеей». А тут увидел все это в Дарьином хозяйстве и сразу вспомнил детство свое полунищее в огромной коммуналке, перешитые батины брюки, коврик настенный с бахромой – мамину гордость.
– У меня без особой роскоши. – Дарья поборола смущение. – Но меня устраивает. Вам, наверное, смешно, но мне после моей вчерашней исповеди не стыдно показать вам свое жилище. Только перед друзьями вашими мне будет не очень удобно, когда они придут чай пить.
– Брось ты! Они нормальные парни. Все понимают. А уж как я-то понимаю, ты себе даже не представляешь! Дашка! Я же сам среди таких вот вещей вырос. И если честно, то скучаю порой в современных интерьерах по маминым накомодным слоникам, которых страшно любил в детстве. Я играл в солдатиков, и слоники были боевыми индийскими слонами. А потом их объявили пережитком прошлого и мещанством, и понесли люди милых сердцу каменных животин, которых держали в доме на счастье, на помойку... А мама моя не выбросила их. Когда дачу рушили, я их в коробку сложил и домой привез. Жена разоралась... Да. Но это уже совсем другая история.
* * *
Потом они вчетвером пили чай, придвинув стол к дивану, потому что стульев не хватило. Сереже и Вите Осокину Дашу представлять было не нужно. Зиновьев только пояснил:
– Парни! Дашка – не только замечательная художница, но и лучший дворник микрорайона! Она этим не хвасталась, это я сам прочитал. Кому интересно – вон на стене вырезка из газеты!
Дашка покраснела.
– Не красней! Тебе что, стыдно за то, что дворником работаешь?
– Нет, конечно! Просто... Ну, написали про меня, вот я и повесила...
– Вот и я про то же: труд – это не стыдно. Но должен тебе сказать, дворником ты больше работать не будешь. Не женское это дело. Посмотри на свои ручки!
Дашка поспешно спрятала руки под стол.
– Я помогу тебе. Хочешь рисовать – будешь рисовать. Хоть пой! Устрою. А сейчас мы пойдем с тобой в кино.
– Куда?!! – Дарья решила, что ослышалась.
– В кино. Даша. Ты подарила мне немало приятных минут, я словно в детство свое вернулся. Так подари мне еще и кино это, дневной сеанс, а?
Он говорил так, будто они с Дашкой вдвоем сидели в комнате и не было рядом ушей Вити и Сережи, – впрочем, те вполголоса переговаривались между собой. Видимо, за долгие годы работы с Зиновьевым привыкли быть в тени и слышать лишь то, что нужно было слышать.
– Я даже не знаю... – Дашка засомневалась. – Я вообще-то сегодня собиралась пойти поискать себе ботинки!
– Отлично! Едем покупать ботинки! И не только. Куртка тебе новая нужна? Шапка? Еще что там нужно тебе, думай – все купим. А потом – в кино. Можно так?
– Ну... Можно, наверное...
* * *
Даша с трудом понимала, что происходит. Она, конечно, вчера допоздна думала об этом человеке, который так внезапно ворвался в ее жизнь. Она рада была тому, что Зиновьев, как когда-то Ваня Сурин, помог ей. И дело не в новеньких хрустящих долларах, которыми Василий Михайлович щедро расплатился за Дашкины картинки. Дашке немного неудобно было: все-таки таких денег ее работы не стоили. Но деньги ей были очень нужны. Если честно, уже давно хотелось изменить что-то в себе, гардероб поменять. А после того, как она проехалась в зиновьевском «мерседесе», ей просто страшно захотелось преображения. И капитал у нее как раз появился, долларовый. Она собиралась на вещевой рынок, а Зиновьев прямиком повез ее в центр.
Когда белый «мерседес» остановился на Невском у огромного магазина, в витринах которого крутились на манекенах в лучах крохотных софитов шубки, шубы и манто, Дашка сжалась вся и твердо сказала:
– Я туда не пойду.
– А я туда и не зову тебя. Музыку слушай и посиди немножко, ладно?
* * *
Зиновьев вышел из машины, кивнул Вите Осокину. Дарья видела их отражение в боковом зеркале. Мужчины посовещались о чем-то и поднялись по ступенькам в магазин. Минут через пять вышел Витя с незнакомым молодым парнем, который открыл заднюю дверцу «мерседеса» и легко, как кузнечик, закинул свое тоненькое тельце в салон. Дарья обернулась к нему.








