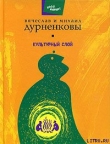Текст книги "Россия, общий вагон"
Автор книги: Наталья Ключарёва
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Наталья Ключарева
РОССИЯ, ОБЩИЙ ВАГОН
1
У Никиты была одна физиологическая странность. Он часто падал в обморок. Конечно, не от вида крови или от нехорошего слова, как всякие там тургеневские барышни, а просто так.
Иногда прямо среди разговора, иногда от сильного весеннего ветра или от переходов метро, похожих на космические корабли. Так его восхищала жизнь. И так он переживал происходящее вокруг. Что иногда организм не справлялся с напряжением. И самовольно выключался. Только так можно было заставить Никиту сделать паузу и перевести дух, который всегда захватывало.
А еще у Никиты часто начинала болеть какая-нибудь несуразная часть тела. Ну, которая ни у кого не болит. Например пятка.
Или запястье. Или, вообще, указательный палец. Боль тоже вырывала из потока, но мягче, оставляя картинку за мутным стеклом. А внутри появлялась тишина, в которой тикали кузнечики и цикады говорили свое веское слово. Никита слушал цикад и смотрел, улыбаясь, на мир. Как бы издалека. Как бы из другой формы жизни. А поезд тихо шел на Тощиху...
Никита пришел в себя. Мутными глазами общего вагона на него смотрела страна. Затылок собирал вшей в чьем-то бушлате, ноги тянулись в узкий проход сквозь баулы, чемоданы и тележки.
Страна то и дело норовила облить Никиту кипятком, кренясь и хватаясь за поручни, накормить воблой и домашними пирожками, измазать растаявшей конфетой, напоить водкой, оставить в дураках на засаленных картах, где вместо дам – голые девки.
Страна старалась войти с Никитой в контакт. Вступить в отношения. Страна не давала спать, не давала думать, не давала покоя.
Страна зевала, храпела, воняла, закусывала, выпивала, лезла на верхнюю полку, наступая на чью-то руку, грызла семечки, разгадывала кроссворд, почесывала яйца, ругалась с проводником, посадившим у самого туалета, болталась в грохочущем тамбуре, говорила:
«Какая это остановка?» – «Смотрите, пацан опять в отключке». – «И не пил вроде». – «Наркоман небось». – «Да щас они все, кто колется, кто нюхает!» – «Ты бы, мать, промолчала про что не знаешь, человеку плохо ...» – «Может, врача?» – «Это почему же мне молчать?! Я всю жизнь у станка простояла! Ты мне рот не затыкай – я инвалид!» – «Уймитесь, женщина, дети спят!» – «Дети! Вырастут – тоже будут клей нюхать и рот затыкать старикам!» – «Бабка, не гунди! Давай, лучше песню споем: НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРА-ХА-ТА-А-АЛИ! САЛДАТЫ ШЛИ В ПАСЛЕДНИЙ БОЙ!..»
Никита опять вернулся в себя и вышел покурить. Страна подъезжала к станции Дно, качаясь на рессорах и томительно вытягиваясь вдоль изгибающихся путей. Потом резко затормозила и встала у фонаря.
– Эй, братан, это мы где?
– На дне! – весело крикнул Никита и стал пробираться к выходу.
На станции Дно было безлюдно и сыро. Только диспетчеры переговаривались на своем инопланетном наречии, и невидимые обходчики стучали в железные суставы поездов.
– Ты куда вылез-то, доходяга? – нежно пробасила толстая проводница, похожая на оракула. – Чего доброго, опять хлопнешься. Мне, что ли, тебя с путей счищать?
Никита улыбнулся оракулу и пожал плечами. Пахло углем, гнилым деревом и дорогой. Лицо щекотал мелкий дождь. И все как будто знало тайну. Которую невозможно разболтать. Потому что незачем.
2
В вагоне к Никите подошел маленький мальчик. Взял за коленку и серьезно спросил:
– У тебя есть мечта? – И не дожидаясь ответа: – А у меня есть: я хочу упасть в кусты и там жить!
– И все? – спросил Никита. – Больше тебе для счастья ничего не нужно?
Мальчик задумался, засунув в рот кулак.
– Ну, еще я хочу поезд. Я бы на нем ехал-ехал. А потом... упал бы в кусты! И там жил!
– Что же тебе мешает? – Никита нагнулся, пытаясь поймать ускользающее внимание ребенка.
– Носки! – буркнул мальчик и, заскучав, побежал дальше.
– Носочки теплые, овечьей шерсти, за пятьдесят рублей отдаю, на рынке в два раза дороже! – заголосила, протискиваясь сквозь вагонное ущелье, женщина с большой клетчатой сумкой. – Настоящие шерстяные, берите, девочки, не пожалеете!
В конце вагона голосистая продавщица носков вступила в неравный бой с проводницей, чей густой бас перекрывал все ответные реплики.
– Сколько раз говорить! Тут не Красный Крест! Хочешь ехать – плати! Мы не богадельня, а Российская! Железная! Дорога! Что мне твои дети! Нарожала! Сейчас и высажу! В следующий раз – милицию буду звать!
Никита схватил рюкзак и тоже стал пробираться к выходу.
На пустой платформе привычно спал на сумке с носками мальчик, мечтавший упасть в кусты. Кустов вокруг не наблюдалось. Только какие-то безглазые постройки и уходящая в темноту проселочная дорога. Еще один парнишка, постарше, засунув руки в карманы, скептически разглядывал скрипящий фонарь. Женщина смотрела на уходящий поезд и почему-то улыбалась. Никите это понравилось.
Здание вокзала станции Киржач оказалось наглухо заколочено. Никита поставил клетчатую сумку на мокрую скамейку.
– Что ж, будем ночевать здесь. Нам не привыкать. Обнимемся и не замерзнем, – говорила продавщица носков Антонина Федоровна, расстилая по лавке полиэтиленовые пакеты. – Ты давай, разуйся, я тебе тоже носочки дам, а то ноги застудишь.
– Мам, я чаю хочу! Мам, я задубел весь! Мам, у меня живот болит! – хныкал старший мальчик Сева.
– Что ты ноешь! Улыбайся! Чему я тебя учила? Выпрями спину и улыбайся! Завтра нам повезет!
– Все завтра да завтра! Не будет ничего завтра!
– Не смей! Даже думать так не смей! Тем более говорить! Смотри, Ленька самый маленький, а держится как настоящий мужчина!
Ленька безмятежно спал, положив ладони под щеку. Он точно не сомневался, что завтра будет лучше, чем вчера.
– Я раньше как Севка была, – сказала Антонина Федоровна. – Чуть что – сразу в слезы. Сразу мысли всякие: ничего не получится, всю жизнь так и будет... хоть в петлю! А потом прочитала в одной книжке американской, что залог успеха – это прямая спина и улыбка. И теперь, что бы ни случилось, всегда помню: главное – улыбаться и не сутулиться. Тогда повезет!
– И как? – осторожно поинтересовался Никита. – Срабатывает?
– Да пока не очень, – легко призналась Антонина Федоровна. – Но я не отчаиваюсь. Я же знаю, что когда-нибудь – все обязательно изменится!
Тоня Киселева выросла в маленьком шахтерском поселке Хальмер-Ю. Это за Воркутой, дальше на север, к Ледовитому океану, по узкоколейке, которая раз в неделю связывала шахту с остальным миром.
В семнадцать лет вышла замуж за шофера. В выходные он катал ее по тундре в раздолбанном грузовичке, на котором в рабочее время возил мусор. Потом родился Сева. А потом шахту закрыли. Народ, не надеясь, что о нем позаботятся, стал выбираться из обреченного населенного пункта.
Тонин муж уезжать не торопился.
«Совсем люди веру потеряли! – говорил он жене. – Разве так можно! Наше государство – это государство рабочих и крестьян. А мы кто? Мы – рабочие. Сама посуди: может ли оно бросить нас на произвол судьбы? Оставить одних посреди тундры? Конечно нет! Вот увидишь, дадут нам квартиру где-нибудь на юге, а эти, которые сейчас бегут, как крысы, потом будут локти кусать!»
Девятнадцатилетняя Антонина верила и мужу, и государству. И вслед за Севой доверчиво родила им еще и Леню.
«Вот дура!» – хором говорили ей бывшие земляки, когда она уезжала обратно в Хальмер-Ю из воркутинского роддома. Но Тоня только загадочно улыбалась. Она-то знала, что впереди у нее большая квартира с окнами, выходящими на южное море.
В поезде она ехала одна. Угрюмый машинист, из бывших зэков, почему-то медлил трогаться в обратный путь. Потом дал два резких гудка. Тоня обернулась.
«Слышь, мать. Ты бы это. Короче, уезжай отсюда. Чего тормозишь? Еще два рейса. И хана. Закроют ветку».
– Как закроют? – удивилась Тоня – А мы? А хлеб привозить? Никак не должны! Вы что-то напутали!
Машинист тоже назвал Тоню дурой и дал задний ход.
И тут Антонина Киселева впервые начала сомневаться. Через неделю она, сама не зная зачем, прикатила коляску с маленьким Леней на станцию. И смотрела, как грузит пожитки шумное семейство Капелькиных. Машинист, помогая затаскивать в поезд ящики и узлы, посмотрел в ее сторону и в сердцах сплюнул на вечную мерзлоту. После отъезда Капелькиных они остались в Хальмер-Ю одни.
– Я к мужу: давай уедем! А он в ответ благим матом. Даже руку стал поднимать. Раньше – никогда, хоть и шофер. Или лежит целыми днями лицом к стенке, молчит. А то заснет – и как заскрипит зубами, в тишине-то этой... Страху столько...
Ели только гречневую кашу. Больше ничего не осталось. Я во дворе костер разводила и варила. И электричество отключили, и газ. Сварю, поставлю кастрюлю ему у кровати, а она вся черная от дыма-то. А стол я на дрова поколола.
Поставлю, значит, а сама детей в охапку – и иду плакать к бывшему кинотеатру, где мы с мужем познакомились. Каждый день ходила. Реву, уливаюсь. Севка вслед за мной начинает хныкать. Ленька просыпается в коляске – и тоже в крик. Так все втроем и ревем.
А потом приехал последний поезд. Я на станции с детьми стояла. Просто посмотреть на живого человека пришла. Мыслей не было никаких, нет. В коляску вцепилась и стою смотрю. И он – смотрит. Из кабины. Черный весь лицом-то...
А в поселке развелась тьма-тьмущая диких псов. Целыми стаями по улицам шныряли. Хозяева побросали. Иду, а они следом бегут, почти вплотную. И все будто в коляску заглядывают. Швырнешь в них чем-нибудь, огрызнутся, отстанут, но ненамного.
И вот тут, стою у поезда. И вдруг эти псы как завоют. Обернулась, а они прямо на меня идут, всем скопом. Я – к вагону. Машинист выскочил, коляску поднять помогает и твердит: «Ну, слава те, слава те...»
И тут же тронулся, чтобы я раздумать не успела.
Потом в Воркуте мы у него жили какое-то время. Рассказал, за что сидел. Тоже история. С Вологодчины он. У них глава района поселок заморозил. Да так. Котельная сломалась, а деньги на ремонт он себе прикарманил. Начались холода, люди к нему, а он: «Да-да-да, все под контролем, да-да-да все сделаем!»
И вот у этого машиниста, Николая, дочка в нетопленом детском саду подхватила воспаление легких. И умерла. Он пошел к главе района. Только дверь в кабинет открыл, тот ему, не поднимая глаз: «Да-да-да...» – и все. Больше ничего не сказал. Николай его в упор из дробовика расстрелял. И остался ждать милицию...
– А потом? – тихо спросил Никита надолго замолчавшую Антонину Федоровну. И тут заметил, что она спит. По-прежнему улыбаясь. И с прямой спиной.
Мимо крался товарный поезд. Круглые бока цистерн казались большими животными, носорогами или бегемотами, упорно бредущими куда-то в поисках счастья.
Утром Никита купил у Антонины Федоровны овечьи носки, в которых ночевал.
– Вот видишь, Севка, я же говорила, что завтра нам повезет, а ты не верил! – выговаривала она старшему сыну, покупая хлеб и сгущенку в обгоревшем ларьке, откуда месяц назад подгулявшие мужички пытались выкурить продавца, не хотевшего отпускать им спирт бесплатно.
Ленька здоровался за руку с найденным поблизости кустом. Севка хмуро жевал, отвернувшись в сторону. Антонина Федоровна уговаривала продавца купить у нее «отличные шерстяные носки».
– А потом я тоже стала с ума сходить, – продолжение истории Никита услышал уже под вечер, когда неутомимая Антонина Киселева, обойдя весь Киржач и продав все носки, дожидалась вечернего поезда. – Казалось, будто муж меня зовет обратно. Укоряет, что бросила. Такой явственный голос в голове. Я с ним вслух разговаривать стала.
«Коля, говорю – его тоже Николаем звали, – ведь я не за себя, за детей испугалась, Коля!»
Думала пешком к нему идти. Увести оттуда. Или продуктов принести хотя бы. Николай, который машинист, меня на ключ запирать стал. «Дура, кричит, пропал человек, а тебе нельзя, ты – мать!» А я ему: «Все равно сбегу!»
И через несколько дней я его достала. Сама не ожидала. Тайком от начальства вывел он ночью паровоз, посадил меня в кабину, и поехали мы в Хальмер-Ю – моего Николая искать. Я струсила, говорю: «Может, не надо? Может, пешком дойду? Подсудное дело-то!» – Только рукой махнул.
– Нашли? – Никита сидел на платформе, прислонившись к вокзалу, и из последних сил сопротивлялся обмороку.
– Не знаю. Там-то, конечно, там не было никого. Двери настежь. В квартире прибрано. Даже кастрюлю отмыл, закопченную... Весь поселок обошли, в каждый дом заглянули. Их ведь не запирали, когда уезжали. На шахту сходили. И никого не нашли. То есть я – никого, а Николай – ничего. Потому что он тело мертвое искал, а я – живого мужа. Даже псы эти исчезли куда-то. Тишина такая, что и шепотом говорить жутко.
Так и уехали ни с чем. Но когда мы там ходили, мне все время казалось, что он на меня смотрит. В затылок. А обернешься – никого. Этот взгляд, я его до сих пор чувствую. Он теперь всегда на меня смотрит...
– Как же ваш машинист отпустил вас с детьми носками торговать?
– Да я сама сбежала. Наврала, будто к сестре на Кубань еду, что и работу нашли, и дом свой... И рванула куда глаза глядят. А сестры у меня в жизни не было.
– А чего так?
– Не успели родители, умерли рано. Папа на шахте погиб, а мама через год за ним отправилась.
– Да я не про сестру. Я про машиниста.
– А-а, машинист... А он вроде как любить меня вздумал. А мне – какая любовь, все сердце там осталось, в пустом поселке. А человека жалко. Хороший ведь человек. Вот я и сбежала. Он, когда меня провожал, вдруг про жену свою рассказывать стал. Тоже Тоней, оказывается, звали. Такой у нас ребус получился: два Николая и две Антонины...
– И что жена?
– Пока суд был, молодцом держалась. А как осудили – в тот же день руки на себя наложила. Повесилась. Он об этом только через год узнал. Потому что она ему перед смертью дюжину писем написала. Ласковых таких, что все, мол, в порядке, живу потихоньку, жду, в поселок тепло дали... их ему потом соседка каждый месяц отсылала, пока не кончились. Вот и поезд наш подъезжает...
3
Юнкер опять пил дорогое итальянское вино. Сухое. Красное. Юнкер опять слушал Шуберта. Не хватало только свечей и белой шелковой рубашки с поднятым воротником. Юнкер, как и положено русскому дворянину, говорил о судьбах отечества. У Никиты болела коленка. Ему было грустно.
– Ну, и куда ты все ездишь? Что ищешь? Россию, которую мы потеряли? – говорил Юнкер, разливая вино.
– Россию... – эхом отзывался Никита.
– Чтобы потом сидеть в эмиграции, слушать, как жена Катенька поет в гостиной «Белой акации гроздья душистые», и писать роман «Офигенные дни»?
– Я не уеду, ты же знаешь.
– А зря. Нефти в стране осталось на восемь лет. И все. Новые месторождения никто не разрабатывает с советских времен. Что делать?
– Жить.
– Скорее, выживать. А я выживать не хочу. Я, например, вино люблю вкусное, музыку хорошую, мемуары Рихтера вот читаю...
Юнкер был сибарит и эстет. И этой дружбы никогда бы не случилось, если бы Юнкер не оказался вдруг хорошим человеком. Хотя «хорошим» – не совсем верное слово. Никита долго ломал голову, прежде чем откопал в памяти этот архаизм, который встречал только в книгах. Юнкер был благородным.
Он жил в мире, который умер столетие назад. В мире, где были честь, совесть, достоинство. Долгое время Юнкер казался Никите вообще каким-то безупречным существом. В его словах и поступках не было этой обычной человеческой гнильцы: обещать – и не сделать, натворить что-нибудь, а потом прятать голову в песок, оставив на заду записку: «Это не я. Это так и было».
Однажды, перебрав дорогого вина, Юнкер изложил Никите планы хулиганских диверсий против мелкокалиберных, но крайне гнусных чиновников. Потом заговорил о похищении министров, подготовке бунта в армии, но вдруг театрально осекся и пошел откупоривать следующую бутылку.
В тот же день Никита заметил у него на столе, кроме мемуаров Рихтера, воспоминания эстета-террориста Бориса Савинкова. И понимающе улыбнулся. Хотя Савинков с его сверхчеловеческим снобизмом и аристократической недоступностью никогда не был ему близок. В отличие от божьего человека Ивана Каляева, который одной рукой крестился, а в другой – держал бомбу. И говорил в ответ на иезуитские вопросы атеиста Савинкова: «А как же «не убий», Ваня?» – «Не могу не идти, ибо люблю».
Один их разговор Никита запомнил на всю жизнь. Юнкер говорил про Куликово поле. И такие у него были при этом глаза, такие интонации, будто он рассказывал не про князя, жившего семь столетий назад, а про себя самого. И будто произошло все это вчера. Или даже сегодня. Только что.
– Это же последняя попытка была. Последняя! И заведомо безнадежная. И ты, юнец неоперившийся, не верящий в себя, ты бросаешь клич по всем этим разрозненным княжествам, которые, кажется, уже забыли само слово «Русь». И ты до последнего не знаешь, придет ли кто-нибудь вообще. И вдруг приходят все. И тебя прибивает то, что на тебя свалилось. И ты понимаешь, что это История. Что либо сейчас, либо никогда. И ты отдаешь приказ перейти реку. Зачем? Ведь было бы гораздо легче стоять на другом берегу и просто не давать противнику переправиться. Но ты делаешь это. Зачем? Чтобы отрезать путь к отступлению. Погибнуть или победить. Без вариантов. А потом ты жертвуешь своим лучшим полком. Потому что только так можно выиграть. Ты просто посылаешь этих людей на заклание. Твоих друзей. И они все проходят перед тобой. И ты говоришь: «Мы победим!», а сам знаешь, знаешь, что все они умрут. Все. И что не ты сделал этот выбор. Ты просто его осуществил...
Юнкер закашлялся, а Никита почему-то подумал, что именно этот момент станет для него Россией. Если когда-нибудь он вдруг окажется далеко отсюда. Или, может быть, даже после смерти. Он будет вспоминать не березки-рябинки и, конечно, не «мундиры голубые», а Юнкера, говорящего о Дмитрии Донском как о самом себе.
4
– Да ты влюбился в него! – смеялась взрослая девушка Аля, когда Никита рассказывал ей про Юнкера. А потом, по традиции, начинала Никиту опекать: – Не слишком с ним откровенничай. Не так-то он прост. Темная лошадка. Втянет тебя в какой-нибудь заговор, а потом сунет в нос корочки ФСБ.
Никита не спорил. Хотя не сомневался в Юнкере ни на секунду. Никита пил зеленый чай и старательно вдыхал запах, «способствующий восстановлению ауры», которым его потчевала Аля. С Алей было бесполезно спорить. Она была девушкой сложной судьбы.
Когда-то, в «позапрошлой жизни», она жила в Одессе.
«Потом меня начал регулярно насиловать отчим, – светски рассказывала Аля, разливая зеленый чай, – и я сбежала в Питер».
В Питере Аля училась на режиссера. Как говорится, «ей прочили большое будущее». Пока будущее не наступило, она бурно радовалась настоящему. Богемные тусовки, ночной образ жизни, комната в общаге, превращенная в сквот.
Вот эпизод из второй Алиной жизни. Его она тоже рассказывала легко и спокойно, как бы между делом. Эта ее особенность всегда приводила Никиту в шок.
– Тогда как раз вышел альбом Pink Floyd «Division bell». Мы с моим приятелем художником лежали на полу у него дома, в темноте, пили вино, курили гашиш и слушали. Потом он вдруг стал приставать ко мне, видимо, музыка навеяла, а мне не нравятся мужики с бородой, ну, я сделала вид, что сильно обижена его поползновениями, и собралась домой. Поздно уже было, он хотел проводить, но я не позволила, надо же было до конца сыграть роль оскорбленной императрицы. Еду в трамвае, смотрю, маньяк какой-то с портфельчиком на меня пялится. Ну, думаю, никак изнасиловать хочет. И точно ведь! Вышел следом за мной, затащил в подворотню и изнасиловал. С тех пор я «Division bell» не люблю. Потому что маньяк этот, хоть и без бороды, но был еще противнее художника. Слюнявый такой.
В Питере Аля без памяти влюбилась. И даже вышла замуж. А на следующий день после свадьбы муж бесследно исчез. «Ищут пожарные, ищет милиция» продолжалось год. Аля вылетела с последнего курса и стала седеть. А была она брюнеткой. Так что это очень бросалось в глаза.
Через год следы мужа проступили где-то в Омске, где он преспокойно жил с другой своей женой и двумя детьми. Но следы были настолько смутными, что найти беглеца хотя бы для развода не представлялось возможным. Так Аля и ходит со штампом в паспорте. До сих пор.
В тот день, когда знакомая знакомых принесла благую весть об исчезнувшем муже, седая девушка Аля спускалась по лестнице в общежитии и столкнулась с невзрачным юношей в очках с толстыми стеклами.
«Возьми меня и увези куда хочешь. Придумай мне имя и биографию. Я буду жить с тобой. Но никогда не буду тебя любить. Это твоя судьба. Надеюсь, ты осмелишься ее принять?» – с царственным отчаянием заявила Аля незнакомому заморышу.
И заморыш Алеша, ни разу в жизни не прикасавшийся к женщине, вдруг взял да и увез Алю в маленький город Подольск. Там у Али, переименованной в Елену, наступила третья жизнь.
Из дома Аля не выходила. Алеша, оказавшийся не только смелым малым, но и гениальным программистом, целыми днями пропадал на работе. А Елена Затворница пила зеленый чай, вышивала бисером, читала «Тибетскую книгу мертвых» и жгла благовония.
«Я стала делать то, что всю жизнь ненавидела, и перестала делать то, что любила больше всего. И мне понравилось!» – резюмировала бывшая Аля свою новую ипостась.
Она бросила пить, курить, употреблять наркотики, «трахать все, что красиво», снимать кино, гулять по ночам, провоцировать, смеяться, наряжаться, материться, писать сценарии и слушать музыку.
Многочисленных друзей, любовников, поклонников, коллег и приятелей «из прошлой жизни» Аля широким жестом послала ко всем чертям. В особо изощренной форме. После чего свита не только «навсегда оставила ее в покое», но даже попыталась вытравить из памяти все упоминания об одесской барышне с трудным характером. А сделать это было нелегко. Потому что Аля была весьма запоминающейся особой.
Одним омерзительным осенним днем, следуя неисповедимым виражам «тонкого мира», Елена, никогда не встававшая раньше сумерек, проснулась в семь утра, причесалась и покинула свою келью. По-королевски проигнорировав немое изумление Алеши, который завтракал на кухне холодным рисом.
Аля купила в ближайшем ларьке бутылку «Анапы» и ухмыльнулась. Она появилась на вокзале за пять минут до отправления поезда и за секунду до того, как Никита, утопив окурок в луже, повернулся, чтобы подняться в вагон и никогда больше не увидеть замечательный город Подольск.
– Ну, и куда ты собрался? – спросила седая девушка, уничтожающе глядя на Никиту, поставившего ботинок на подножку.
– Я мимо еду, – ответил Никита, смутившись. Но спустился обратно.
Девушка фыркнула:
– Он мимо едет! Надо же! Какая наглость! Ты ко мне приехал! И мог бы ради такого случая почистить обувь и быть полюбезнее! Пойдем!
Тут девушка помахала бутылкой «Анапы» и решительно двинулась к виадуку.
– Подождите, я рюкзак заберу! – крикнул вконец растерявшийся Никита.
Девушка резко обернулась и смерила наглеца взглядом, который, как она любила говорить в «прошлой жизни», «в лучшем случае, убивает наповал, в худшем – делает импотентом». Но потом почему-то рассмеялась (этого она тоже не делала с прошлой жизни) и, дружески замахнувшись на Никиту бутылкой «Анапы», ласково сказала:
– Мы с тобой, гаденыш, на вы не переходили. Дуй за своими шмотками!
«Анапу» они распили прямо на виадуке. После чего Аля весело блевала на проходящие внизу поезда, приговаривая:
– Это меня от кислорода развезло, я год из дома не выходила!
– И на обломках самовластья напишут наши номера! Демократическая партия политзаключенных России! – глубокой ночью Аля декламировала Пушкина, обращаясь то к Никите, то к замшелому Ленину, понуро стоявшему на обглоданном пьедестале. У памятника затормозил милицейский уазик.
– Го-го-го! – захохотала Аля сквозь растрепанные, как у ведьмы, седые космы. – Давненько меня в живодерню не забирали! Го-го-го!!!
У Никиты от этих раскатистых «го-го-го» мороз пошел по коже. Даже привыкшему ко всему Ильичу, казалось, было не по себе. Из машины вышел Алеша, взял Алю за руку и тихо сказал:
– Поехали домой...
– Ах, это ты, мой рыцарь бедный, худой и бледный, – высказалась Аля, нырнула на асфальт и тут же заснула.
Домой беглую Елену везли на милицейской машине. Алеша всю дорогу молча плакал и улыбался сквозь слезы, глядя на расплывчатые пятна фонарей. Очки он где-то потерял, бегая по Подольску в поисках своей своенравной судьбы.