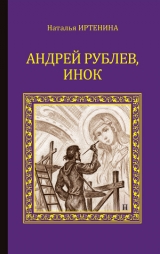
Текст книги "Андрей Рублёв, инок"
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– Так сказали, будто сам Феофан Гречин здесь, – засопел отрок, все еще переживая, – я и хотел поглядеть. Это для вас он знакомец. А я в Новгороде его росписи видел. Помирать буду – не забуду того блистанья, каким его праведники светятся. Будто молниями насквозь пронзены!
– Он давно так не пишет, – сказал Данила, надевая клобук.
– Отчего?
– Отчего, Андрей? – переспросил Данила, обернувшись у двери.
– Феофан к небу вопрошал. А ответа не услыхал. Свеча погасла… Данила!
– Да знаю, знаю, – откликнулся тот из сеней. – Лазорь нужна. Куда ж без нее…
Над монастырем плыл хриплый звон клепала, сзывавший на молитву. От Москвы, накрытой лиловой теменью туч, докатывалось громовое ворчанье.
5.
Гончары в Москве издавна селились у реки, ближе к воде, которой требовало ремесло. Но гончарный конец на посаде не стоял на месте. Росла Москва, раздвигался Великий посад, и гончары с течением времени перемещались все дальше от Кремля. Нынче они занимали местность, звавшуюся Острый угол – между поречьем с купеческими пристанями и краем посада, за церковью Николы Мокрого. Дальше за ними, подпирая посадскую городьбу, селились только кожеделы, распространявшие вокруг такой запах, что жить поблизости никто больше не соглашался.
Ермола Васьков был единственным на Москве, кто держал гончарную мастерскую в самом центре посада. Для купца-сурожанина, грузившего на свои лодьи меха, лен, воск, зендень и шелк, заморскую златокузнь и брони, поливные ордынские изразцы, сорочинское пшено, – гончарное дело было прихотью. В мастерской, пристроенной к дому, стоял всего один круг. Горшков, корчаг, рукомоев, крынок, братин, ковшей и кружек, которые Ермола самолично выделывал на нем, не хватило бы и в хозяйстве одной усадьбы.
– Для утехи верчу, – объяснял он, вращая ногой нижний круг, а на верхнем сминая и вновь вытягивая ком глины. Одет купец был обиходно, в домотканые порты и рубаху с закатанными рукавами, поверх – кожаный передник. Черные волосы перетягивал на лбу гайтан, как у мастеровых. – После раздаю кому ни попадя.
– В чем же утеха? – не понимал Андрей. Сурожанин усадил его на лавку против гончарного круга, чтобы любовался и слушал. – Этак крутить и крутить. Голова закрутится. А горшки-то выходят кривобокие.
С сурожанином он был знаком с тех лет, когда в митрополичьих кремлевских палатах узорил буквицы и писал клейма в книгах. Для Ермолы он выполнил заказ на украшение вкладного престольного Евангелия. С той поры купец приглашал его писать деисусы для церквей, которые строил своим попечением, заказывал иконы, иногда присылал поновить старые, темные образа.
Андрей разглядывал глиняные творения купца. На нижних полках стояли совсем сырые, просыхающие, выше – те, что уже отвердели и ждали череда пойти в печь на обжиг. У стены напротив тесно громоздились готовые, крытые глазурью, заполняя несколько полок. Среди них были и пристойные с виду, расписанные узорами, и простые, неказистые, и совершенные уродцы, невесть для чего годные.
– Не скажи, Андрей. Вертеть круг – это как, знаешь… – Ермола вставил кулак внутрь глиняной болванки и начал истончать стенки, – да вот как мир из праха сотворять! Хочу – творю, хочу – порушу и снова вылеплю. Хоть кривобокие, да мои.
– Бог над горшками. Завидное, наверно, звание среди торговых людей.
– А ты не смейся, – сказал купец, хотя чернец даже не улыбнулся. – Сам-то попробовать не желаешь?.. – Он ровнял и вытягивал стенки сосуда, округлив на его боках ладони. – А впрямь – попробуй, Андрей.
Круг медленно остановился. Купец отнял руки от горшка, обтер ветошью.
– Да не получится у меня.
– Уважь, Андрей! Коли пришел ко мне с просьбой, так и моей просьбой не погребуй.
Иконописец нехотя развязал мантию, оставил ее на лавке и пересел на место Ермолы. Смочив руки водой, утвердил их на стенках горшка. Ногой завращал маховик. Сосуд стал тереться о ладони.
– Сильней прижимай, – советовал из-за плеча купец, – тяни вверх.
Горшок начал кривиться и покрываться вмятинами. Потом и вовсе стал оплывать, вместо того чтоб расти.
– Легче, не жми так! Круг быстрее вращай. Не напрягай ладони. Экие у тебя руки неловкие, как деревянные. И как ты ими лики на иконах пишешь? – горячился сурожанин. – Горшок – он что баба, ласку любит. Оглаживай его, как бабий бок, тогда он пойдет…
Монах остановил круг и смял окривевшую болванку в ком. Сидел, будто закаменев, неподвижно глядя на руки.
– Ты чего, Андрей?!
– Пойду я, Ермола.
– Обиделся, что ли? – недоумевал тот.
Иконник вытер ладони тряпьем, вышагнул из-за гончарного стана, подобрал с лавки мантию.
– Прости ради Бога, – сказал, не поднимая взора.
Купец с досадой сильно ткнул себя кулаком в лоб.
– Зачем я про бабу-то… Бес меня за язык потянул, Андрей, прости! – Он стянул через голову передник, сорвал гайтан, бросил. – Ну их, клятые горшки, пойдем в дом. Расскажешь, для чего тебя митрополит к себе во Владимир зовет. Гонца, говоришь, прислал? Данилу тоже зовет?
– Данилу не зовет. А зачем – не сказано.
Выйдя из гончарной в сени, Ермола распорядился челяди крыть на стол в верхней гостевой горнице. Поданным рушником утер лицо, сменил потную рубаху и вдел руки в короткие рукава долгополой чуги из синего атласа с бархатной отделкой. Выслушал слугу, доложившего, что вернулся татарин Карачайка, просит неотложного разговора с хозяином.
– Пожди, Андрей, в горнице. Не уходи только!
Карачайка был взволнован. Сновал по клети, а увидев купца, заговорил быстро, проглатывая половину слов, тараща черные, как смородина, глаза.
– Погодь, не тараторь, – остановил его сурожанин. – Языком, что помелом, полощешь. В Курмыше у князя Данилы Борисыча был?
– Был, как не был! И князя видал, и темника его, Семена…
– Это какого Семена? Воеводу нижегородского? Карамышева?
– Его, Карамышева, с ним говорил.
– Ну да, ты же с ним одного роду-племени. Его дед таким же послом по хитрым делам был, как ты, только у князя, у буйного Бориса Костянтиныча. Что тебе Семен сказал?
– Ничего! Карачайка сам все узнал! Сам прочитал. Письмо распечаталось… невзначаем. Я не хотел…
– Ври, невзначаем, – охмурел купец. – Случаем да нечаем только голова от тулова отделяется… Что в письме было?
Грамоте Ермола учил Карачайку самолично – пронырливый татарин, умеющий читать и писать, в иных делах полезнее, чем только говорящий и слушающий.
Карачайка сунулся к двери клети, выглянул, убедился, что никого нет. Но вслух все равно говорить не стал. Пошептал купцу на ухо. Отпрянул, будто опасаясь вреда себе от хозяйского кулака за плохую весть.
Ермола сделался белым, как стена, крытая известью.
– Ты сжег письмо? – в ужасе спросил он.
– Зачем? Карачайке никто не говорил жечь. Отдал как ты велел, хозяин. Семену отдал. Он сказал, передаст князю.
– Что твоя дурья башка наделала! – Сурожанин выкатил очи в точности, как татарин в начале разговора, и схватился за волосы. – Лучше б ты не знал ни аза! Лучше б я изорвал о тебя ту Псалтырь, по которой учил читать! Почему тебя не продырявили в дороге дикие черемисы или бродники! Знаешь, что ты сделал, глупая татарская рожа?! Убил меня. Наповал убил! Без ножа зарезал. В своем же доме!..
Уронив голову и не видя ничего вокруг, Ермола похоронным шагом шел по сеням. Мысли были тяжелые, как жернова. Что делать? Послать к митрополиту? Самому ехать? Рассказать – не поверит. Какой-то сурожанин, какое-то письмо. Голословный навет на грека из владычной свиты… Великий князь ускакал в Кострому, смотреть, как рубят на Волге новый град Плесо. Наместник Юрий Щека. К этому тем паче нельзя. Единственный, кто б мог разрешить задачу, – князь Владимир Андреич. Да и тот помер.
А может, ничего, обойдется? Вдруг вспыхнула надежда. Ничего же верного, решенного в письме не было. Только намеки да замыслы. Сговора еще нет, а даст Бог и вовсе не сладится.
Укрепясь этой думой, Ермола поднялся наверх, в горницу, где просил быть иконописца. Но Андрея не оказалось. Ушел, не став ждать ни купца, ни праздного угощенья.
– Живо догнать! – Купец озарился новой мыслью, выбежал в сени и оттуда на гульбище. – Анфим, Прошка! – крикнул во двор. – Андрея-иконника мне верните!
Два отрока, игравшие на дворе в бабки с хозяйскими сыновьями, вывели коней. Без седел поскакали за ворота. Вернулись небыстро – иконописец успел отшагать на две версты, до самых ворот посада. Едва уговорили его повернуть вспять и провожали пешего. Сесть на коня наотрез отказался.
Сурожанин закрылся с чернецом в той же клети, где секретничал с Карачайкой. Долго хлебал из ковша квас. Еще дольше ходил от двери к окну и обратно, опасаясь зачинать разговор.
– Вот что, Андрей. Некстати зовет тебя Фотий во Владимир. Откажись. Не ходи! Если мне веришь – не ходи. Нельзя тебе туда. Никак нельзя.
– Я тебе верю, Ермола.
Серые глаза иконника смотрели из-под клобука безмятежно и сосредоточенно.
– Не пойдешь? – купец перевел дух.
– Пойду. Отчего же нельзя?
Ермола, утомясь от волнения, поместился на лавку, широко расставил ноги в домашних черевиках.
– Не знать бы тебе этого… А может, – купец размышлял, – и к лучшему. Если Фотий тебя призывает – так ты сам скажи ему, чтоб он ехал оттуда. Чем скорей, тем надежней. И ты с ним уезжай Бога ради!
– Темны твои слова, Ермола. – Андрей стал печален и тревожен. – Что-то знаешь, а сказать не хочешь. Совсем как Максим-блаженный.
– А пусть хоть как блаженный! – встрепенулся купец. – У него не спрашивают, почему да отчего, и меня не пытай. Э-э! – сдосадовал он. – Зря я тебя с дороги вернул. Кликушей юродивым пред тобой выставился. Уходи, Андрей. Ступай с Богом. Просьбу твою о лазори самаркандской помню. Ежели мои люди не оплошают – будет она у тебя.
– А я за тебя век молиться стану, – обещал иконник, светлея ликом. – Лазорь, чистота небесная, она ведь не мне нужна…
– Как не тебе? – нахмурился сурожанин. – Кому иному?
– Всем! – убежденно заговорил Андрей. – Князю, и ратным, и людям посадским. И женкам. И смердам. И Алешке-послушнику. И Феофану заскорбевшему. Все на Руси погорельцы. У всех душа обгорелая.
– Женкам и смердам, говоришь, – усмехнулся Ермола. Но заверил твердо: – Достану.
Сурожанин кликнул сенного челядина проводить Андрея. Оставшись один, удрученно завздыхал, тихо, чтоб не услышали, стенал, хлебал квас.
И вдруг изошел громким хохотом. Вспомнил, как учил чернеца оглаживать горшок, будто это бабий жаркий бок.
Оплошал! Ввел в искушение. Но до чего знатная шутка вышла.
Ничего, где грех, там и молитвы. Отмолит.
Андрейка Рублёв о себе не думает. Он обо всех думает, за всех душу томит. Вон как широко хватил – и князей, и смердов. Такой отмолит. И не себя одного.
Только б не захлопнулась владимирская ловушка…
6.
Роща звенела на разные лады: цвикала, трещала, свистела, стрекотала и гудела. Шелестела на ветру. Нагоняла сон.
Ждали, не сходя с коней, вслушиваясь и оглядываясь.
– Семен, а если Щека обманет? Пришлет своих дружинников на нас?
Спрашивавший был молод, с надменностью в узком лице, но в лихо, как у простого ратного, заломленной шапке. То и дело одергивал на себе короткополую свиту, будто не привык к такой одежде, расхристывал ворот рубахи под ней. Жаркий день душил, томил в собственном соку.
– Не обманет, князь. У него своя корысть. А ехать не торопится – так тем честь свою перед тобой кажет. У князя Василия он из набольших бояр.
Второй, по-татарски чернявый, в суконном полукафтанье, был зрелых лет. От низкорослой коренастой фигуры исходила спокойная уверенность, а взгляд казался обманчиво сонным – под полуопущенными веками играли искры огня.
– Что мне его честь. – С досады молодой князь прикусил навершие плетки. – Василий мне ровня, а отцу моему – племянник двоеюродный. Не его боярам пред нами величаться. Изгоним москвитина из Нижнего и Суздаля, еще поглядим, кто кому честь воздавать должен. На владимирское княжение мой отец имеет не меньше права.
– Так-то оно так. Да у Василия серебра больше. Князья из самой Литвы к нему на службу переходят.
– Переходят. А потом обратно бегут, татарвы испугавшись. – Князь плюнул. – Свидригайло литовский с каким звоном на Москве объявился! С прочим княжьем литовским. Василий на радостях ему аж стольный Владимир в прокорм пожаловал. И где тот литвин теперь? От Едигея побежал, пятками коваными сверкал, да московские рубежи с разбегу пограбил… Татарами надо Василия прижимать, вот что! Нынче у него нету сил против ордынцев.
– Пощупаем, князь. И татар, думаю, много не надобно. Сотни три?
– И своих столько же. – На лице молодого появилась сумрачная улыбка. – Не все же серебро московское татарам отдавать. Так, воевода?
Он насторожился, привстал в стременах. Из лесу послышалось фырканье лошадей.
Гибкие ветви кустарника пропустили нескольких конных. Впереди ехали двое оружных, глядевших с опаской. За ними – плотно укрытый плащом владимирский наместник боярин Юрий Щека. Служильцы открыто держались за рукояти сабель на боках, озирались.
– Здравствуй, Иван Данилыч, – с достоинством, покровительственно молвил наместник, выезжая вперед. – И ты, Семен, здрав будь.
Щека сделал знак дворским. Те отъехали, но глаз с нижегородцев не спускали.
– И тебе, Юрий Василич, без убытков жить, – с усмешкой отозвался князь на боярскую спесь.
– Ты ведь, Иван Данилыч, и позвал меня сюда, чтоб обдумать, как нам вместе убытков избежать. Так понимаю?
– Верно понимаешь, боярин, – заговорил воевода Семен Карамышев. – Дума у нас с тобой будет нетяжелая. И трудов от тебя, Юрий Василич, не много потребуется. Езжай себе спокойно по делам из Владимира, душу не томи зря. В вотчину свою какую ни то нагрянь. Либо волостицу иную проведай по княжьей надобности. А мы тут и сами управимся.
– Добро, – сощурясь, молвил наместник. – Людьми моими как распорядитесь? Всех с собой взять не могу.
– Оставь самых надежных. Пускай за митрополитом приглядят, не дадут ему сильно испугаться да убежать куда ни то. А в знак, что тобой оставлены и упреждены, пускай шапки навыворот наденут. Целее будут.
– Добро, – повторил Щека, но на скулах заиграли желваки. – В успенские ризницы и подклети особо загляните.
– А много ли там осталось, чтоб туда заглядывать? – заухмылялся Карамышев.
Вдали прокуковала кукушка. Щека прислушался. Продолжил разговор:
– О том спросите ключаря Патрикея. Этого пса сторожевого еще Киприан-митрополит поставил. А я с ним не подружился. Теперь он на меня Фотию и Акинфию Ослебятеву клевещет. Наказать бы эту вошку примерно.
– Не тревожься, Юрий Василич. Все сделаем, как душа твоя хочет.
– А если князь Василий паче чаяния на тебя, боярин, опалиться вздумает, – добавил Иван, – то мой отец окажет тебе честь. Будешь сидеть среди первых нижегородских бояр.
Щека отвесил ему легчайший поклон.
– Благодарствую, Иван Данилыч. Мне и на Москве хорошо сидится. А в лесной крепостице, боюсь, дела для меня не сыщется.
– Отец вскоре отберет Нижний у Василия! – полыхнул гордой злостью князь. – Ханский ярлык он уже получил.
– Когда отберет, тогда и речь поведем. Да по совести сказать, Иван Данилыч, Нижний теперь – обломок прежнего. Сродники твои сами в пыль разнесли свой стольный город. Сперва дядька твой, Семен Дмитрич, татар навел. А в Едигееву зиму и отец твой, Данила Борисыч, татарского царика Талычу науськал на свою отчину. Не за эту ли службу Едигей вернул Даниле ярлык? Не жалко было кровушки христианской?
– Пока в Нижнем сидят наместники и воеводы Василия, – с яростью процедил Иван, – ни одна московская собака не смеет судить нас за кровопролитие.
Щека, вспыхнув и забагровев, откинул полу плаща, потянул из ножен меч. Князь сжал рукоять своей сабли. Владимирские служильцы изготовились взять вперерез Карамышева. Но тот, стремительно вздыбив коня, вклинился между наместником и Иваном.
– Тише, тише, боярин. Охолони, не дуркуй. Не буди лиха. И ты, довлат, не горячись, – по-татарски назвал он князя, – дело загубишь.
Наместник, поколебавшись, задвинул меч. Иван выдохнул.
– Так-то лучше, – одобрил Семен. – У тебя, Юрий Василич, с собой двое ратных, а у нас десяток в лесу схоронен. Дурное бы дело вышло.
– Да и моих у дороги не меньше.
– Мои люди проверили. – Карамышев растянул рот в щербатой ухмылке. – Слышал кукушку? На дороге никого нет. Побоялся ты, Юрий Василич, много воев с собой брать.
– Черт с вами, – выругался Щека. – Все обговорили, или еще что?
– Твой отъезд, боярин, будет нам знаком, – бросил воевода, разворачивая коня.
Князь Иван молча скрылся в лесу.
– За собаку сочтемся еще, довлат, – сдавленно пообещал Щека. – Отатарился, казанский прихвостень, русской крови ему не жаль. Тьфу!
Роща невозмутимо пела на разные голоса.
…Курмышскую крепость в мордовских лесах Засурья отстроил еще отец нижегородского изгоя Данилы Борисовича. Князь Борис жизнь прожил путаную, нерадостную. Чего-то добивался, чему-то завидовал, спорил со старшим братом, отнимал у него города и волости. Подбивал на раздоры с Москвой. И сам не спешил склоняться ни перед светлым старцем Сергием, радонежским игуменом, посланным Москвой на уговоры, ни перед угрозой церковного отлучения всего Нижнего Новгорода. Только московская ратная сила могла ненадолго смирять его да старость обуздала мятежный дух князя. И кончилось все плохо. Василий московский завладел Нижним, а Бориса свел на меньший суздальский стол, где тот и умер от позора и бессилия.
Данила Борисыч испробовал в своей жизни еще больше позора. Бежав от Васильева притворного добра, готового обернуться пленом, десять лет жил в Орде. Простирался ниц на голой степной земле пред полудюжиной ханов, быстро сменявших один другого, выпрашивал себе княжение на Руси. С Едигеевыми татарами прошелся по своей земле как хозяин – казня и милуя. После чего от Нижнего осталось безнадежное и безлюдное пепелище. Но – свое! Ярлыком от хана заверенное. Однако по-прежнему недоступное. Едва схлынула Едигеева рать, московский князь второпях прислал туда войско с новым наместником. Даниле Борисычу и мелкой деньги не перепало со своей отчины. Поблазнилась на миг удача, да хвостом махнула перед глазами.
Ушел от московских людей в дикое Засурье, засел в Курмыше и стал копить силы. А тут и удача вновь поманила хитрой улыбкой.
– Грамота не подписана. Но татарин, что привез ее, клялся, будто она составлена кем-то из Фотиевых бояр. Прочти, свояк.
Князь Данила разгладил на столе мятый пергаменный свиток. Сидевший напротив него человек придвинул ближе свечу, стал разбирать писанное. Буквы непривычно круглились, цеплялись одна за другую лишними хвостиками и целыми оглоблями.
– Отвык я в Орде от грамоты. – Тот, кого назвали свояком, отринул от себя пергамен. – Зачти ты, Данила Борисыч.
– Долго ль ты в Орде пробыл, свояк, – усмехнулся князь. – А мне только и дела было там, что книги читать. Не то б и говорить по-русски разучился. Письмо явно греком писано. А греки народ словоблудный. Если самую суть брать, то сказано здесь так. – Данила заглянул в харатью. – Княжий наместник во Владимире боярин Щека не станет, мол, возражать против того, чтоб благоверный великий князь нижегородский, суздальский и городецкий Даниил Борисович… расстарался грек, ничего не забыл, – удовлетворенно отметил он. – …Чтоб благоверный великий князь Даниил Борисович взял причитающееся ему со своей отчины серебро и имение с Владимирского города и!.. Слушай, свояк, слушай… И в залог добрых соседских отношений с великим князем московским Василием Дмитриевичем… это с Васькой-то, добрых отношений, – хмыкнул Данила. – В залог, значит, оного взять с собой из города Владимира преосвященного митрополита всея Руси Фотия и держать его у себя в надежном убережении, сколько потребно времени для умягчения великого князя Василия… и для возобновления русской старины, порушенной московскими владетелями… Грек, видать, непростой, ежели знает, как на Руси прежде было. До того, как Москва начала себя первой мнить и чужие отчины под своего князя тянуть.
– Какое дело какому-то греку до русской старины? Не ловушка ли это московская, чтоб тебя выманить?
Человек, разговаривавший с курмышским хозяином, был желчен и мрачен. Его лицо годами свыкалось с выражением уязвленной гордости и жёсткого равнодушия, превратившись почти в личину из холодного металла. Но металл был исщерблен: лоб, кроме морщин, проложенных частым гневом, перечеркивал глубокий давний шрам.
– Не похоже, свояк. – Данила задумчиво сворачивал пергамен. – Не посмели бы московские хитрецы приплетать Фотия. Слыхано ли – митрополита в полон брать. Если б ловушку задумали для меня, не стали б такой опасной приманкой заманивать. Серебром владимирским – да, а владыкой… Да и зачем мне самому голову туда совать? Людей у меня разве нет?
– Так ты возьмешь Фотия?!
Оба собеседника были примерно равных лет, каждому перевалило за полвека. И судьбы казались схожи. У каждого были взрослые сыновья, которым нечего оставить в наследство. А за плечами – изгнание, бесчестье, предательства тех, кого считали верными людьми, плен родни, скитания в Орде, бесприютность… и наконец, проблеск безумной надежды. Высокородная княжеская кровь кипела в обоих. Накипь жестокой обиды давно оседала в душах. Но у курмышского гостя с лицом-личиной кровь была много выше, древнее, чем у правителей Залесской Руси. Эта кровь веками напитывалась мятежным своеволием, нещадным произволом, бесстрастием ко злу, небрежением к милосердию. Став почти черной, она день за днем и год за годом отравляла последнего из рода смоленских князей, потерявшего в конце концов и смоленский стол, и семью, и родовую честь… а за ней и честь собственную.
– Возьму, Юрга, – с холодной улыбкой произнес Данила Борисыч. – От такой выгоды грех отказываться. Если даже Фотиевы церковные греки на моей стороне. Пускай Церковь будет судией в моем споре с Василием.
– Митрополиты сто лет держат сторону Москвы, – усомнился смоленский изгнанник. – За московских князей они и к татарам в заклание пойдут, как Алексий полвека назад. Тот же Алексий тверского князя хитростью в московскую темницу заточил! Не будет тебе пользы от Фотия. Разве самого в темнице истомить для сговорчивости.
– Томить не стану. Но и на волю не пущу, пока добром не склонит Ваську отдать мне Нижний и сам не благословит меня сесть на своей отчине.
– Как благословит, так и анафемой проклянет, едва отпустишь. Да и сколько ждать будешь, пока Фотий сопреет на твоих хлебах.
– А у тебя какая дума, свояк? – потемнел взором Данила.
– Пригрозить Василию, что Фотия татарам продашь, – жестко отмолвил смоленский князь. – После разгрома на Куликове они русских попов как прежде не жалуют, сам ведаешь. Монастыри Едигей жег за милую душу и чернецов в полон набрал. А уж Орда такой выкуп назначит, что Василию всю свою казну придется вытряхнуть, да по сусекам скрести.
Данила Борисыч долго обдумывал его слова, взирая на дальнего родича с опасливым сомнением.
– Что смотришь? – ощерился Юрий Святославич. По-иному улыбаться он давно не умел.
– Смотрю: впрямь ты безумен, свояк, как говорили, или от бед своих думать разучился? Да ежели хоть волос упадет с головы Фотия или хоть пригрожу Василию этим волосом, он мне житья не даст. Не то что Нижнего. Не только митрополиты за Москву стоят, Москва за них глотку перегрызет. Фотием с Васькой торговаться все равно что смерть себе кликать. А я еще жить хочу. И на Руси, как князь, а не в степях, как волк.
– Смерть кликать, говоришь? – глухо переспросил смоленский изгой. Данила отодвинулся подале от стола, увидев, как жесткое лицо Юрия медленно, с натугой перекосилось. Заплясавшее пламя свечи усилило впечатление. – А на мне уже могильная земля лежит. – Пристально глядя, он проскрежетал: – Отдай Фотия мне!
– Выпей меду, свояк, – так же жестко ответил курмышский князь. – Фотия тебе не отдам. И запомни: поперек мне пойдешь, последнее пристанище на Руси потеряешь. В лесах будешь гнить.
Юрий первым отвел взгляд.
– Запомнил.
– Ну и аминь. Спать пойду. – Данила кончил разговор. – Завтра, если хочешь, с Иваном перемолви.
– Он вернулся?
– Вернулся. С Талычой уже сговорили. Знака ждать надо.
Зевая, он ушел. Смоленский князь не двигаясь смотрел, как оплывают остатки свечи в глиняной плошке. Когда пламя, задрожав, стало никнуть, он накрыл его ладонью. Клеть погрузилась во тьму.
– Врешь, Данила, – пробормотал князь. – Это ты в лесах гниешь и мертвечиной кормишься. А мне хоть раз еще свежатины отведать… напоследок.
Он вышел в сени, где тускло мерцали на стенах масляные светильники. Спустился по изогнутой скрипучей лестнице. Отстранил холопа, сунувшегося с немым вопросом. Курмышские хоромы Данилы Борисыча были невелики. В Смоленске такие строили себе небогатые купчишки-лавошники и ремесленники. Юрий сошел с крыльца во двор, постоял, слушая. Направился к длинной низкой халупе, которую звали здесь молодечной. Из открытых узких волоковых окон несся храп с присвистом. Нижегородская дружина – полсотни отроков здесь, еще три сотни по дворам во всем Курмыше. Остальная сила Данилы – татары из Жукотина и Казани, дикая мордва, зимой бегающая на лыжах, а летом пешая. С этим – воевать против Москвы?
Юрий прошелся вдоль молодечной, повернул за угол. Навстречу выступила тень.
– Не спится, Булгак? – тихо спросил князь.
– Заснешь тут, – буркнула тень. – Не привыкши мы под одним кровом с княжьими служильцами спать. Рука сама к засапожнику тянется. Лучше б ты своего Невзора взял, он-то из дружинных. А мне свою рожу для чего светить?
– Заткнись, Булгак, и слушай. С рассветом уходи. Скажешь Головану, что я велел перейти в другое место. Пусть изгоном уводит всех на Клязьму. Всех, кроме баб и холопов.
– На Кля-азьму!.. – Булгак присвистнул. – Далековато, атаман. Чего мы там не видали? То ж владимирские края.
В руке у князя стремительно явился нож. Булгак ощутил на горле острие клинка.
– Исполнять, как велю. Будете ждать меня на Сенежских болотах. Коней запасных возьмите. Невзора завтра отошлешь ко мне. На Сеньгу придете, пусть Голован отправит двух человечков на конях во Владимир. Как начнется в городе тревога, пускай скачут к Золотым воротам. Там меня встретят. Все понял?
– Понял, – просипел Булгак.
Юрий убрал нож.
– Поживиться там будет чем.
Он выглянул из-за угла, обозрел двор. Брехал где-то пес, окликали друг дружку сторожевые. Смоленский князь не прячась пересек дворище и скрылся в доме.
7.
В конце концов митрополит Фотий вынужден был признаться. Если не великому князю, то хотя бы себе: во Владимир он попросту бежал.
За два месяца житья в Москве стольный город Руси поверг владыку в греховное малодушие и уныние. Душа этого народа была темна, непроглядна и противоречива. Русские любили долгие стояния в церквах, величавые крестные ходы, блистанье куполов и деревянное узорочье храмов – и с великим усердием опустошали церковные кладовые в пользу своих хозяйств. В пояс кланялись, спорили меж собой, кому первее быть у владычной длани с крестом и благословеньем, трепетно внимали проповедям – и наговаривали великому князю, нашептывали, что митрополит-де заглядывается на княжью казну, что честное-де имение иных московских бояр ругает ворованным, что поносит-де князя поносными словесами пред своими людьми, и даже приводили на ухо те самые словеса. Вокруг града и даже в градских посадах еще не избыли следы страшного татарского разора, пустыри на месте былых дворов зарастали травой, безлюдье и скудота лезли в глаза повсюду – а на московском приречье весело, озверело сходятся толпа на толпу в кулачных боях и редко не оставляют покалеченных да убитых. Без креста ни к какому делу не приступают – а могут и срамословить, осеняясь знамением. Казнями Иоаннова Апокалипсиса их не проймешь – куда там, тут к своим казням привычные. Притерпелись и во мраке живут будто под солнцем, радуясь, любя свои тесные, сумрачные храмы…
Во Владимире Фотий встретил совсем иную Русь. Какой она была когда-то, до татар. В той Руси было больше света, просторности, искусности. Она была шире, богаче, вольготнее, благодатнее. От той страны и того народа остались чудные белокаменные храмы, похожие на резные ларцы, полные загадок. Золотые врата, еще помнившие свой царьградский прообраз, хотя занесенный сюда не из Константинополя, а из древнего Киева, где собственные Золотые ворота давно стояли печальной руиной. Огромный Успенский собор, показавший свое пятиглавие задолго до того, как лодья причалила к пристани, и продолжавший расти ввысь и вширь, пока Фотий ехал на коне по городу, в древний владимирский кремль.
Осознав, что сей град, хотя и запущен, хранит дух былого, владыка потребовал в сопровождение книжного человека. Такого немедленно нашли – долговязого монаха, знающего греческую речь и старые русские хронографы, кои здесь зовут летописями. Монах водил Фотия вокруг собора Димитрия Солунского, толкуя тайнопись каменной резьбы на стенах: китоврасов, сиринов, алконостов, грифонов, райских дерев. Повез в Боголюбовское село, открывал тайны львов и барсов на гульбище храма Покрова, изумлял секретами древних зодчих. Показывал развалины княжеского дворца и завлекал в лестничную башню, устрашая повестью о зловещем убийстве князя Андрея. В этой истории Фотию краем приоткрылась другая сторона той, прежней Руси. Надменный правитель Андрей, бросавший свои и союзнические полки на Киев и Новгород, сподобившийся чуда от иконы Богоматери, назвавшийся Боголюбским… Этой стороной прежняя Русь смыкалась с нынешней, где злодейство и святость ходили рука об руку, а простодушие было неотличимо от грубого лукавства.
К громаде Успенского храма Фотий подбирался не спеша. Лишь на третий день, осмотрев все прочее, вошел в него. Уже знал, что собор состоит как бы из двух – большого и малого. В наружном, как в коробе, спрятался изначальный храм, возведенный князем Андреем, рассевшийся от древнего пожара и укрепленный новыми стенами. Митрополит обозрел во внешнем поясе собора гробы старых русских князей и церковных владык. Шагнул под срединные своды. Запрокинул голову. И позабыл самого себя.
А вспомнил, когда задеревенела, заныла шея. Подозвал долговязого книгочея. Выплеснул на него изумление:
– Или ты солгал мне, или храм не горел. Он не мог гореть!
– В Батыево нашествие весь город погорел, владыко, – возразил чернец. – На этом самом месте татары огонь развели. На хорах люди прятались, все задохнулись от жара. Стены были местами черны от пламени.
– Черны! А эти фрески? – Фотий употребил латинское слово, которого русский книжник не знал. – Эти росписи?
– Старого письма только малая часть осталась, прочее сгибло в огне. А сие поновление сделано по велению великого князя два лета назад, когда ждали тебя, владыко.
– Поновление! – воскликнул Фотий. – Ты все-таки лжешь мне. В московских храмах нет подобных росписей. У вас так не пишут. И нигде не пишут! Так писали, должно быть, когда на Руси не было всех этих ужасов. Когда еще не обременели грехами и не ведали, аки младенцы сущие, о карающей деснице Господней!








