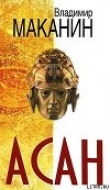Текст книги "Друзья художественного театра"
Автор книги: Наталья Думова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
«…Со смертью милого и незабвенного Саввы Тимофеевича, – писал Станиславский Горькому в июле 1905 года, – материальные условия театра резко изменились к худшему». Для поправки дел решили организовать первую в истории МХТ гастрольную поездку за рубеж, заняв для этого значительную сумму. Намечалось поехать в Берлин, потом в Дрезден, Прагу, Париж.
Спектакли в Берлине проходили с успехом, вызвали восторженный отклик прессы. Однако зал во время представлений был далеко не полон. «Немцы шли в театр очень туго», – вспоминал Немирович – Данченко. Вскоре стало ясно, что спектакли на чужом языке привлечь массового зрителя не могут, как бы ни хвалили их театральные критики.
А расходы театра становились все более разорительными, О том, чтобы отложить деньги на продолжение гастролей, не говоря уж о возвращении долга, нечего было и думать. «Мы истощились материально, – вспоминал Станиславский, – и готовы были возвращаться по шпалам из–за границы».
И вдруг… Москвин и Вишневский передали Немировичу, что о встрече с ним просят два молодых армянина – горячие поклонники Художественного театра. Оба живут в Москве, и, когда стало известно, что МХТ уезжает за границу, решили: «Поедем за ними. Так и будем ездить – куда Художественный театр, туда и мы». Это были Николай Лазаревич Тарасов – выходец из известной в Москве семьи богачей, только что получивший после смерти отца трехмиллионное состояние, и его неразлучный друг Никита Федорович Балиев.
В первый раз к Немировичу в контору Берлинертеатра пришел один Балиев – полноватый, с круглым веселым лицом и плутовским выражением смеющихся глаз. Побеседовали, и, почувствовав приветливое расположение хозяина, гость осторожно заговорил о материальной стороне гастрольной поездки. Видимо, об этом уже заходил разговор с Москвиным и Вишневским, и Тарасов уполномочил своего бойкого друга предложить театру помощь.
Немирович откровенно рассказал гостю о том, что труппе – увы! – предстоит тоскливое возвращение домой раньше времени и без заработанной на уплату долгов суммы.
– А сколько нужно, чтобы театр спокойно продолжал поездку? – спросил Балиев.
– Для того чтобы в случае неудачи не очутиться в скверном положении? Тысяч тридцать.
– А если бы вам их предложили? Тарасов и я?
«Это было так неожиданно, – вспоминал Немирович, – повеяло такой сказкой», что он не сразу ответил:
– На каких условиях?
– Ни на каких.
– В долг, без процентов?
– Да нет, какие там проценты? И не в долг. Потеряете – пропадут, а нет – останутся у вас в деле.
На следующий день Балиев представил Немировичу Тарасова. Двадцатичетырехлетний красавец с матовой кожей и черными бархатными глазами, Николай Лазаревич стоял рядом со своим разговорчивым другом и молча улыбался. Трудно было представить, что именно ему принадлежали деньги, которые с такой беззаботной щедростью предложил театру Балиев. «Когда при встрече с Тарасовым, – вспоминал впоследствии Немирович, – я начал благодарить его, он с деликатным беспокойством не дал мне договорить».
«Около тридцати лет прошью со времени этого свидания… – писал Немирович – Данченко в своих мемуарах, – Художественный театр перешел через все стадии революции, и для него теперь эти два фланирующих богатых москвича – классовые враги, – и все–таки вспоминается то чувство бодрости и жизнерадостности, какое охватило всех нас тогда, в дни молодости Художественного театра».
В отношении материальных возможностей Балиева Немирович ошибался – Никита Федорович никаких капиталов не имел. Когда МХТ вернулся в Москву, Балиев был принят в его труппу и сразу же стал своим человеком на Камергерском.
Деньги, которые Тарасов передал МХТ, остались целы, Незадолго до окончания гастролей в Берлине германский кайзер Вильгельм выразил желание посмотреть «Царя Федора». Весь город запестрел афишами, поперек которых красными буквами было напечатано: «По желанию Его величества». Император приехал с императрицей и наследным принцем. Зал ломился от публики, и все дальнейшие спектакли в Германии стали давать полные сборы. Театр не только смог выплатить долги, но и получил средства для продолжения дела.
После возвращения из поездки руководители МХТ хотели вернуть Тарасову долг, но он категорически отказался. Тогда его выбрали в число пайщиков (паевой взнос составили подаренные театру 30 тысяч) и сделали членом дирекции. «Это было номинально, – вспоминал один из корифеев МХТ Jl. М. Леонидов. – Он был настолько тактичен, что ни во что не вмешивался».
Покойный отец и дядя Тарасова были мультимиллионерами. Свое огромное состояние они нажили на нефти. Старожилы из купцов помнили, как братья Тарасовы, необразованные, провинциалы, наезжали в Москву из родного Екатеринодара в допотопных шубах, чуть ли не с мешками в руках. Потом стали хозяевами роскошного дома поблизости от морозовского особняка – на углу Спиридоновки и Большого Патриаршего переулка. Массивное темно–серое здание, построенное архитектором И. В. Жолтовским, сохранилось до наших дней. По желанию хозяев оно представляло собой копию дворца, возведенного великим Пал– ладио в итальянском городе Виченца.
В семье Тарасовых царил патриархальный дух. строго соблюдались обычаи предков. Об этом рассказал в одном из своих романов ее потомок – французский писатель, известный под псевдонимом Анри Труайя (его родители эмигрировали из России после Октябрьской революции).
И как же далек был от своих старших родственников Николай Тарасов! «Трудно встретить более законченный тип изящного, привлекательного, в меру скромного и в меру дерзкого денди, – писал о нем Немирович. – Вовсе не подделывается под героев Оскара Уайльда, но заставляет вспомнить о них. Вообще не подделывается ни под какой тип, сам по себе: прост, искренен, мягок, нежен, даже нежен, но смел».
Обитал он отдельно от своего семейства – в просторной, хорошо оборудованной квартире, которую снимал в огромном по тем временам доме, облицованном голубовато–зелеными и белыми глазурованными плитками, в фешенебельном районе – на Большой Дмитровке. Свое холостяцкое жилье Тарасов делил с Никитой Балиевым. Когда Балиев устраивал пирушки для приятелей, Николай Лазаревич запирался в своей спальне с томиком Пушкина. «Пушкин – мой самый близкий друг», – как–то заметил он.
Судьба щедро одарила Тарасова. Хозяин нефтеносных земель, член правления «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых», совладелец большого торгового дома в Екатеринодаре, пайщик многих акционерных компаний и предприятий. Красивый, элегантный, необычайно эрудированный, наделенный изысканным вкусом.
Разнообразно и ярко талантливый, Тарасов с одинаковой легкостью писал стихи, сочинял скетчи и пьески, рисовал карикатуры и эскизы костюмов. Свободно владея стихом, Николай Лазаревич, однако, не увлекался оригинальным творчеством. Он предпочитал тонкие поэтические стилизации, подделки под того или иного поэта. Особенно хороши были его блестящие, едко остроумные пародии и шутки.
Так же относился Тарасов и к своему живописному дару. Василию Ивановичу Качалову он подарил написанный маслом этюд «под Коровина» с мастерски подделанной подписью художника. Сын Качалова, В. В. Шверубович, вспоминал, что отец повесил этот этюд в своей гримуборной. Все бывавшие там знатоки и ценители живописи, складывая ладони в трубочки, любовались произведением мастера, ничуть не сомневаясь в его подлинности. Только Александр Бенуа сразу же разгадал подлог.
Николай Лазаревич обладал счастливой способностью быть каждому симпатичным. Но не только поэтому его любили в Художественном театре. Многосторонняя талантливость Тарасова заставляла людей искусства считать его «своим». В нем никогда не видели купца, мецената с повадками хозяина. Да он и не давал для этого повода: держался скромно, всегда в тени своего шумного, общительного друга.
«Он любил те места, где звенел смех, где порхала шутка, – вспоминал театральный критик Н. Е. Эфрос, – но сам лишь едва улыбался и редко ронял слова. Любил ярко освещенные залы, но выбирал в них уголок потемнее. Любил шум споров, но сам всегда был очень скуп на слова».
О застенчивости, замкнутости Тарасова, о каком–то присущем ему – посреди общего, вызываемого им же веселья – сдержанно–печальном ореоле вспоминали все, кто его знал. Эту необычность Тарасова выразил тот же Эфрос: «Феи, стоявшие у его колыбели, забыли положить туда один подарок – способность радоваться жизни… Тарасов носил в себе жажду этой радости – и никогда не мог ее утолить. Он понимал эту радость и не мог ее испытать». Даже когда Николай Лазаревич смеялся, глаза его оставались грустными.
Богатство губило Тарасова тем, что он ничего не должен был делать. Оно рождало в нем, по словам В. В. Шверубовича, комплекс неполноценности: ему мешало отсутствие настоящей профессии, права на самоуважение. Богатство отравляло для него отношения с людьми. Тарасов никому до конца не верил – ни друзьям, ни женщинам. Всегда подозревал, что доброе отношение к нему вызвано лишь одним – его миллионами. Если бы Николай не был так богат, часто говорил любивший Тарасова и друживший с ним Василий Иванович Качалов, он был бы гораздо жизнеспособнее и счастливее.
С именами Тарасова и Балиева связано создание артистического кабаре МХТ «Летучая мышь», пользовавшегося огромной популярностью в Москве. Кабаре выросло из традиционных капустников. С приходом в театр двух друзей этот жанр достиг невиданного раньше совершенства, но подлинный его расцвет связан с «Летучей мышью».
Многие, кто не знал кулис «Летучей мыши», думали, что Тарасов – только ее «золотой мешок». Но он был и ее творцом, «По складу души, строю вкусов, – писал Н. Е. Эфрос, – Н. Л. Тарасову были особенно близки именно «малые искусства», с их недоговоренностью, тесными, сжатыми формами, сосредоточенной силою, сгущенною красочностью и пикантной заостренностью. Ему была близка эта стихия юмора, сарказма, элегической нежности и грусти. Он любил пародию и вздох, пряный намек, застенчивую недосказанность. Эстет, он особенно любил выдержанный стиль, любил игру красок».
Талант Тарасова смог раскрыться в «Летучей мыши» благодаря сплаву с редкостным даром его друга Никиты Балиева. ставшего первым в России конферансье. Этот дар раскрылся не сразу: несколько лет Балиев исполнял маленькие роли в МХТ (например. Хлеба в «Синей птице») и проваливал их одну за другой. Как отмечал заведующий труппой Василий Васильевич Лужский, в этих ролях Балиев обнаружил «полное отсутствие драматического таланта».
Лицо Балиева не поддавалось никакому гриму. Сквозь любой слой белил и румян проступали лукавые глазки–щелочки, круглая хитроватая физиономия. А мимика… Едва взглянув на него, зрители начинали хохотать, независимо от того, что происходило на сцене. Автор очерка о «Летучей мыши» Л. Тихвинская приводит отчаянное письмо Балиева Немировичу – Данченко (1907 год). «Мое лицо – это моя трагедия, – писал артист, достигший в будущем мировой славы. – Идет комедия – говорят, Балиеву нельзя дать, он уложит весь театр, идет драма – тоже. И я начинаю трагически задумываться, за что меня так наказал бог…». Балиев горько сетовал на свое «слишком комическое лицо», на южный акцент ростовского армянина (настоящее его имя было Мкртич Балян). «Что же делать? – спрашивал он Немировича. – Стреляться? В особенности, если любишь театр… Поверьте раз в жизни, дорогой Владимир Иванович, – иначе, ей– богу, ведь мое положение трагическое… Я верю, Владимир Иванович, что в этом году Вы дадите мне роль. Ей–богу, это нужно. Я Вас не осрамлю, дорогой, милый Владимир Иванович!»
Хорошей роли в спектаклях МХТ Балиев так и не получил. Зато счастливо нашел себя в другом амплуа. Оказалось, что этот человек родился гением конферанса. По словам Л. Тихвинской, «он по природе был актер–солист, «единоличник», здесь, на месте, на глазах у публики творящий свой, ни от кого не зависящий, ни с кем не связанный спектакль… Спектакль–импровизацию». Вот эту возможность творить собственный спектакль Балиев и обрел в кабаре «Летучая мышь».
Все началось с того, что вместе с Тарасовым и несколькими друзьями–актерами они решили подыскать и обустроить уютное местечко «для часов досуга и отдыха», для взаимного увеселения и забавы артистов Художественного театра. На средства Тарасова сняли и приспособили для этого подвал в доме Перцова в Курсовом переулке напротив храма Христа–спасителя.
В убранстве стремились придерживаться только одного правила – чтобы все выглядело не так, как в обыденной жизни. Никакой роскоши, просто, но необычно, по–своему. Что–то отдаленно напоминавшее мастерскую художника. Скромность объяснялась не бедностью (Тарасов не скупился на необходимые траты), а соблюдением единого, со вкусом выдержанного стиля.
Стены тесного, слабо освещенного зальчика от пола до потолка были разрисованы сказочными птицами, переплетавшимися в изящном орнаменте. Во всю длину подвальчика тянулся тяжелый некрашеный стол и возле него крепко сколоченные скамьи, на которых – в тесноте, да не в обиде – с трудом умещались хозяева и гости. В правом углу, боком – крохотная сцена с раздвижным занавесом. Она служила как бы продолжением зрительного зала, находившегося с ней в живом общении.
На стенах висели шуточные плакаты и карикатуры на актеров (автором некоторых из них был Тарасов). На видном месте красовался плакат: «Все входящие должны быть знакомы друг с другом». С серого сводчатого потолка свисал символ кабаре – матерчатая летучая мышь.
Торжественно был принят устав «Летучей мыши». Его подписали Книппер. Качалов, Лужский, Москвин, Тарасов, Балиев и другие – всего 25 членов–учредителей. Главное правило – не обижаться. Шутки были остроумные и меткие; тот, над кем шутили, смеялся первым и больше всех. Здесь не было казенной официальности, унылой чопорности, светской благопристойности. Вольный юмор, естественность и непринужденность общения отличали кабаре «художников» (так называли в Москве артистов и сотрудников МХТ).
Впервые «Летучая мышь» распахнула свою узенькую дверь 29 февраля 1908 года – в тот вечер была показана пародия на спектакль МХТ «Синяя птица», премьера которого состоялась всего неделю назад. Тогда же в первый раз прозвучал гимн артистического кабаре:
Кружась летучей мышью
Среди ночных огней,
Узор мы пестрый вышьем
На фоне тусклых дней.
Может быть, этот гимн сочинил Тарасов 7 Ему принадлежали идеи большинства номеров, он был автором многих звучавших со сцены шуток, как правило, очень талантливых. Однако Николай Лазаревич предпочитал держаться в тени.
Главным персонажем «Летучей мыши» с первого же представления стал Никита Балиев. Вот когда пригодилось его свойство вызывать смех одним лишь своим видом! Да и не только оно. «Его неистощимое веселье, – вспоминал Станиславский, – находчивость, остроумие – и в самой сути, и в форме сценической подачи своих шуток, смелость, часто доходившая до дерзости, умение держать аудиторию в своих руках, чувство меры, уменье балансировать на границе дерзкого и веселого, оскорбительного и шутливого, уменье вовремя остановить– с я и дать шутке совсем иное, добродушное направление – все это делало из него интересную артистическую фигуру нового у нас жанра».
Балиев обладал удивительным даром делать публику непосредственным участником происходившего на подмостках, втягивать ее в живой диалог. Уютный, кругленький, живая смесь добродушия и юмора, он был идеальным посредником между актерами и зрителями. Шутки летели со сцены в зал и обратно. Балиев подхватывал реплики, искусно обыгрывал и с блеском на них отвечал. Он не только вел программу, но и выступал с сольными, очень остроумными номерами.
По Москве мгновенно распространился слух об открытии кабаре. Среди околотеатральной публики начался ажиотаж: каждому хотелось повеселиться в перцовском подвальчике. Но туда получали доступ только актеры, художники, писатели; лишь иногда допускались просто друзья театра и его завсегдатаи. Один из них впоследствии писал: «Буро–зеленая карточка с распластанным изображением «летучей мыши» и со словами: «Летучая мышь» разрешает вам тогда– то ее посетить» – стал д предметом зависти, пламенного желания и усерднейших хлопот».
Каждый приглашенный подвергался обряду посвящения в «кабаретьеры». Дежурный член–учредитель водружал на его голову бумажный шутовской колпак (не было ли в этом шутливого намека на таинственные масонские ритуалы?). Тот же посетитель кабаре вспоминал, как раскованно чувствовали и вели себя там: «Лица, которые мы привыкли видеть важными и деловитыми, стонали от спазм неудержимого хохота. Всех охватило какое–то беззаботное безумие смеха: профессор живописи кричал петухом, художественный критик хрюкал свиньей. Такое можно встретить только на кипучем карнавале в Италии или веселой Франции».
Представления в ночном актерском кабачке отличались неповторимым своеобразием. Почти все их программы в первые два года были придуманы Тарасовым. Он изобретал темы номеров, сочинял тексты, подбирал музыку, рисовал эскизы… И все это с редким остроумием и изяществом, артистизмом. Если бы Тарасов прожил дольше и остался в России, утверждал в своих мемуарах В. В. Шверубович, «это был бы интереснейший деятель театра. Кто знает, что еще таилось в его талантливой и умной голове».
Репертуар «Летучей мыши» был очень разнообразен. Шутки, пародии, танцы, пантомимы, комедийные сценки… Их с огромным увлечением и молодым озорством разыгрывали корифеи МХТ. Станиславский в роли фокусника демонстрировал чудеса белой и черной магии: на глазах у публики снимал «с любого желающего» сорочку, не расстегивая ни жилета, ни пиджака. Книппер покоряла зрителей вызывающе–дерзким шармом парижской шансонетной «этуали». Выходил на сцену Москвин, загримированный под «балаганное чудо» – знаменитую в те годы женщину с бородой Юлию Пастрану…
Возможно ли описать театральное действо, бесконечно веселое, легкое, игристое, словно шампанское, если оно происходило много–много лет назад и не только читателю, но и автору ничего подобного никогда не довелось увидеть… Да и читать такое описание – все равно что пить шампанское «вприглядку», не вдыхая его аромата, не чувствуя вкуса. И все–таки нужно бережно собрать сохранившиеся рассказы о «Летучей мыши». Ведь попытка погрузиться в праздничную, дружески–интимную атмосферу «театрика в театре» – единственная возможность заглянуть в творческий мир Тарасова, понять природу его так и не расцветшего в полной мере таланта.
Тарасов обладал богатейшей фантазией, но, как замечал Н. Е. Эфрос, «не то застенчивость, не то какая–то необоримая лень вязали ей крылья при первом взлете, и она упадала, не воспарив. У него рождались счастливые выдумки, но он почти ни одной не довел до осуществления, она ему начинала казаться скучной и пошлой прежде, чем он доводил ее до какого–нибудь воплощения». Однако окружавшие Тарасова друзья–единомышленники с жаром подхватывали его идею, развивали и превращали в «прекрасные перлы маленького искусства».
В то же время влияние Николая Лазаревича на друзей, партнеров по «Летучей мыши» было очень велико. «Его тонкими вкусами, – писал Эфрос, – его чувствами художественного такта умерялись ошибочные увлечения других, удерживались на пути благородства и тонкой изысканности». То же качество ценил в Тарасове Немирович: «Ко всему, на каждом шагу он подходит со вкусом, точно пуще всего боится вульгарности».
В подвальчике Тарасова и Балиева всегда было много театральной молодежи. Станиславский поощрял ее выступления в «Летучей мыши», считая, что танцы, пантомима, вообще эстрада раскрывают темперамент, расковывают движения.
Среди признанных «премьерш» кабаре была Алиса Коонен – впоследствии большая трагическая актриса, а тогда ученица школы МХТ. Она участвовала во многих забавных и веселых номерах: то в комедийной сценке молниеносно преображалась из юной цветочницы в старуху, то в миниатюре «Английские прачки» распевала на мотив популярной британской песенки бессмысленный набор «английских» слов, то в «народном квартете балалаечников» бойко бренчала на балалайке вальс «Ожидание» и «Эх, полным–полна коробочка». Алиса была и прекрасной танцовщицей. Зрители наслаждались, глядя на величественного Немировича, управлявшего (не умея даже держать дирижерскую палочку) маленьким оркестром, под музыку которого в польке или огневой мазурке неслись Алиса Коонен и влюбленный в нее тогда Качалов.
Одно выступление Коонен стало событием. В то время только–только вошел в моду танец апашей. Коонен и актер Георгий Асланов решили подготовить этот почти акробатический танец для «Летучей мыши». Перед премьерой долго репетировали. Как–то во время репетиции в темный зал неслышно вошел композитор Сергей Васильевич Рахманинов и с удовольствием следил за работой танцоров. Каково же было их изумление, когда на следующий день Балиев таинственно сообщил им, что Рахманинов вызвался дирижировать танцем апашей на премьере.
«Зазвучал оркестр. Я вышла на сцену как в бреду, – вспоминала Коонен. – Музыка показалась мне неузнаваемой. Она приобрела совсем новое, трагическое звучание: то замирала в томительном пиано, то обрушивалась на нас зловещим форте, в оркестре звучали инструменты, которых раньше и слышно не было. Музыка подчиняла себе, и наши движения, намеченные на репетиции почти пародийно. невольно наполнялись новым, тоже трагическим содержанием. Невозможно описать триумф этого номера на премьере и наше чувство восторга и благодарности великому музыканту, который одним взмахом своей дирижерской палочки превратил эстрадную безделушку в произведение искусства».
Между Коонен и Тарасовым установились очень добрые отношения. Юную актрису подкупал искренний интерес Николая Лазаревича к ее творческим поискам, планам на будущее. Он приходил на первый или последний акты «Синей птицы» (она играла Ми тиль) и потом обязательно рассказывал ей о своих впечатлениях. Иногда в свободные дни они ездили на любимые им Воробьевы горы, бродили по Нескучному саду и о многом разговаривали. «Внимание, с которым он слушал, – вспоминала Коонен, – было поистине вдохновляющим».
Как–то во время прогулки Тарасов сказал:
– Мне думается, что со временем вы будете играть не только веселых девушек, но и драматические роли с большими сложными переживаниями.
Он оказался провидцем… По инициативе Тарасова и в репертуар «Летучей мыши» иногда вставлялись номера более серьезного свойства, чем непременные пародии и комедийные сценки. Так с большим вкусом была поставлена сделанная им инсценировка стихотворений в прозе Тургенева.
Программа кабаре пополнялась разными путями. После празднования десятилетия со дня основания МХТ в нее были включены фрагменты юбилейного капустника, главными организаторами которого были Тарасов и Балиев.
Гвоздем программы стал «цирковой балаган».
Изображая сеанс модной тогда борьбы, навстречу друг другу выбегали Качалов – грациозный, щупленький французик в трогательных дамских панталонах и актер МХТ В. Ф. Грибунин – дюжий ямщик в рубахе, с засученными портами. Их схватка, с уморительными жестами и приемами борьбы, была пародией на подкупленных борцов и жюри. Оба то и дело норовили сплутовать, но их плутни выдавал по глупости слуга при балагане – И. М. Москвин, старательный дурак вроде рыжего в цирке, который то подымал, то опускал занавес, при этом всегда не вовремя.
Сенсацию произвел и хитроумный технический трюк. В середине вмонтированного в пол сцены вращающегося круга укреплена и движется вместе с ним, будто резво скачет, деревянная лошадь. Слуги в униформе, стоя по краям на неподвижном полу, держат обтянутые бумагой обручи, которые лихо прорывает танцующая на спине лошади «юная наездница» в короткой пышной юбочке – почтенный и респектабельный артист МХТ Г. С. Бурджалов.
И еще один «конный» номер. «Униформисты» в красных ливреях выстроились шпалерами, музыка играла торжественный марш. На сцену вышел Станиславский в цилиндре набекрень, с огромным наклеенным носом и широкой бородой. Картинно раскланявшись с публикой, он эффектно щелкнул бичом над головой (этому искусству Константин Сергеевич учился всю предыдущую неделю в свободное от спектаклей время), и на сцену, хрипя и кося горящим глазом, вылетел дрессированный жеребец – A. JI. Вишневский.
Под конец вся труппа во главе с Книппер, Качаловым, Москвиным, Луж– ским, Грибуниным «выехала» на сцену на игрушечных лошадках, отплясывая развеселую кадриль.
И все это перемежалось колкими репризами Балиева, доводившими публику до исступления. Автор большей части шуток и пародийных номеров наблюдал за ходом капустника из–за кулис. Николай Лазаревич– не гнался за лаврами. Распевая сразу же входившие в моду его песенки из программ «Летучей мыши», со смехом повторяя сочиненные им куплеты и эпиграммы, москвичи обычно не ведали имени автора. Далеко не все знали, что его перу принадлежат популярные в Москве буффонада о Наполеоне и его пропавшем шофере (она продержалась в «Летучей мыши» десять лет!) или меткая пародия на спектакль Малого театра «Мария Стюарт».
Особым успехом пользовались номера на политическую злобу дня. Сбоку сцены был поставлен придуманный Тарасовым громадный бутафорский телефон, который то и дело звонил, Балиев поднимал трубку и в разговоре с невидимым собеседником остроумно комментировал актуальные новости. Один из таких номеров (в подготовке которого тоже участвовал Тарасов) был навеян происходившими тогда выборами председателя III Государственной думы. Главным претендентом был Александр Иванович Гучков. Москва жадно ждала известий из столицы.
И вот на сцене звонил телефон. Балиев подносил к уху огромную трубку: «Откуда говорят? Из Петербурга? Из Государственной думы?».
Вдруг фигура Балиева приобретала явный оттенок подобострастия. Он отвешивал поклоны персоне «на проводе»: «Здравствуйте! Очень счастлив… Спасибо, что позвонили». Затем, после паузы, Балиев вежливо, но решительно говорил: «Нет!»
Заинтересованный зал, затаив дыхание, следил за разговором. Балиев все нервнее, все энергичнее отнекивался, отрицательно вертел головой, отмахивался руками… И в конце концов, решившись, резко и твердо обрывал разговор:
– Извините, не могу, никак не могу…
С раздражением вешал трубку и, быстрыми шагами направляясь за кулисы, на ходу недовольным голосом бросал в публику:
– Гучков спрашивает, не нужен ли на нашем капустнике председатель.
Зал взрывался хохотом…
«Летучая мышь» дарила людям театра радость, скрашивала и оживляла актерские будни с их изматывающими репетициями, высоким нервным напряжением спектаклей, завистью и соперничеством, сомнениями в собственном таланте, страхом скорого увядания, старения, утраты артистической формы. Поздние вечера в кабаре были для хозяев и гостей «праздником души».
Тарасов всегда казался немного чужим на этом празднике. Изящный, с цветком в петлице, он обычно сидел за столом в зале, неизменно на одном и том же месте. И всегда грустный. «Что старательно скрывалось изысканною оболочкою дендизма, под слегка пренебрежительною, точно деланно усталою улыбкою? – писал о нем Эфрос. – А крылась тоска, большая, глубокая, непобедимая, крылось глубокое разочарование… И этим Тарасов был типичен для многих».
После представления Николай Лазаревич терпеливо ждал, пока из–за кулис, разгримировавшись и переодевшись, выбежит разгоряченный Балиев. Вдвоем они шли домой по ночным московским бульварам. Один не умолкал Ни на минуту, переживая удачи и промахи сегодняшнего представления. Другой молча слушал. Эти двое неразлучных чем–то напоминали – не по внешности, а по темпераменту – Арлекина и Пьеро: подвижный, энергичный, полный жизни Балиев и глубокий меланхолик Тарасов. Они шагали по дорожкам бульваров, вдыхая запах снега, а за оградой медленно катил с притушенными фарами сопровождавший их огромный тарасовский автомобиль…
Слава «Летучей мыши» росла, тем или иным путем туда просачивалось все больше посетителей, и через два года после открытия кабаре в нем уже бывала вся театральная Москва. Здесь всегда было интересно, шумно, весело. Номера программы и остроты конферансье постоянно обновлялись, и тут большая заслуга по–прежнему принадлежала Тарасову. В 1910 году он участвовал в подготовке нового капустника Художественного театра. Об этом капустнике Станиславский писал Айседоре Дункан: «…Наш театр готовил грандиозный вечер с множеством всяких актерских шуток, примерно пятьдесят номеров. Показывали пародию на «Прекрасную Елену», где главную роль играла Книппер; были и другие пародии: на кафешантан, на глупый балет, на цирк… Представление продолжалось всю ночь – до девяти часов утра». Работа над капустником отняла у Тарасова и его друзей много сил: в те дни он буквально дневал и ночевал в театре. Всегда был рад выполнить любую просьбу «художников».
Николай Лазаревич даже породнился с Художественным театром. Его старшая сестра вышла замуж за одного из актеров – Николая Афанасьевича Подгорного. Ольга Лазаревна прочно вошла в актерскую семью МХТ. Ее любили, считали добрым, отзывчивым человеком.
В 1910 году оборвалась жизнь Тарасова. История его последних дней еще более загадочна, чем самоубийство Саввы Тимофеевича Морозова. Существовала женщина, которую он. видимо, любил, с которой был близок, – красавица, дочь одного из богатейших московских купцов Ясюнинского и жена совладельца крупного торгового дома «Н. Ф, Грибов и К°». Не порывая с Тарасовым, Ольга Грибова страстно увлеклась другом своего мужа Н. М. Журавлевым. Он был совсем еще молод, лишь за два года до знакомства с ней окончил гимназию. Рассказывали, что, запутавшись в финансовых аферах, Журавлев потребовал у влюбленной в него женщины денег, угрожая, что покончит с собой, если она их не добудет. Грибова бросилась к Тарасову, но тот отказался помочь сопернику.
29 октября 1910 года Журавлев покончил с собой. На исходе следующего дня стреляла в себя Грибова. Ее отвезли в больницу.
В тот вечер Тарасов был в Художественном театре. Вернувшись домой, долго не ложился спать, ждал телефонного звонка. Звонил в редакции газет, тревожно осведомлялся, есть ли известия о состоянии Грибовой. В семь утра приказал принести газеты. В одной из них увидел траурное объявление.
«Рано утром меня разбудил телефонный звонок, – вспоминала Коонен. – Ольга Лазаревна каким–то странным, чужим голосом попросила меня сейчас же приехать на квартиру к Тарасову. Предчувствуя что–то страшное, я помчалась на Дмитровку. Дверь была открыта, и я прямо прошла в комнату Николая Лазаревича. Он лежал на тахте в костюме, тщательной одетый. Лицо было спокойное, чуть розовое, можно было подумать, что он спит, на виске запеклась одна– единственная капелька крови. На полу рядом с тахтой лежал маленький револьвер… Уткнувшись мне в плечо, глухо рыдала Ольга Лазаревна».