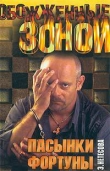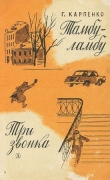Текст книги "Три дня, три звонка"
Автор книги: Наталья Давыдова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Давыдова Наталья
Три дня, три звонка
Наталья Давыдова
Три дня, три звонка
С некоторых пор я езжу в Ленинград в одно учреждение, с которым связана по работе. А живу в Москве.
Останавливаюсь в гостинице, учреждение имеет бронь.
В Ленинграде я родилась и выросла.
Гостиница – странная штука. По утрам в гостиничной жизни есть что-то бодрящее, как кефир, который пьют отдохнувшие за ночь командированные. Но по вечерам все иначе.
То был вечер, к тому же субботний. Из коридора доносилось бряканье посуды, веселье, рождаемое телевизорами. Звучали возбужденные голоса тех, кто как умел справлялся со своей субботней неприкаянностью.
Я сидела за письменным столом у телефона, раскрыв записную книжку на букву "Л". В какую-то из командировок я купила ее, похожую на кусочек мыла, и заполнила особым способом, по городам. Это решительно негодная и неудобная система, если жизнь твоя записывается вся целиком на буквы "Л" и "М". Алфавитный порядок пришлось смять и заползти на другие буквы.
Такая естественная и простая вещь – позвонить и сказать:
– Угадай, кто говорит?
А я медлила.
У многих в жизни бывает уход. Я тоже уходила, уезжала, убегала, меняла местожительства, профессию, друзей, ни у кого ничего не спрашивала, ни с кем не советовалась. Надо было уйти – я ушла. Все сделала по-своему, все забыла, что смогла, не заметила, как пролетело десять лет, потом еще десять...
А потом захотела вернуться... Улица моя ленинградская меня приняла. Другие улицы, сады и площади тоже, приласкав уже тем, что не изменились. Родственники, обиженные мною, приняли, забыли обиды. Однако родственники добры, а улицы равнодушны. Но в этом городе когда-то у меня были друзья...
Я набирала номер, про который только думала, что его забыла. Он был занят сейчас, как и тогда. Наконец я услышала родной голос, – на букву "Л" все родное, и смех, и никакого удивления, как будто моего звонка ждали если не последние десять лет, то последние два часа.
– Дуреха, дуреха, феноменальная дуреха... – сказала Лариса. – Раньше не могла позвонить, свинюшка. Ты откуда? Ты же... ты... за тридевять земель...
А голос был по-прежнему чудесный. Этим чудесным голосом она теперь читает лекции студентам в аудиториях, где нам читали лекции другие голоса. Почему я раньше не позвонила? Простой вопрос, ответа на него нет.
Я попыталась шутить, мне это обычно не удается.
– Ты толстая или худая? – наконец услыхала я вопрос, на который могла дать толковый, обстоятельный ответ.
– Средняя, – сообщила я, – а была как бочка. Удалось сбросить пятнадцать кэгэ.
– Без ущерба для красоты и здоровья? – спросил чудесный смеющийся голос.
Но я была недоступна юмору.
– Потом я опять прибавила, и в конечном счете... Слушай, а когда мы увидимся? – сказала я, а сама подумала: "И увидимся ли вообще?"
– Сейчас я иду на день рождения знаешь к кому? К Надюше Журавлевой.
Что-то черноглазое, веселое было связано с этим именем, но и какие-то неурядицы, неустроенность, и что-то еще важное, но что, я не помнила.
– Она теперь живет на краю света, в новом районе. Я одеваюсь, сообщила Лариса.
И я увидела, как она готовится к вечеру, наряжается. Она не была франтихой, но, подобно мужчине, умела в праздник выглядеть особенно торжественно. Понимала праздникам цену. Я увидела, как она стоит перед зеркалом, хмурится и скоро станет такой, которую хочется выбирать в президиум.
– Надюша Журавлева, какая она теперь? – медленно, все еще на ощупь, спросила я.
– Замечательная, как всегда, – ответили мне, как будто закрыли дверь.
Все правильно, я заслужила.
– Когда ты уезжаешь? – спросила Лариса.
Чуть заметная скука скользнула в вопросе, чуть заметное нетерпение. Или мне показалось? Я уезжала послезавтра, в понедельник, когда подпишу документы.
– Завтра? Нет. Я обещала Надюше навестить ее брата...
Вот то, что я забыла в жизни веселой Надюши, – у нее был любимый больной брат, он по-прежнему жив, по-прежнему болен. Все живы...
– А хочешь так? Надюша живет в новом районе. У меня заказано такси, я за тобой заеду, мы по дороге поболтаем, туда ехать почти час. Обратно вернешься на этой же машине. Заодно посмотришь новый район.
Всегда она умела так говорить, каждая фраза несла информацию или мысль. Не то что у других: много слов, а мысль одинокая, едва различимая.
Однако мотаться в такси мне не захотелось. Мы договорились на понедельник на семь вечера.
Я осталась в своем номере, а она поехала, с каждым километром долгой дороги становясь все торжественнее. Я представляла себе это так ясно, как будто все-таки села в то такси. А на последнем километре она умела по-спортивному выложиться до конца и войти весело, как ленточку рвануть грудью. Так она, наверно, теперь входила в аудитории, где ее ждали студенты. Так сегодня войдет в комнату, где уже собрались гости.
Чего я, собственно, желала? Чтобы она к Надюше не ехала или чтобы меня позвала с собой? "У меня сюрприз", – сказала бы, улыбаясь, хозяйке. И та бы улыбнулась в ответ. А я бы работала сюрпризом. Глупость, Но не исключено, что я этого хотела. Если судить по обиде, которую ощущала и которая не проходила, не уходила и хотела со мной поговорить.
– Ну чего ты радио-то ломаешь? – сказала моя Обида. – Радио не виновато, оставь его в покое, ты от него ничего не добьешься. Жизнь идет и не останавливается по требованию, как автобус. Не остановятся именины, не остановится суббота, чтобы тебя подобрать. Тебя подбирай, а потом ты опять захочешь выскочить на ходу. Ты ненадежна, ты...
– Кто старое помянет... и притом это мой родной город, – заметила я.
– Ну и что?
– Суббота...
– Привязалась к субботе.
Какая-то зловредность почувствовалась мне и не понравилась. Я эту Обиду отметаю, прогоняю, разговаривать с ней не хочу.
Но разговаривать больше было не с кем. Никого тут не было, только Обида сидела, как барыня, в красном поролоновом кресле, развалясь, и единственный способ покончить с нею было набрать еще один телефонный номер.
Анечка меня не узнала и я ее тоже. Но потом я стала ее голос узнавать. И не столько голос, сколько знаки препинания, которые она всегда как-то удивительно вставляла в свою речь. И сейчас, по прошествии стольких лет, многоточия, восклицательные знаки, точки с запятой и тире хозяйничали в ее речи, как хотели.
– Ты? Ты! Ты... вот уж поистине неожиданно... Неожиданно? Да? говорила Анечка. – Даже не знаю, что сказать. Я очень рада! Не ждала... Сколько времени прошло... Странно даже, что ты? Вдруг? Позвонила? Неожиданно? – В этом месте она тоже воткнула вопросительный знак. Неожиданно... – Тут она поставила многоточие на четверть минуты. – Не знаю, о чем спрашивать, что рассказывать. Что тебя интересует?.. Мы взрослые. Может быть, мы даже старые? Хотя ты, конечно, скажешь, что нет. Другие... У меня сын и дочь!
В полном беспорядке раскидала она знаки препинания и замолчала.
– У меня сын, – сообщила я и посмотрела на кресло, Обида сидела и внимательно слушала.
– Как себя чувствует твоя мамочка? Я ее видела несколько лет назад, когда она еще жила в Ленинграде. Как она в Москве? Привыкла? – спросила Анечка.
– Не надо было уезжать. Это была ошибка.
– Наверно... Я тоже так думаю. Корни? – сказала Анечка.
Я спросила:
– Как ты?
– Хорошо. Врач-эпидемиолог. Работаю в институте. Защитилась.
– А муж?
– Защитился. Доктор.
– Наук? Чего он доктор?
– Доктор всего, – засмеялась Анечка.
Все кандидаты, все доктора, с гордостью подумала я, как будто это была моя заслуга, я их так воспитала.
Анечка молчала. Я слышала, как она там возится со знаками препинания.
– Ты меня извини. Я вот о чем" подумала. Может быть, я могу быть тебе чем-нибудь полезна? – наконец выжала она из себя, и в этой фразе все знаки препинания были расставлены правильно.
Я ответила:
– Может быть.
– Пожалуйста, скажи, – попросила Анечка, заведя разговор в такой тупик, из которого было не выбраться. Обида кошкой рванулась ко мне с кресла. "Ладно, ладно", – сказала я и кинула ее обратно.
Я не звонила Анечке сто лет. Она была вправе решить, что мне чего-то надо. Но чего? Выведать, как эпидемиологи предотвращают эпидемии? Но я лишь минуту назад узнала, что она эпидемиолог. И притом у меня в Москве есть знакомые эпидемиологи, уж в крайнем случае они могут рассказать, как там и что. Может быть, она решила, что я к ней за воспоминаниями? Но я никому не собиралась предлагать погружаться в прошлое, как под воду без маски. У всех дела еще были на поверхности, у меня тоже.
– Чего молчишь? – спросила Анечка, стукнула трубкой, и оттуда посыпались звуки субботнего веселья, музыка, голоса.
Я поняла, что надо отпустить ее. Но Анечка тоже что-то поняла, даром что телефон работает на слабых токах. Слабые, слабые, не такие они и слабые.
– Вот что, послушай, – сказала Анечка четко и засадила точку. Приезжай. У нас неожиданно гости. К дочке сейчас придет орава чешских студентов. Будут и наши чешские коллеги. Я накрываю на стол. Понятия не имею, чем буду их кормить.
– Сколько будет всего чехов?
– Шесть, семь, восемь...
– Мало, – сказала я.
Юна засмеялась.
– Вас понял. Если все это не слишком поздно кончится, я не буду мыть посуду, а приеду к тебе в гостиницу.
Так завершился второй звонок, и я, не оглядываясь на кресло, чтобы не видеть сверкающие зеленые глаза подруги моей Обиды, набрала третий номер. Три попытки даются каждому, и было еще не поздно. Чешские студенты еще не пришли к Анечкиной дочери, коллеги еще любовались набережными и мостами, такси с Ларисой еще пробиралось по дорогам и пустырям.
– Угадай, кто говорит, – предложила я.
Он угадал.
– Спасибо тебе, что позвонила. Я очень тронут. Благодарен тебе за звонок.
Чарующая вежливость старинного, немного книжного образца отличала его и раньше, и слабые токи телефона принесли ее в номер откуда-то с Петроградской, как тоненькую мелодию, слышанную давно, возможно, вместе с ним в зале филармонии.
– Ты бы не мог приехать? Прошлись бы по Невскому, подышали.
– Понимаешь, какая глупость, я стою в комбинезоне, заляпан мелом, чудовищно небрит. У меня ремонт.
– Сам, что ли, делаешь?
– Может быть, и не сам, но...
– Понимаю. Твое присутствие необходимо.
– Сформулировано по обыкновению точно. Времени, видишь ли, мало. Всего два дня.
– А потом что?
– Понедельник.
Его понедельники были заполнены работой до отказа, когда он был еще лейтенантом. А теперь он полковник, какие же теперь у него понедельники? Я представила себе, как он двигает тяжелые предметы, он мастер их двигать, как он мажет, красит, белит, увлекая своим примером неторопливых маляров.
– Куда ты пропал? – спросила я с нежностью.
– Думаю. Знаешь, я приеду. Только побреюсь.
Но я сказала, что уезжаю сию минуту, что я пошутила, но скоро приеду опять, и тогда мы обязательно встретимся.
В понедельник я закончила дела, сложила подписанные бумаги, всех заверила, что столичные коллеги со сроками не подведут (не подводили раньше), со всеми попрощалась.
Приготовила для встречи с Ларисой последние до поезда четыре часа. Четыре часа – как четыре стены и белый потолок над ними.
В семь позвонила. Женский голос ответил, что Лариса Федоровна еще не пришла с работы. Через полчаса тот же голос повторил те же слова, которые отличались от семичасовых тем, что были неправдой.
Человеку надо умыться и поесть после рабочего дня, и я позвонила позднее. Трубку взяла Лариса, и я сразу поняла, что она без сил, сидит в кресле, курит, истратив за день все свои запасы торжественности и шутливости. Даже голос ее прекрасный кончился. Она шептала таинственным бронхитным шепотом:
– Это чепуха, чепуха, к вечеру это у меня часто бывает. Чепуха. Было бы странно, если бы не было. С восьми часов лекции плюс практические занятия. Если бы меня спросили, как я представляю себе счастье, я бы ответила, что счастье – это молчание. А сейчас еще явится дипломник, милый мальчик с неразбуженным интеллектом.
Достаточно было прикоснуться к полузабытому слову "дипломник", и я представила себе, как он входит, неся под мышкой в аккуратной папке свое будущее. Мои четыре часа, теперь уже три, уйдут на дело высшего образования.
– Вот он звонит. Прошу, – это ему, розовощекому лодырю, хриплым, но радостным голосом. – Видишь, он уже тут, – это больным, иссякающим шепотом мне. – Ничего не попишешь. Давай свои московские координаты. Буду в Москве, обязательно позвоню.
"Обязательно позвоню" переводится "не позвоню".
Обида моя тут же явилась, и была она сегодня не нахальная, а серьезная, грустная.
– Не устраивай, пожалуйста, трагедий, – сказала я ей. – Постарайся без нервов, будь умной. У всех своя жизнь, своя работа. У меня тоже, не приставай, уйди, уйди.
Так окончились три дня. Три звонка...
Перед самым уходом из гостиницы я позвонила Гале, она была единственным человеком, которого удалось не потерять. Моей заслуги в том не было, я бы и ее потеряла, но она не потерялась.
Я просила ее не приезжать на вокзал, не провожать.
– Какой вагон? – спросила Галя.
И вскоре возникла у поезда с веником багульника, цветущего слабыми крепдешиновыми цветочками.
Галино широкое лицо сельской учительницы-красавицы в очках мелькнуло последний раз в окне, поезд легко взял с места и покатил легко. Шестьсот километров – это совсем немного, если знать, что и предстоят шестьсот.
Поезд шел, даря пассажирам ночь, передышку, состояние невесомости. Даря возможность о чем-то подумать, что-то понять. Поезд шел и соединял разбросанные части воедино.
В купе багульник стал пахнуть малиной, сосной, кувшинками, корюшкой, дождем, морем.