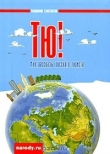Текст книги "Бедный Бобик"
Автор книги: Наталия Терентьева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Священник сказал, обратившись к своей жене:
– У нее, вот у этой ангелицы, совершенно невероятное меццо-сопрано, а она себя не ценит. Знаешь, я сейчас, конечно, не божеский совет тебе дам, мирской, суетный, но не хорони ты талант свой, дочь моя. Тебе надо петь на сцене – дело очень грешное, но… Господь не забывает своих грешников, особенно раскаявшихся…
Алена встала.
– Я пойду, отец Григорий, спасибо.
Татьяна всплеснула руками:
– Да что ты? Батюшка, идемте за стол, пожалуйста.
Отец Григорий, внимательно взглянув на Алену, подошел и положил ей руку на голову:
– Бог милостив к нам.
Алена, осторожно освободившись, постаралась улыбнуться:
– Я пойду.
– Господь с тобой, – мягко ответил отец Григорий. – Я провожу. И вспомни мои слова: как только ты от Дениса откажешься, так и страхи твои все пройдут. Бесы попрячутся…
– Вы тоже думаете, что это бесы, да, отец Григорий?
Священник ничего не ответил, лишь неторопливо, размашисто перекрестил Алену.
* * *
Денис сидел в плетеном кресле на просторной террасе своего номера, положив ноги на кофейный столик, и в сотый раз набирал номер Лоры, тот, по которому он звонил первый раз. Сердитому мужику, которому, по-видимому, везде жилось несладко – и в ненавистной России, и в вожделенной Земле обетованной, – Денис тоже еще пару раз позвонил, но, слыша все тот же яростный вопль «Шалом!», оставил попытки здесь найти Лору. Первый же абонент не отвечал, или же телефон был отключен, и Денис вновь и вновь слушал вежливо-равнодушное «Абонент временно заблокирован».
– Да что за бред такой… – Он отбросил мобильный на соседнее кресло.
Глотнув мгновенно теплеющего на балконе пива, Денис опять взял телефон, набрал оба номера Алены, и городской, и мобильный, и здесь тоже послушал длинные гудки. Чуть поколебавшись, он ткнул в записной книжке телефона номер Киры.
Кира только-только начала занятие. Студенты с громким смехом обсуждали новую работу неисчерпаемого Федосеева, умудрявшегося за семестр попробовать себя в разных стилях и жанрах, с необыкновенной фантазией исполняя обычные «академические» задания. Сейчас он внимательно слушал, грызя большую кисточку, которую в задумчивости взял со стола возле себя. Его разноцветные волосы в этот раз были аккуратно причесаны и стянуты в короткий хвостик.
– Козлизм! Это просто козлизм! И что это такое – жилище киборгов? – Долговязый студент, чуть склонившись, обходил кругом большую легкую конструкцию, в которой предметы, составлявшие композицию, менялись от ракурса, с которого на них смотреть.
– Ты идиот, что ли, Кузякин? – не выдержал молчавший до сих пор Федосеев. – Мультиков насмотрелся? Какие киборги?! Это аллегория! – Он с недоумением посмотрел на кисточку, деревянная ручка которой только что хрустнула под его зубами, и отложил ее на подоконник.
Симпатичная студентка с выбритыми височками и пушистой розовой челкой засмеялась:
– Аллегория чего? Как это называется у тебя? «Композиция номер пять»?
– Почему? Ну, допустим… «Весеннее настроение… гм… одного студента»…
– А-а… ну тогда ясно… – улыбнулась девушка.
– Ну а вот это, в центре, что висит? – никак не успокаивался долговязый. – Ерунда какая-то, с веревочками?
Федосеев вздохнул и терпеливо ответил:
– Это пузырек с… – Федосеев разлохматил волосы и с сомнением посмотрел на заранее смеющуюся Киру. – Ну в общем… с генетическим материалом…
Студенты захохотали, а долговязый Кузякин договорил за него:
– Со спермой!
Кира, нахмурившись, покачала головой.
– Нет! – запротестовал Федосеев. – Зачем так тупо все объяснять! Это… Ну как бы первоисточник жизни, понимаете! И пузырек мифический! Кира Анатольна! – объяснял Федосеев под общий смех. – Это в переносном смысле! И вовсе не обязательно медицинскими терминами все называть! Если все упрощать, то поэзии никакой вообще не будет! Оттуда идут линии жизни, видите? Во все стороны…
– В этом есть поэзия, да, Федосеев, ты уверен?
– Есть! – вскинул голову Федосеев. – Вообще когда начинаешь объяснять, что ты задумывал, то получается хрень.
– Значит, хрень задумывал, – вздохнула Кира.
– А почему пузырек-то, а не ведро, к примеру? – все не успокаивалась студентка с розовой челкой.
– Так это за один раз, а не за всю жизнь… Ну так как-то…
Федосеев махнул рукой, потому что в хохоте уже ничего нельзя было разобрать. Кира только пожимала плечами, тем не менее внимательно рассматривая конструкцию.
– Что, больше не о чем говорить? Или у вас тема продолжения жизни сейчас самая актуальная? Так можно было опоэтизировать как-то, что ж так в лоб-то, а, Федосеев? Это ты отдельно телеграмму шли зрителям, которые на твою выставку придут, чтобы понятно было! А надо, чтобы искусство в душу проникало. Без лишних слов и объяснений. При чем тут… генетический материал…
– Телеграмм больше в Европе нет! – живо заметил Кузякин.
– Давайте вообще во всем на Европу равняться. И так вы… С потерянным национальным самосознанием…
– Я расстроил вас, Кира Анатольна? – огорченно спросил Федосеев.
– Нет, обрадовал, наверное! Расстроил, Федосеев, расстроил! Примитивностью мысли и черствостью души расстроил! Не для того тебя добирали, как гения, чтобы ты нам медицинскую энциклопедию иллюстрировал, понимаешь?
– Так и я говорю, – попытался защищаться юноша. – Как трактовать… Если без медицинских терминов, то это любовь, а если…
Кира махнула на него рукой:
– Молчи лучше! Неудачно, и точка. В следующий раз найди другой язык, для того чтобы рассказать о движениях своей души. Хорошо?
– Хорошо.
– Договорились? – Кира посмотрела на всех. – Слюну, пот и прочие физиологические подробности организма в этом семестре не беремся больше воспевать, ага?
– Ага… – ответила за всех студентка с розовой челкой. – Это вы Федосееву скажите, у него фонтан незакрывающийся.
– А с чего это Федосеев – гений? – вступил Кузякин. – У него просто энергии много, руки неспокойные, все время нужно ими шевелить, что-то делать, все равно что…
– Остынь, Кузякин! – отмахнулась и от него Кира. – У тебя пафос один – как бы Федосеева не объявили талантливее, чем тебя, на это все творческие силы уходят.
Она не сразу услышала телефонный звонок.
– Кира Анатольна, нас атакуют! – Федосеев протянул трубку радиотелефона, вопросительно глядя на нее, потому что иногда она отключала телефон на время семинаров со студентами.
Сейчас она кивнула и взяла трубку.
– Цыц! – строго посмотрела Кира на хохочущих студентов и энергично ответила звонившему: – Да! Да, слушаю вас… Секунду, извините, ничего не слышу. – Она велела студентам: – Не орите так! – и пошла в дальний угол большой студии, негромко и укоризненно заметив Федосееву, на ходу: – Пузырек… мифический… Ты долго думал-то, художник?
– Долго! – обиженно сказал Федосеев. – Сами говорили, что художнику нельзя отрезать крылья, а то вдруг они больше не отрастут…
– Отрастут, у тебя отрастут, – успокоила его Кира и отвернулась с трубкой. – Да, слушаю!
– Кира Анатольевна…
– Я! – Она выпрямилась, услышав голос Дениса, который узнала бы из сотни.
– Это Денис… Добрый день…
Кира набрала побольше воздуха и ответила, стараясь сдерживаться:
– День очень добрый, Денис. Послушайте меня… Если бы был жив Аленин отец, мой муж, он бы вам башку открутил и к другому месту ее приделал. Сказать к какому?
– Я понял.
– Девочку беременную обижать – большого ума не надо. А не хотели ребенка – значит, раньше надо было думать! А так – паскудство получается, вам не кажется?
– Ммм… – Денис мучительно выдохнул. – Спасибо, Кира Анатольевна.
– Приходите еще! Да, и имейте в виду! Мне Аленка ни слова единого про вас не сказала. Я сама все вижу – что она одна, что вас нет, а девчонка моя все время плачет. И еще вас защищает.
Кира услышала «До свидания!» и короткие гудки. Она лишь покачала головой.
– И за что нам это?
Федосеев, так и стоявший неподалеку, вопросительно взглянул на Киру.
– Помощь нужна? Может, морду кому набить?
– Может, и набить. – Кира задумчиво постучала трубкой по плечу Федосеева. – Нормально причешись, хорошо? Ты же очень симпатичный мальчик. Срежь, пожалуйста, все цветные клочья, ты обещал.
– И дреды не вплетать, да? – уточнил Федосеев.
– Не вплетать. В брови ничего себе не вкалывать, в язык там… куда вы еще себе шарики и железки понатыкиваете. И татуировки не делать.
– О! – сказал радостно Федосеев. – Я знаю, что я сделаю к следующему занятию…
– Что?
– Воплощение всех ваших… ну вот то, что вам не нравится… Человека такого, разрисованного, утыканного…
– У нас вообще-то тема другая, Федосеев, – вздохнула Кира. – Но тебе можно. Твори. Только штаны на него не забудь надеть, хорошо? И чтобы без пузырьков там всяких, договорились? Побольше эстетики и философии, а физиологии поменьше, ага?
Денис, первым нажавший отбой, дул на вспотевшую ладонь.
– Ага. Ну, значит, все в порядке. Девочка плачет, мамаша ушат помоев мне на голову выливает… А тетя Лора… очевидно… ведет пока осадную войну – отрабатывает аванс… И за каким-то непонятным хреном выключила телефон. Так. Хорошо. Ну что, Денис Игоревич, поехали и мы… потихонечку? – И он запел по слогам невесть откуда привязавшуюся к нему песенку. – Ил-ла-ри-он, Илларион, поехал в Сион… поехал в Сион… Илларион, Илларион…
* * *
В небольшом зале дорогого ресторана, оформленного в стиле французской гостиной – с красными шторами, белой мебелью и изящными букетами на столах, – почти никого не было. Один мужчина просматривал газету и ждал ужина. Другой, помоложе, пришедший чуть позже, отвернувшись от всех, сосредоточенно ел, запивая большими глотками минеральной воды, которую все время подливал ему в высокий стакан официант.
На столе, за которым сидели Алена с Эммануилом, горела красная свеча и стояла большая ваза с виноградом разных сортов. Композитор пил маленькими глотками кофе, сваренный по особому рецепту, Алена несколько раз глотнула чай из тонкой прозрачной чашки.
Эммануил пригубил брусничный ликер из крохотной рюмочки.
– За ваше здоровье, милая девочка. Вам действительно понравился мой концерт?
Алена улыбнулась:
– Да, конечно.
– А вам все-таки хочется петь на сцене?
Эммануил оторвал несколько темно-красных тугих виноградин от большой грозди и протянул их на ладони девушке. Та взяла одну ягоду, подержала ее в руках и аккуратно положила на прозрачное блюдце. Эммануил как будто не заметил этого.
– Не знаю, – пожала плечами Алена. – Я же попала в музыкальный театр после института… Радовалась сначала. Но мне там не понравилось.
– Почему?
Старый композитор поправил красную розу на лацкане идеально сшитого по его небольшой фигуре светлого парадного пиджака.
– Суета, склоки, вранье… Такое все… фальшивое. Мне там было душно. И скучно. И было страшно смотреть на стареющих актрис. Всем женщинам, наверно, страшно стареть. Но актрисы… Как они цепляются за молодость! У многих нет детей… Или дети заброшены… А они сидят часами на репетициях, чтобы спеть «Прилягте, барыня, уставший вид у вас…»
Алена негромко пропела строчку и сама засмеялась.
– И все постоянно надеются: вот в этом сезоне спою, вот будет распределение ролей на новый спектакль… опять не дали роли, ну в другом спектакле, или в следующем году… И ждут, ждут годами, ненавидя друг друга. А примы – еще хуже. Держатся за свои роли до последнего, любой ценой. Петь мне нравилось, мне дали сразу две большие партии, но я была не готова попасть в такой террариум. Может, просто так неудачно сложилось. Еще такая история была, после которой мне вообще не хотелось ходить на спектакли и репетиции, видеть этих людей… Рассказать?
– Конечно, милая моя!
– Просто история такая некрасивая. Я, разумеется, не из-за этого ушла, но… В общем, мне надо было петь с партнером, который каждый раз перед спектаклем говорил мне гадости – громко, открыто. Потому что я, как он считал, отобрала партию у его жены. Фамилию жены в программке по-прежнему печатали, но она за сезон так ни разу на сцену и не вышла, а это была ее единственная роль. В одной сцене он должен был стоять сзади меня и придерживать за талию, по рисунку роли, пока я пела… И вот однажды он меня так обнял на спектакле, что я какое-то время не то, что петь, а дышать не могла… Две актрисы все это видели сбоку, из-за кулис, они прямо рядом с нами стояли. Но они тоже были «обиженными», на подпевках. И потом только смеялись, когда дирижер просил меня объяснить, почему уже музыка пошла, а я ртом воздух хватаю и ничего не пою. Одна даже сказала, что я с ней советовалась перед спектаклем насчет этой сцены – не сымпровизировать ли там горячую страсть. Вот все и решили, что это я так заигралась, что пропустила начало своей партии. Мне было очень стыдно. Не могла же я ходить по кабинетам – к директору, к главному режиссеру – и объяснять, что это муж актрисы из второго состава нарочно мешал мне петь…
Композитор всплеснул руками, и в свете свечи его руки, поросшие рыжеватыми волосами, показались Алене совсем мохнатыми, как у лесного тролля.
– Девочка бедная моя!.. Какая ужасная история!..
– Сейчас мне это кажется даже смешным, а тогда я так переживала. Я ведь столько мечтала о театре. Просто я не была готова.
– А что вам говорила ваша матушка?
– Мама у меня человек очень хороший, принципиальный, но тоже в чем-то очень романтичный. Она советовала мне не бросать сцену, бороться за свое место в театре. Мама говорила: не обязательно же бороться их методами, можно просто хорошо петь, искренне любить свои роли, никому не вредить. А мне стало неинтересно, неприятно. Совершенно не хотелось им что-то доказывать – что я не стремлюсь сразу, любыми путями получить все первые партии. А сколько я слышала сплетен, приятельницы рассказывали такие сокровенные тайны друг дружки, и за спиной смеялись, и ругали действительно лучших… А уж лучшие!.. Был такой случай, я сама все это видела… Одна наша примадонна в возрасте шествовала со сцены в свою персональную гримерку. На ней было огромное парадное платье на металлических обручах, и на узкой лестнице она просто смела платьем хористку, тоже не очень юную, да так, что той два зуба пришлось вставлять – она упала и пролетела целый пролет. И потом две недели все до изнеможения перемалывали этот случай – что, да как там произошло, все переругались, даже те, кого в тот день не было в театре. А я представила – вот через тридцать лет стану таким чудовищем с луженой глоткой, с лестницы сбрасывать буду всех, кто дорогу не уступает мне, примадонне…
– Оборотная сторона искусства, ничего не поделаешь… – покачал головой Эммануил. – Артисты в большинстве своем – как эгоистичные, глупые дети, совершенно наивные и беспомощные в реальной жизни. И либо принимать этот мир, либо сразу уходить, если это столько сил душевных отнимает. Вы – девочка тонкая, чувствительная… Но какой же у вас чудесный голос! Спойте мне, прошу вас, Аленушка!
– На бис? – Алена улыбнулась. – «Прилягте, барыня…»?
– Что угодно!
Алена вздохнула и, только чтобы не спорить, согласилась:
– Хорошо.
– Прямо сейчас спойте, прошу вас! Здесь есть прекрасный инструмент. Я сам иногда тут играю, под настроение…
Алена с сомнением взглянула на кремовый рояль, стоящий в углу зала.
– Эммануил Вильгельмович… наверное, как-то не-удобно…
Эммануил встал и, умоляюще сложив руки, стал вдруг нараспев декламировать:
Я стар, уродлив и смешон,
Но все еще могу любить,
Пусть и не смею быть любимым,
Пусть и не смею говорить,
Что жизни без тебя лишен…
Алене стало очень неудобно. Она вдруг поймала выразительный взгляд мужчины в другом конце небольшого зала.
– Я тоже смешна и гм… уродлива… – прервала его девушка.
– Вы – королева! – громко возразил Эммануил.
Алена встала.
– Хорошо. Пойдемте.
Когда Алена подошла к роялю, Эммануил опять всплеснул руками:
– Вы знали, что здесь рояль цвета слоновой кости! У вас такое же платье! Вы необыкновенно смотритесь!
Алена поправила платье и проговорила:
– Это они, наверно, тут знали, что в это платье еще влезет мой живот… И рояль такой поставили…
Мужчина, давно оставивший свою газету и все слышавший в тишине небольшого зала, слегка улыбнулся. А Эммануил, как будто не замечая зрителя, продолжал, подкручивая для себя повыше красную лакированную табуретку у рояля:
– Прошу, моя королева. Что вы желаете спеть?
– Я желаю… – Алена чуть прищурилась, потом кивнула сама себе и негромко проговорила: – Выступает Алена Ведерникова… За роялем Эммануил Бокоша… Вы знаете «Шведскую песню» Грига?
– Девочка моя, лет сто двадцать назад бедный маленький Эммануил Бокоша подрабатывал тапером. Я знаю вообще все.
Алена спела недлинное произведение, после чего мужчина захлопал, подошел к ней и поцеловал руку.
– Так, так… – засуетился Эммануил и повел Алену обратно к столу.
Когда они снова сели, Эммануил допил ликер, подлил себе еще и отставил рюмочку.
– Я, кажется, сейчас сделаю что-то очень неожиданное. Девочка моя… Только не прерывайте меня! Мне… уже… гм… пятьдесят девять лет… Я никогда не был женат, так случилось. У меня нет внуков и детей. И я…
– Эммануил Вильгельмович, давайте не будем сегодня говорить ни о чем печальном…
– Нет-нет! Ни в коем случае! Я говорю о прекрасном! Будьте моей женой, Алена. Жаль, маменьки моей нет уже с нами, она бы вас полюбила… Я усыновлю вашего ребенка… или удочерю… Хотя… Я не думал точно об этом, но ведь и усыновлять не придется, если вы согласитесь выйти за меня замуж: это же будет как бы и мой ребенок… Прошу вас, Алена, только не говорите мне «нет»…
Алена не знала, как ответить, чтобы не обидеть пожилого человека:
– Я…
– Не говорите ничего! – прервал ее композитор. – Подумайте, посоветуйтесь с вашей матушкой. Я не буду ни на чем настаивать… Я так одинок, Алена… Вы осветите мою жизнь. Я дам вам все. Вы будете петь, у вашего ребенка будет отец, я буду его любить, кормить, у вас не будет никаких проблем… У меня прекрасная квартира, огромная дача в Голицыно, которая мне совершенно не нужна, – не для кого там что-то делать… Хотите, можем жить там весь год… Все будет так, как вы захотите… Вы любите цветы? Там есть второй дом, пустой совсем, можно сделать в нем оранжерею… Вы будете растить ребенка и выращивать цветы… И петь по вечерам… Вы, наверно, не думали об этом… Но встреча наша не случайна. Я знаю это…
Алена остановила его:
– Я… Я не могу… вам ничего сейчас сказать, Эммануил Вильгельмович…
– Не говорите! Не говорите! Я не стану ограничивать вашу свободу. Пусть приходят ваши подруги… Мы будем ездить за границу три-четыре раза в год… У вас будут сольные концерты в Москве и Петербурге… За границей, если захотите… Все мое будет ваше… Мое сердце, моя жизнь…
– Я… подумаю. Спасибо, Эммануил Вильгельмович.
– Вы обещали не называть меня по отчеству!
– Простите, я по привычке. Пойдемте, Эммануил, пожалуйста, я хочу подышать немного…
Эммануил тут же вскочил, отодвинул ее стул, подал ей руку, при этом чуть споткнулся, задев за стол.
– Идемте, девочка моя, идемте… – Сделав знак официанту, он торопливо достал деньги, оставил их на столике и поспешил за Аленой.
Уходя, Алена все время чувствовала на себе взгляд незнакомого мужчины. Того, другого, который не хлопал и жадно пил воду… И ее не оставляло чувство, что она совсем недавно где-то его видела. То ли в парке, то ли еще где-то… такая обычная, невыразительная внешность… Наверно, показалось, решила Алена, пытаясь сосредоточиться на том, что ей говорил Эммануил.
– Вы можете петь любую, саму сложную партию, у вас такой диапазон… такие обертона… летящие верхние ноты, без этого навязчивого тремоло… шелковый, чистейший голос… и мягкие, атласные низы… Такая хрупкая девочка, и такой голос… Вы не знаете, не цените себя, вам нужен человек, который поможет вам выбраться. Понимаете, девочка моя?… Это теплое нижнее ля-бемоль, когда вы спели сегодня… Словно кто-то взял меня рукой за сердце и больше не отпускает…
Алена кивнула и обернулась. Мужчина, которого мучила жажда, вышел вслед за ними. Заметив ее взгляд, он чуть поклонился и послал ей воздушный поцелуй. На актера какого-то он похож. Вот где она его видела! В фильме, а не в парке. Кажется…
Глава 7
Поговорив с Кирой, Денис все сидел и сидел в кресле, пытаясь собраться с мыслями. Но чем больше он думал, тем меньше ему было понятно, что же делать. Одно ясно – надо ехать в Москву. Он встал, подошел к краю террасы, посмотрел на соседнюю… Да, жаль, что вот так не убежишь в Москву. Сейчас бы как хорошо – сигануть через перила, подхватив паспорт и кредитку, никому ничего не объясняя, ничего не придумывая… Денис в задумчивости постукивал рукой по перилам и не услышал, как по его комнате тихо прошла Оксана, вышла на террасу и встала у него за спиной.
– «Илларион, Илларион, поехал в Сион…» – бормотал Денис, пристукивая себе в такт. – Только вот как он поехал, это он никому не рассказал…
– Все в порядке? – Оксана обняла его теплыми руками и прижалась к нему.
Денис мучительно помотал головой:
– Ох, Оксанка… – Он опять сел в жесткое плетеное кресло, стараясь не встречаться взглядом с женой.
Оксана залезла к нему на колени и обвила его шею:
– Что, милый мой? Ну что ты извелся? Скажи мне…
– Нет, ничего. – Денис прижал ее голову к себе и через некоторое время заставил себя сказать: – Мне, наверно, надо поехать в Москву… чуть пораньше…
Он ожидал вопроса, а Оксана молчала. Она так и сидела, положив голову ему на плечо и тихо целуя его шею, мочку уха…
Денис откашлялся.
– Понимаешь… У меня проблемы… с… одним контрактом… гм… Женька просит, чтобы я на работу вышел…
– Конечно, – вдруг быстро ответила Оксана. – Конечно, езжай. – Она приподнялась и поцеловала его в лоб. – «В лоб целовать – заботу стереть…» Дальше как – не помнишь?
Денис покачал головой, ощущая нехороший холодок в груди:
– Пойду узнаю насчет билетов.
Оксана протянула ему его же мобильный телефон, лежавший перед ними на низком столике.
– Давай прямо сейчас позвоним этому… который нас встречал… Борису.
Денис, еще не веря, что так все просто решилось сейчас с Оксаной, набрал номер. Ему сразу ответил тонкий голос гида, и Денис решительно заговорил:
– Алло, Борис, это Денис Турчанец… Мне бы пораньше в Москву улететь, устроишь? А, ну и черт с ним, пусть пропадает, купи новый билет. Могу и сам, конечно, электронный купить, но ты, может, все-таки сдашь старый? Завтра утром? Отлично. – Он посмотрел на жену, та, не поднимая на него глаз, не отрываясь от него, качнула головой. – Давай. Спасибо.
– Заглянешь ко мне на минуточку? – нежно спросила Оксана, почему-то отворачиваясь.
Денису показалось, что его рубашка намокла в том месте, где сейчас была голова жены. Плакала? Оксанка – плакала? Но тогда бы она не позвала его…
– На две, – сразу ответил Денис, пытаясь поймать ее взгляд, но Оксана выскользнула с балкона, только слабо помахав ему через плечо пальчиками. Вот тебе и хорошо ему знакомая, прямолинейная Оксана, не терпящая недомолвок и двусмысленностей…
– Да… – Денис, тем не менее довольный, что пока все получается без проблем – и самолеты летают, и билеты есть, встряхнулся и глянул на себя в стекло балконной двери. Только вот Оксанка… С ней что-то непонятно… Не такой уж он дурак, чтобы поверить в эти неожиданные ласки и поцелуи, когда она должна была насторожиться и начать выспрашивать его, что да как…
«Не ходи к той женщине, которая плачет тебе вслед…» – учила мама. Но мама ведь тоже женщина, и учила она его всегда со своих, женских, позиций. Да и многим ли маминым советам он следовал… Вот разве что «Не заводи много детей, ты сам мальчишка и никогда не повзрослеешь» – это напутствие он выполнил сполна, можно сказать, перевыполнил.
Но как приятно в минуты осознания своей слабости или трусости сказать себе: «Да, я – просто большой ребенок. Искренний и непрактичный. Не могу иначе. Живу, как душа прикажет, куда река вынесет… Сегодня – так, завтра… – еще не знаю как… Не загадываю, не планирую… И что я могу с этим поделать?»
Денис отогнал прочь неприятные мысли, заворочавшиеся в душе, и пошел к Оксане.
* * *
В церкви после службы было много народу, туда-сюда сновали бабуси, с сосредоточенным видом вытиравшие наплывший воск, переставлявшие свечки поближе к иконам, выбрасывавшие огарки. Алена разглядывала лица людей, стоящих в разных уголках церкви: кто-то молился, кто-то просто смотрел на иконы, как на окошки в другой, потусторонний, загадочный мир, где есть таинственные существа, способные простить тебе твой самый страшный грех. Простить и отпустить его… Но на самом деле нельзя же войти в церковь клятвоотступником, предателем, насильником, а выйти – чистым и безгрешным, как трехлетний ребенок.
Церковники не устают повторять: надо самому осознать грех, почувствовать, что то, что давит сзади на спину, – это вовсе не груз прожитых лет, а все плохое, что было сделано за эти годы. Нашел в себе силы осознать – уже полдела. Теперь осталось прийти в церковь и попросить прощения. И кто-то там, в загадочном мире, имеет силу и право сказать: «Ну ладно, не майся больше. Сделал – ничего. Только больше так не делай. Прощаем тебя…» И вот уже больше за спиной не давит и на сердце не скребет, и ничто не будит посреди ночи, в часы, когда все, о чем не хочется думать днем, встает перед тобой и требует: «Разбирайся!» Теперь же ты сам по себе, а грех твой – сам по себе. И тебя больше не мучает. Но ведь то плохое, что было совершено, никуда не делось, оно так и осталось в прошлом, которое не изменить, в душах людей, которым было плохо из-за тебя… С этим как быть?
Чем дольше Алена работала в церкви и волей-неволей вслушивалась в то, что говорится на службе, тем чаще она задумывалась, что точно есть какая-то тайна, какая-то высшая сила, посланцы которой и рассказали людям о моральном законе. Либо сами они его и придумали и теперь следят за тем, как он здесь, на Земле, соблюдается. Или уже не следят? И нет никакой силы? А посланцы были такие же люди, как мы сейчас, – с зажигалками, с ракетами и компьютерами, а предки наши были тогда очень дикими и ели друг друга. И они дали нашим предкам огонь и рассказали о моральном законе, о котором им тоже кто-то рассказал, когда и они были дикими…
Алена в который раз почувствовала, что она близка к какой-то разгадке, но мысли упорно не хотели дальше двигаться в этом направлении. Потому что сказано: платок надень чистый и поверь без рассуждений и оговорок, а не размышляй и не пытайся понять то, что от тебя надежно спрятали. То, что надо знать, – все рассказали, и не раз. Путались только разные боги в своих рассказах. То так рассказывали, то эдак… В одном были едины: береги свою душу, дороже нее ничего нет на свете, думай о хорошем, не делай плохого, не делай больно другой душе.
Алена подошла к отцу Григорию, который слушал прихожанку средних лет и, наклонив голову, кивал. Хорошо одетая женщина, в строгом костюме, на каблуках, стояла близко к отцу Григорию и плакала. Время от времени она машинально вытирала слезы краем большого полупрозрачного платка, накинутого на голову.
– И сил моих нет, батюшка. То уйдет, то придет, два месяца поживем, опять к ней уходит, в открытую уже.
Священник покачал головой:
– А ты, матушка, не принимай его.
– Не могу… – заплакала прихожанка. – Люблю его, прощаю…
– Больше Бога ты его любишь, а это плохо. – Отец Григорий заметил стоящую поодаль Алену. – На исповедь приходи, на причастие. Ты прости, матушка… – Он перекрестил ее. – Бог милостив, терпи. – Сделав знак Алене, отошел в боковой придел.
Женщина в след ему прошептала искренне:
– Спасибо, батюшка…
Алена подошла к священнику и сразу спросила:
– А в чем мой грех, отец Григорий?
– Ты взяла чужое, – мягко, но тоже сразу ответил тот.
– И вы считаете, мой ребенок поэтому должен всю жизнь прожить без отца?
– Тебе нужно искупить свой грех раскаянием и смирением. И не пытаться разрушать чужую жизнь.
– Но он сам просил меня родить ребенка…
– Давно это было?
Алена опустила голову:
– Давно…
– Поэтому не лги себе, – вздохнул священник. – Скажи ему, что полюбила другого. Расстанься сейчас. Бог поможет. А он пусть растит свою дочь, которая его любит. Для нее же ведь нет другого отца, так?
Алена посмотрела в лицо отцу Григорию. Он спокойно улыбнулся в ответ на ее взгляд:
– Господь тебя не оставит. Только не упорствуй в грехе.
– Вы… уверены, что вы всегда правы, отец Григорий? Ведь люди вас слушают.
– А ты послушаешь? – опять улыбнулся батюшка.
– Не знаю… Простите меня. – Алена быстро ушла, не оборачиваясь и не перекрестясь.
Алена подошла к дому около девяти часов вечера. Было еще светло, но так промозгло, что во дворе, на площадке, где обычно вечером гуляли с детьми, никого не оказалось.
Она обошла двор кругом, хотела покачаться на качелях, но передумала – не ровен час, закружится голова.
Алена решила зайти за свой дом, посмотреть, не зацвела ли черемуха, и сорвать несколько цветочков мать-и-мачехи, которые рвать днем, вместе с маленькими детьми, ей было неловко. И так Денис часто говорит, что она все никак не ощутит своего солидного возраста. Вот малыш появится, тогда, наверно, она перестанет ощущать себя девочкой, перестанет задавать глупые вопросы и одеваться, как студентка. Тридцать лет – это не тринадцать.
Проходя мимо трансформаторной будки, она присмотрелась – ей показалось, что прямо у самой стены синеют какие-то цветы. В конце апреля было двадцать пять градусов – так, может, это уже выросли незабудки? Алена подошла поближе. Нет, конечно, это просто просвечивал через молодую траву голубой полиэтиленовый пакет. Она повернулась, чтобы уйти, и вдруг прямо перед собой увидела непонятно откуда взявшуюся небольшую белую собаку, похожую одновременно на бульдога и на огромную крысу. Алена вспомнила, как первый раз увидев такую породу, она засмеялась и сказала Денису:
– Смотри, какая чудна€я! Похожа на большую крысу!
А тот, не улыбнувшись, ответил:
– Тебе что, смешно, что она на детей бросается? И откусывает у них руки?
Алена в ужасе посмотрела на собаку и перевела взгляд на Дениса:
– Правда?
– Тебе сколько лет, заяц? – спросил Денис, который то умилялся наивностью Алены, то она начинала его раздражать. Нельзя в тридцать лет удивляться, радоваться, пугаться, как в двадцать. Нельзя… Надо взрослеть, надо быть осторожней и с людьми, и с собаками…
В тот раз Денис обнял ее и прижал к себе:
– Ну ладно… Ты действительно никогда не видела питбулей?
Алена помотала головой.
– Запомни, малыш, это очень страшные собаки. А еще есть милейшие шарпеи, плюшевые убийцы.
Алена потерлась носом о плечо Дениса и слегка отстранилась:
– Понятно. Я не знала. У меня в детстве был эрдель-терьер, очень добрая и глупенькая собачка.
– Вроде меня, да?
Девушка задумчиво улыбнулась и покачала головой:
– Не совсем…