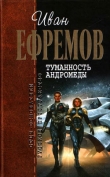Текст книги "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"
Автор книги: Надежда Кожевникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Избалованность, да? Мне нечем оправдаться. Ведь считается, что право страдать надо заслужить. Так ли? Меня потряс, восхитил рассказ, переведенный с французского, про девочку, мою сверстницу, с маниакальным упорством ищущую смерти. Автор не удосужился даже намекнуть на причины ее бесприютного шатания по Парижу, прикидывая как сподручней – то ли броситься в Сену с моста, то ли под колеса автомобиля, то ли… Внезапно она очнулась, взглянула на небо, и тут из дома, рядом с которым она замерла, выпала из форточки хрустальная пепельница, полная окурков, размозжив девочке череп. Фамилия автора рассказа мне потом не встречалась никогда. Уж не придумала ли я этот сюжет сама? С меня станется, бормочу нечто нечленораздельное себе под нос, веду диалоги в отсутствии собеседников, а потом упрекаю близких в намеренной глухоте. А что, обязательно разве все вслух произносить? Основное-то, сущностное, как раз и замалчивается. Уяснила с детства. И пока все думали, что сплю, я на самом деле летала, кружилась над лесом, где в скопище темных елей прорезались стволы берез, источающих матовый свет, как дверь, за которой исчезала мама.
Не припомню ссор между родителями, чему мы, дети, хотя бы однажды оказались свидетелями. А, с другой стороны, откуда могли взяться, возникнуть поводы для разногласий в раздельном, мамой спланированном, существовании нашей семьи, где папа был устранен от участия в каких-либо проблемах, получая тщательно дозированную, разумеется, мамой же, информацию. Уж к страстям с Ириной, душераздирающим сценам в квартире в Лаврушинском переулке он вообще не имел доступа. Мама в отношениях со старшей дочерью держала оборону, исключив вмешательство в воспитание Ирины папы, верно, с момента ухода от первого мужа, Ирининого отца. Вопрос: а не тут ли причина ее решения запихнуть папу подальше, на подмосковную дачу, избавившись от невольного соглядатая ее схватки, кстати, безрезультатной, с саморазрушительным буйством Ирины? Маму, может быть, глодало чувство вины? Поэтому она и крылила, и одновременно впивалась когтями в осиротевшего по ее воле птенца-первенца, крупного, взъерошенного, отчаянно сопротивляющегося всем попыткам внести примирение, смирение перед жизнью, суровой, и больно хлеставшей тех, кто, пристрастившись к праздником, с бессильной яростью возненавидел будни?
Для острастки, в качестве превентивной меры, мама хлестала Ирину сама, и старшая сестра от пощечин не увертывалась. На голову выше мамы, осталась однажды стоять навытяжку в коридоре, у книжных полок, пока мама, крикнув, – жди здесь! – не примчалась со скамейкой для ног, надобной в занятиях моих за роялем, пока я до педалей не доставала, и вот, привскочив, дотянулась до Ирининого лица. Хвать справа, хвать слева, голова Ирины с пышной гривой волос моталось туда-сюда, и опять мне померещилась лошадь, как с папой, шеей дергающим в жестком охвате крахмального воротничка сорочки. Папа, где ты? Спаси Ирину – нашу маму спаси. Бедная, бедная мама! И все. Почему-то я оказалась на полу, с полотенцем мокрым на лбу, и, увидев ее склоненное, вплотную приближенное лицо, благодарно-искательно улыбнулась, как при поцелуе, получаемом традиционно на сон грядущий.
Параллели, как и должно быть, не пересекались: моя безотчетно-звериная приметливость разбухала вне рассудка, не соприкасаясь с почитанием мамы, дружно, хором всеми нами демонстрируемым. В том числе и Ириной. Общий сговор не распадался. Ирина меняла мужей, любовники бессчетные, как от чумы, от нее сбегали. Мама – якорь, удерживала эту утлую лодку от гибели в океане страстей. Папу от погружения в отшельничество, с брезгливым разочарованием в тех, кого он считал союзниками, единомышленниками. Для Кати стала поводырем, обучая двигаться, пусть ощупью, но в стенку, тупик не упираясь. Со мной… Тут сложнее. Мне в грехах не приходилось каяться, обзаведясь броней прилежания, лупила по клавишам фортепьяно с рьяностью, достойной лучшего применения. Но ведь и в выборе мне специальности вперед смотрящим вызвалась быть мама. И не то чтобы я была обделена способностями к музыке, но не сфокусировались они, не сжались в пружину для выстрела безошибочного в сто очков по мишени. А если лишь рядом да около пули ложатся, стрелок казнит презрением самого себя, и по сравнению с такой самоуязвленностью – да тьфу на мнение посторонних.
Короче, мама, многостаночница, кидалась то к Ирине, стонущей от очередной несчастной любви, то к Кате, вялой, заторможенной, что мама сочла доказательствами необычности, возвышенности ее натуры, хоть заговорами, хоть ворожбой мечтая превратить чахлое растение в цветущее дерево. И я еще, сатанеющая в горячке воспаленного честолюбия. Мама, как скорая помощь, не успевала поспевать и туда, и сюда, и вышло, что старшая и младшая сестры вытеснили меня, среднюю, из маминого расписания, обзора. Я оказалась предоставлена сама себе несколько преждевременно.
Ничего, собственно, в моих отношениях с мамой, как я считала, не изменилось. В отличие от нее, скрытной, без разбора делилась всем, что во мне накапливалось, ожидая выхода, выплеска. Ни в чем, ни внешне, ни внутренне, я на нее не походила. И, пожалуй, ни на кого. Из детства в юность вылетела как булыжник, запущенный из пращи. Безудержно, безоглядно смелая при отсутствии какого-либо опыта, житейской смекалки, представления об опасностях. Но, как ни странно, судьба меня щадила, по башке не била, или, может быть, взбудораженная новизной открывшегося мира, я не реагировала на причиненную мне боль, ударов не ощущала.. Как и раскаяния, другим больно делая. А делала на ходу, устремляясь дальше и не оглядываясь. Меня не догоняли. А я не хотела себе признаться, что бьюсь в тенетах одиночества.
Приезжая на дачу к родителям, жадно ела, отсыпалась и снова уносилась прочь, в гонке за чем-то, мне самой неведомым. Меня ни о чем не расспрашивали – незачем, я вываливала, выбалтывала все без принуждения. Защитить, оградить меня от самой себя, видимо, было нельзя, и мама, с ей присущим чутьем, отстранилась.
Ее болезнь оказалась для всех нас неожиданностью. Тревожил папа, его высокое давление, стенокардия, его работа, дерущая нервы, бессоницей сопровождающаяся, курением вместе с нитроглицерином. Цветущая, и в затрапезе нарядная, душистая мама никаких опасений не внушала. Мы настолько уверовали в ее железный стержень, что упустили грозные признаки надвигающейся беды, катастрофы.
Она не обращалась к врачам. Мы спали, а ее рвало. Вспух живот, опухоль раздирала внутренности. Но, как всегда, посещала парикмахерскую, холеные руки в кольцах сверкали маникюром, чуть ли не накануне смерти заказала в ателье пальто, отороченное песцом. Его выдали готовым, когда ее уже не стало.
В одноместной палате кремлевской больницы по улице Грановского она лежала на высокой кровати с повязанной перекрученным бинтом челюстью, укрытая под подбородок, а я из всех сил молила, чтобы папа не увидел выпроставшуюся из-под казенного одеяла ее маленькую, с высоким подъемом ступню, где змейкой застыла бурая струйка крови.
Мы, дочери, стояли за стулом, на который он рухнул, как подкошенный, сгорбив спину в черном, измятом, прежде на нем не виданном пиджаке. Пиджак мелко, судорожно, беззвучно трясся, и немота его горя придавила нас глыбой. Мы отступили, сжались перед его безутешностью, не смея проронить ни слезинки. У нас ведь были уже свои семьи, свои дети, для него все закончилось здесь, у этой высокой больничной постели.
Для похорон понадобился мамин паспорт, но мы не знали ни где она его хранила, ни как его можно отыскать. Уже святотатство – войти в ее комнату без стука. И старшая, и младшая сестры в панике убежали при скрипе дверцы ее платяного шкафа. Кто же? Не на папу ведь взвалить такое еще испытание. Значит, я.
Ну шкаф, ну тумбочка, ну подзеркальный столик, ну плотные шторы на окнах, ну обивка кушетки: где же? Огляделась и уперлась в комод, соблазняющий в детстве тайнами в нем содержимого, но теперь, показалось, мрачно меня осуждающего, стерегущего каждый мой шаг.
Ну нет уж, увольте, замок взламывать не буду! И вдруг, будто меня повелительно окликнули, заметила ключ, нарочито, внятно, призывно оставленный сверху комода. Тот самый, вошедший в замочную скважину примитивно, как гвоздь.
Вот что, значит, она там прятала, чем так дорожила. Флаконы духов – строй оловянных солдатиков, забава, утешающая необласканного, оставленного без родительского внимания ребенка. Такое ей выпало детство? Оттуда травмы она всю жизнь из себя выдавливала, как яд? За то боролась, чтобы ее дети выросли другими, в атмосфере ничем, никак с ее собственным прошлым не связанной. Такую поставила себе цель и ради ее достижения готова была на все?
Полки комода надежды, чаяния ее вместили, искренние, простодушные, бесхитростные до оторопи. Стопки конспектов студентки, исписанные с неуклюжей старательностью, подробно, слово в слово, сокращений, пропусков избегая, из-за недоверия что ли к своей памяти, сообразительности, способности мыслить самостоятельно: так, без иллюзий, она, с юности, оценивала себя?
Рядом книжка, тощая, в бумажном переплете, папиных довоенных рассказов, маме подписанная с ошибкой в отчестве, Юльевне, а не Юрьевне. Еще одна веха. Полкой ниже рисунки Ирины, самой из нас, сестер, одаренной и не добившейся ничего. Катя, младшая, лепила забавные фигурки из пластина, и их образчики мамин комод сберег. К пачкам писем, перевязанным аккуратно ленточками от конфетных наборов, у меня не хватило духа прикоснуться, но на самой объемной узнала свой залихватски-размашистый почерк.
Как, почему? Их изорвали в клочья, а после тщательно склеили. У меня потемнело в глазах. Я не помнила и не в состоянии была представить, чем и когда ее так обидела, такую вызвала ярость, чтобы она вот тут, в своей комнате, мечась тигрицей, в живот раненой мною, ее детенышем, отперла сейф-комод, рыча, рвя, топча мои к ней писульки.
Меня сокрушила и собственная беспамятность, и то, что мама мне ничего не сказала. Не дала попросить у нее прощения, наказав навсегда.
Моей дочери столько же лет, сколько исполнилось мне, лишившейся матери. И так же как у меня с мамой, так и у дочери со мной, нет ни внешнего, ни внутреннего сходства. Одно совпадает – любовь, обжигающая беспощадно обеих. Но только для матери такие ожоги смертельны, а у дочери воспаляются потом.
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Странно, что в гуще теперь публикуемых мемуаров об этой семье почти не упоминается. Между тем практически все авторы в их доме неоднократно бывали. В годы, которые они вспоминают, появления там просто нельзя было избежать. Так почему же, стесняются что ли? С чего бы?
Пропускная способность их дома конкурировала с ЦДРИ, ЦДЛ, ВТО вместе взятыми. Там не только ели, пили, но и получали своего рода «путевку в жизнь». И те, кто уже прославился, и кто еще только всплывал из безвестности, включались в коллекцию, что тщательно, много лет собирали хозяева.
Обстановка их московской квартиры и дачи была стильной – семья чуть ли не первой в своем окружении начала собирать антиквариат – но куда больше чем павловской мебелью с «пламенем» гордились гостями, можно сказать, по-отечески вникая в проблемы, заботы каждого и не гнушаясь мелочами.
Они были активны и в общественной сфере: в преклонном уже возрасте не пропускали премьер, вернисажей, юбилеев. Всегда быть на публике довольно-таки утомительно, но у семьи тут была потрясающая закалка. Светские люди, правда, всегда близки к смешному, тем более в СССР, где все пародию напоминало, а уж попытки изобразить другую жизнь – вдвойне.
В дневниках у Корнея Ивановича Чуковского драматург Александр Петрович Штейн упомянут четырежды, и каждый раз в связи с похоронами. У Чуковского, скрупулезно точного, фамилией Штейна открываются списки участников скорбного ритуала: можно представить, что так вот и обстояло. Штейн был тут именно в первых рядах. Хотя на похоронах Пастернака Чуковским отмечено его отсутствие: нюанс характерный.
Короче, если пытаться всех перечислить, кто у Штейнов бывал, бумаги не хватит. Проще назвать отсутствующих. Называю: мои родители. Хотя это долго казалось мне загадкой.
Ссоры не помню, да Штейны наверняка бы ее не допустили. Отцу, нрава не мягкого, пришлось, верно, особую изобретательность выказать, чтобы повод найти для обрыва общения с людьми столь радушными. Просто отбрить, съязвить – ему бы простилось. Хорошо помню отцовский прищур, подбородок затяжелевший в предвкушении сладостном «шуточки», от которой собеседники багровели. Но Штейны с их выучкой, пожалуй, улыбнулись бы. Их так, с наскока, было не взять. Следовало проявить упорство, но вот зачем оно папе понадобилось, повторяю, долго не понимала.
Последний раз видела Кожевниковых вместе со Штейнами в году пятьдесят четвертом. Считаю так, потому что в штейновской даче в Переделкине уже отстроили второй этаж: там, у камина, гости и собрались. И был Алексей Каплер, после смерти вождя выпущенный из лагеря, которого я называла дядей Люсей, а тетей Люсей Людмилу Яковлевну Штейн. Мама моя не была беременна, значит, сестра Катя уже родилась, но, видимо, недавно: я еще чувствовала себя любимицей, что в скорости, с появлением младшенькой, прекратилось.
Сталин кончился, пришел Хрущев. И недоверчивые слились в братании. Недолгом. В сознательном возрасте подобное пришлось наблюдать в начале «перестройки». Надежды, надежды… В доме у нас появляется Галина Серебрякова, переговоры ведутся с Лебедевым, помощником Хрущева, по поводу ее лагерной прозы, которую папа собирается печатать в «Знамени». Мама настораживается: Серебрякова, в ее понимании, чересчур активна, а папа излишне внимателен. Обычно в застолье сам безумолку говорит: скуку глушит, как я потом догадалась.
В тот период драматург Штейн тоже приобщился к разоблачению культа личности, написав пьесу "Гостиница «Астория», поставленную его другом Николаем Охлопковым с большим успехом. В те годы от писателей не ждали самовыражения, но вот соответствовать веяниям и быть тут чуткими следовало непременно. Тоже непросто: не забежать вперед и не отстать; не прогневить власть и в то же время вызвать симпатию у либеральной публики, без чего успеха быть не могло. Никакое официальное одобрение, никакая хвалебная рецензия не могли даже отдаленно равняться по влиянию с тем, что возникало из шепота на тех самых, уже набивших оскомину кухнях.
Дом Штейнов и был средоточием слухов-шептаний, хотя крамола в них отсутствовала, а скорее ну просто выпускались пары. Хозяевам, как и гостям, было что терять. Но Штейны особенно тем притягивали, что никого ни за что не осуждали.
В этой кажущейся неразборчивости действовал механизм, безупречно отлаженный, проверенный и основанный на, скажем, гибкости, характерной для так называемых культурных слоев. Впрочем, понятно: иметь убеждения, открыто их выказывать, требовало либо геройства, либо упрямства, когда все сомнения в зародыше убивались в самом себе.
Режим всех принуждал к подчинению, но одни становились в известную позу с видом жертвы, а другие – мой отец, например, – так держались, будто им это нравится, они-де удовольствие получают, корежа свою личность, свой талант.
Вот причина, как мне представляется, по которой Кожевников дистанцировался от Штейнов. Ведь иначе следовало бы разделить и униженность, подневольность, в той среде не только не утаиваемые, а декларируемые с вызовом, как единственно возможный протест.
А вот мою маму к Штейнам тянуло, томило непричастностью к празднику, происходящему так близко, по соседству, на той же улице Лермонтова. Ворота штейновской дачи постоянно оставались распахнутыми, автомобили на въезде теснились, и, когда мы шли мимо, мама грустнела, хотя и не решалась признаться, как ей хочется туда, в многолюдье. Но папа, редко в чем-либо ей отказывающий, тут был непреклонен.
Я же в ту пору привыкла чьему-то веселью не завидовать. Папина отстраненность от цеха собратьев и мне постепенно передалась. С писательскими детьми не дружила, кожей чувствуя, что и для них я чужая. И так на всю жизнь осталось, не столько из-за позиции отца, сколько из-за собственного характера, сходного, впрочем, во многом с отцовским.
Но и маму, конечно же, не гульба, пусть шикарная, на широкую ногу, привлекала, – это она и сама могла бы организовать – а оттенок избранности, ни с деньгами, ни с должностями, ни с официальными почестями не связанный. Наоборот даже, лучше было бы-не иметь, хотя Штейны с удивительной грациозностью тут балансировали: сами не рисковали, но привечали гонимых (и не гонимых тоже), умудряясь прослыть вольнодумцами, казалось бы, очевидному вопреки.
Александр Петрович пьесы писал исключительно правоверного содержания, зять его, Игорь Кваша, снимался в роли вождя мирового пролетариата Карла Маркса, но на их репутации в либеральном кругу это не отражалось. Сливки творческой интеллигенции, такие, скажем, как поэтическая небожительница Ахмадулина или пламенный трибун Ефремов, не морщились, не брезговали бывать завсегдатаями на посиделках у Штейнов. Такая эпоха: компромиссы являли основу существования. Их понимали, прощали. А вот цельность изображать, наверное, не следовало, как это пытался делать мой отец.
В пьесах Штейна, выражаясь мягко, относительной художественной ценности, актеры были заняты первоклассные: Плятт, Штраух, Папанов, Миронов, Ия Саввина, Свердлин. Так что ж, и у Софронова играть приходилось. Видимо, искусство лицедейства меньше подвержено коррозии в изначально лживых установках, чем литература. Про драматурга Штейна можно сказать, что он был удачлив, дозволенная полуправда особого ущерба его текстам не приносила. Как, например, и Розову, сохраняющему до сих пор удивительный оптимизм. Но были и другие, чей природный дар эпоха растоптала. Имелся ли у них выбор? Принято думать, что да, но я не уверена. Может быть, для некоторых, помимо творчества, еще ценности существовали, ради которых, по выражению Маяковского, они наступали на горло собственной песни. Валить их в одну кучу с бесстыдными конъюнктурщиками, на мой взгляд, не стоит. Но и желания тут в спор вступать, тоже нет.
Зато интересно сопоставить, как представителей разных поколений, отцов и детей, писателя Юрия Германа и сына его, Алексея, одного из самых значительных теперешних режиссеров. Юрий Павлович с его «Верьте мне, люди», и Алексей Юрьевич с фильмом «Хрусталев, машину!». Разрыв колоссальный, не правда ли? В одном интервью Герман-сын говорит, что когда клали на полку его «Проверку на дорогах», директор картины плакал, умоляя режиссера отказаться от сделанного – и себя не губить, и других. Режиссер тоже плакал, но стоял насмерть. Добавляет, что если бы жив был его отец, то заставил бы картину порезать. «Потому что, – цитирую, – он был добрый человек. И не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей».
Так, может быть, спайка между отцом и сыном все-таки была и осталась? Сбереглась основа, на которой все дальнейшее и проросло? Да, жизнь, ростки ее уже в другом, новом времени. Рассуждаю, возможно, как обыватель, но в поколении наших родителей вижу не только их заблуждения, но и жертвенность, пусть и не всегда оправданную. Во всяком случае, их строго судить, повторяю, у меня лично желания нет.
В каждом времени есть свои странности. Для того, о котором идет речь, характерно сосуществование ярких индивидуальностей и серой, больше не годной к употреблению «жвачкой», что тогда называли творчеством. Если обращаться к текстам, той эпохой оставленным, то многие авторы их предстают чуть ли не недоумками. А между тем в жизни, свидетельствовать о которой скоро уж будет некому, они, эти же авторы, с редкостной щедростью обнаруживали свою личностную недюжинность, заковыристость, неоднозначность, что в песок ушли по закону, изначально жестокому: было – и нет.
Сменяются вкусы, нравы, взгляды, что в порядке вещей. Но людям творческим все-таки шанс дается закрепить свое мимолетное бытие. Импульс, если вникнуть, сумасшедший – из задуманного реализуется ноль целых и сколько-то десятых процента – но именно он побудитель тех завихрений, что отличают артиста от бухгалтера. Беда, если артистов к бухгалтерской осмотрительности принуждают, а бухгалтеров к сочинению поэм. Именно так обстояло в державе, именуемой СССР.
Зато жили захватывающе интересно! Иностранцы, проникнув на московские кухни, слюной от зависти исходили: пир духа, поголовная даровитость, искрометность, блестящие реплики, тосты как философские эссе. На таком фоне их знаменитости унылыми, скучными казались: все молчком, все себе на уме.
А объяснение простое: те в своих книгах себя выражали, наши же – в устном творчестве, опровергая нередко самими же написанное. В застольях выкладывались, в общении. Штейны, умницы, нишу создали, куда устремлялись, изнывая от невостребованности.
И в прозе, и в сценических воплощениях конфликт допускался только хорошего с лучшим. Всем вменялась прекраснодушная интонация, и можно представить, сколько желчи в авторах скапливалось, особенно в тех, кто надрывался фальцетом, изображая херувима, будучи от природы чертом, призванным дразнить, язвить.
Хотя не для всех в маскараде участвовать было мукой, терзанием. Может быть, ошибаюсь, но, как мне видится, Александр Петрович Штейн жил в полном согласии с собой. Дружелюбный, к людям действительно расположенный, отнюдь не богемный, он мог при других обстоятельствах быть, скажем, врачом-терапевтом с хорошей практикой, а свой интерес к искусству, точнее к людям искусства, удовлетворять в хлебосольстве. И не надо было бы самому творить.
И вспоминали бы о нем с благодарностью, без той отчужденности, что потом обнаружил кое-кто даже из его домашнего окружения. Игорь Кваша, например, в интервью после смерти Ефремова рассказывал, как Олег Николаевич, уходя из «Современника» во МХАТ, приехал взволнованный к нему, Кваше, на дачу. Меня заело: не вашу, Игорь, дачу – Штейнов. Вы там жили на правах родственника. Нехорошо отступаться, даже если ситуация изменилась, и драматург Штейн теперь не в чести.
Соглашатель? А когда, от кого это скрывалось? Между тем, кто только не пользовался его гостеприимством! Многолетиями. А попробовали бы вот так, всей гоп-компанией, экспромтом, что называется, к Твардовскому, к примеру, нагрянуть: вот именно, не посмели бы, и в голову бы не пришло.
Не сомневаюсь, что и Ефремова первой на даче встретила Людмила Яковлевна, наша всеобщая тетя Люся. Усадила, выспросила. И даже Ефремов вряд ли от чар ее устоял.
Страсть Люси Штейн быть в курсе всего возвышалась до бескорыстия, свойственного одержимости. Да, бывало, что распираемая объемом имеющейся информации, она делилась некоторыми фактами с несколько большей щедростью, чем лица, ей доверившиеся, предполагали. Но к сплетницам ее было бы несправедливо причислить. Натура ее не вмещалась в такое определение: коварство как побуждение к сплетне, в ней отсутствовало, а если огрехи и случались, ее не следовало бы за них винить.
Тут сказывалась специфика тогдашнего нашего существования. Все, несмотря на различия, были спаяны со всеми. И Люся Штейн лишь выразителем являлась общей надобности, общей зависимости друг от друга и всеобщей же невозможности податься куда-либо в сторону.
В обреченности на аморфность во многих жизненных сферах, энергия неуемная просыпалась при личных контактах, порой обращающихся в удавку. Никому ничего не удавалось скрыть. Осведомленность полная друг о друге приводила чаще к конфликту, чем к дружеским отношениям, но силилась выглядеть сплоченностью.
Штейны и способствовали, и сами поддавались иллюзиям, что эпоха, в которую довелось жить, может сойти за нормальную. Люди трезвые, они понимали, что если когда-либо перемены и возникнут, им до них не дожить.
А если бы дожили, их ждало большое разочарование: «коллекция», которую так тщательно собирали, обесценилась. Ее теперь можно воспринимать разве что как собрание казусов, курьезов: никем уже нечитаемые многостраничные романы, увядшая слава когда-то шумных премьер, дерзости– фиги в кармане. А вот что сохранилось, получило преемственность и в теперешних представителях творческих профессий, так это традиционная инфантильность в восприятии реальной действительности, преувеличение собственной значимости и историческая беспамятность, возможно, умышленная. Неприятно сознавать, что в который уж раз самые совестливые, просвещенные – цвет нации, как принято говорить о нашей интеллигенции, – оказались послушными статистами в шулерских играх, где на кон снова поставили народ и страну.