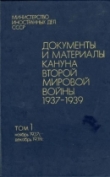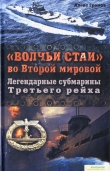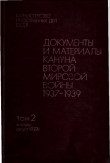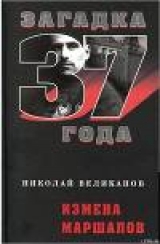
Текст книги "Измена маршалов"
Автор книги: Н. Великанов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В бою за Ин потерпели поражения и Камский стрелковый, и Уфимский кавалерийский полки. Стрелковый полк был взят подразделениями народоармейцев в кольцо и едва не уничтожен полностью; его командир полковник Сотников был убит. Понесли большие потери всадников и лошадей уфимские кавалеристы. Урон Поволжской бригады составил в целом около 300 убитых и раненых, 50 белогвардейцев попали в плен.
Наступление Сахарова захлебнулось.
Этот Инский бой имел большое значение для народо-армейцев. Была одержана первая победа над молчановскими войсками, весть о которой тут же разнеслась по всему Восточному фронту. У бойцов и командиров укрепилась вера в свои силы.
Блюхер радовался: наконец-то пришел успех. В телеграмме командующему фронтом Серышеву он просил «передать всему личному составу, принимавшему участие в Инском бою, глубокую благодарность Военного Совета и Правительства ДВР, выделить отличившихся и представить их к награде».
Белые отступили к станции Ольгохта и спешно стали укреплять свои позиции в районе Волочаевки. Инская группа попыталась на плечах белоповстанческих войск занять Ольгохту, но из этого ничего не вышло.
Окрыленные успехом под Ином, штаб и командующий фронтом Серышев намечали в первой декаде января 1922 года осуществить масштабное наступление в районе Волочаевки с перспективой освободить Хабаровск. Блюхер был против этой идеи. Он считал, что до полного сосредоточения на фронте всей Забайкальской группы и проведения тщательной подготовки наступление начинать нельзя; иначе оно будет безуспешным. Главком предложил свой план операции в районе Волочаевки.
О несогласии с «сырой» идеей командования Восточного фронта и предложении Блюхером своего плана по разгрому белогвардейской армии в районе Волочаевки свидетельствует его разговор по прямому проводу с Серышевым 10 января:
«– У аппарата Серышев.
Блюхер: Здравствуйте, Степан Михайлович!.. Решил вас вызвать к аппарату, с тем, чтобы выяснить задачу ваших войск на ближайшие дни. Прошу сообщить, прежде чем перейти к этим разговорам, обстановку на фронте и ваши предположения.
Серышев: Здравствуйте, товарищ Главком! Вчера в разговоре с вами я уже напоминал о накапливании в Ольгохте, Волочаевке частей 2-го каппелевского корпуса… Всю ночь противник проявлял большую активность и продвижение своих разведпартий к ст. Ин, зажег мост между 2-й и 3-й казармами западнее Ольгохты. Я решил, что дальше мы задыхаться на проклятом участке ст. Ин – Ольгохта не можем, ввиду неимения на этом участке возможности вести какую-нибудь сторожевую службу. Получив от начальника Инской группы удовлетворительные сведения о состоянии наших войск, выявивших большой подъем идти вперед, я дал приказ ликвидировать группу противника на Ольгохте, развивая успех до Волочаевки включительно, ибо считаю нужным надломить 2-й корпус каппелевских войск, чтобы иметь возможность выиграть пространство и время для развертывания благоприятных условий подходящим подкреплениям. Мое мнение: эта операция достигнет успеха. Мосты все исправлены, выезжал на боеучасток с товарищем Томиным. Мой план – захватывать с собой части, по № 31/оп,[18]18
№ 31/оп – оперативный план Военного совета Восточного фронта по разгрому противника в районе Волочаевки.
[Закрыть] только изменяю путь следования Троицко-Савского кавалерийского полка и место его сосредоточения. Полк должен был идти – ст. Ин, Луговская, Забелевский, теперь – Ольгохта, Волочаевка, Самарка, Орловка. Его задача – уничтожить перед собой противника и облегчить нашим пехотным частям овладение Волочаевкой…
Блюхер: Товарищ Серышев, вчера, прося оставить Тро-ицко-Савский полк на ст. Ин, вы мотивировали это тем, что не имеется полной уверенности в удержании ст. Ин в случае перехода противника в наступление… Сегодня вы от вчерашней неуверенности перешли к убеждению, что сможете не только отбросить наступающего противника, но и занять ст. Волочаевку. Свое решение перейти в наступление вы мотивируете тем, что задыхаетесь на проклятом участке ст. Ин – Ольгохта и что не можете на этом участке вести какую-нибудь сторожевую службу. Эти противоречия мне непонятны. Поэтому я вынужден потребовать от вас выполнения следующего плана: перешедшего в наступление противника разбить и отбросить к Волочаевке, не переходя своими частями в решительное наступление до полного сосредоточения кавалерийского дивизиона Читинской бригады в районе ст. Ин. Этот дивизион сменить на ст. Тихонькая сводным отрядом, сформировать который вам надлежит из частей тыла в районе ст. Вира. Второй этап операции должен состоять в следующем: 5-й, 6-й и Особый Амурский полки составляют сводную стрелковую бригаду, которая переходит в наступление по линии железной дороги на Волочаевку. 4-й кавалерийский полк, Троицко-Савский полк, кавалерийский дивизион Читинской бригады составляют сводную кавалерийскую бригаду, обеспечивая успех наступления сводной стрелковой бригады, наносят удар по непосредственному тылу волочаевской группы противника. Отряд Шевчука с этой же целью с севера наступает на Дежневку. Второй этап имеет задачей овладение районом Волочаевки. На выполнение этой задачи мною своевременно будет отдан вам приказ. Без приказа и моего распоряжения наступать не разрешаю. И, наконец, третий этап – овладение Хабаровском и уничтожение противника в районе его – должен начаться только после занятия Волочаевки и проводиться следующим образом: Особый Амурский пехотный полк, 6-й пехотный полк и вся сводная кавалерийская бригада, объединенная командованием Томина, составляют ударную группу и направляются через Новгородское – Ново-Троицкое, захватывая Казакевичево, на ст. Корфовская, разъезд Красная Речка с задачей отрезать пути отступления противника на юг и уничтожить его живую силу. Отряд Шевчука и 5-й пехотный полк составляют группу, задача которой – наступление на Хабаровск по железной дороге. Вот идея занятия Хабаровска и уничтожения в его районе живой силы противника. Она для успешного завершения требует не поспешного и случайного решения, а строгой предусмотрительности и соответствующей подготовки.
Теперь же, т. е. в ближайшие дни, к ней следует подготовляться… Не подготовившись, к решительному наступлению не переходить. Ваш план «31/оп» значительно в деталях расходится с намеченным мной планом, поэтому должен быть отменен, так как намеченная в нем разбросанность частей и отсутствие концентрированного удара по противнику может вызвать неуспех…»
28 января для непосредственного руководства боевыми операциями на станцию Ин прибыл Блюхер вместе с полевым штабом. Впоследствии он вспоминал, что по приезду в Ин сразу же дал задание в 6 часов выстроить войска для осмотра. Комиссар фронта П.П. Постышев возразил ему: «Зачем парад, когда надо воевать? Зря поморозим людей». Блюхер ответил: парад нужен для того, чтобы люди видели, что войск много, чтобы бойцы поняли, что наступило время дисциплины и порядка, без которых ничего нельзя сделать. Во имя этого можно померзнуть на параде. «Проехались по фронту, устроили митинг, и впервые армия прошла церемониальным маршем, – вспоминает Блюхер. – Я сказал Постышеву: «Теперь будем наступать на Волочаевку. Почувствовали регулярную армию?..»
Блюхер с головой ушел в подготовку операции. Фактическое командование фронтов в это время перешло в его руки. Серышев, формально числясь командующим, на практике стал помощником главкома.
Командир Сводной стрелковой бригады, участвовавшей в боях за Волочаевский узел, Я.З. Покус, говорил о Блюхере, что тот поражал его своим трудолюбием и трудоспособностью. Почти ежедневно заканчивал работу в четыре часа утра. Вел беспрерывно переговоры, давал приказания, составлял планы, вникал в самые, казалось бы, мелкие дела. Когда кончался его трудовой день, он любил в кругу друзей за чашкой чая вспоминать эпизоды перекопских боев, уральского похода, задавался планами, делился своими думами. Невзирая на жестокие морозы, главком торопился с завершением подготовки к наступлению. К выполнению этой задачи он подходил не только как военный специалист, но и как государственный деятель – затягивание операции грозило серьезными осложнениями как международного, так и внутреннего порядка.
Датой начала наступления намечалось 10 февраля. Штаб готовил, по плану Блюхера, выдвижение двух групп. Одна группа – Инская (Сводная стрелковая бригада Покуса и партизанские отряды) – наносила удар по Волочаевке по правому флангу и в случае успеха должна была преследовать противника до Хабаровска. Другая – Забайкальская (ею руководил Томин) в составе 1-го и 2-го Читинских пехотных полков, Троицко-Савского кавдивизиона, легкого артиллерийского дивизиона и 1-й Отдельной читинской бригады – действовала по левому флангу в направлении на Верхне-Спасскую и Нижне-Спасскую и в последующем на поселок Казакевичево.
Надо сказать, подготовку наступления осложняло отсутствие у командования НРА точных данных о противнике; разведка, как ни старалась, добыть их не сумела. Было лишь известно, что главные силы белоповстанческой армии расположены в районе Волочаевки, Дежневой, Даниловки.
Что касается белых, то они определенно знали количественный и качественный состав красных войск, места их сосредоточения и намерение в ближайшее время перейти в наступление. Поэтому всеми силами укрепляли оборону и, прежде всего, Волочаевку, стремясь превратить ее в настоящую крепость.
Генерал Молчанов рассчитывал прочно закрепиться в Волочаевке. Она становилась главным стратегическим узлом как для Народно-революционной армии, так и для белоповстанческой. Для НРА она была ключом к Приморью, для белогвардейцев – к Забайкалью и Восточной Сибири.
Волочаевский узел имел выгодную для оборонительных позиций местность. Линия фронта здесь тянулась с севера на юг и пролегала через ряд сопок с господствующей возвышенностью Июнь-Карань, деревню Волочаевку и далее вплоть до реки Амур, заканчиваясь в деревне НижнеСпасской. Общая протяженность фронта – около 20 километров.
Противник стянул сюда свои лучшие части. Оборонительный рубеж состоял из железной изгороди с восемью рядами колючей проволоки. Брустверы из мешков с землей были засыпаны снегом и политы водой; на морозе они сделались скользкими ледяными горками. Пулеметные и артиллерийские площадки располагались на выгодных позициях, подходы к ним были тщательно пристреляны.
Молчанов считал сооруженный рубеж непреодолимым для армии Блюхера. Он говорил: красные расшибут здесь свой лоб; для того, чтобы взять Волочаевку, им надо иметь не менее десяти тысяч бойцов, а у НРА столько войск не имеется.
У Народно-революционной армии действительно столько бойцов не имелось. В 1936 году заместитель командующего войсками ОКДВА комкор М.В. Сангурский опубликовал в «Тихоокеанской звезде» статью к пятнадцатилетию боев под Волочаевкой (он участвовал в этих боях), где указывал, что правительство ДВР из-за отсутствия средств было вынуждено в очень неподходящий момент пойти на сокращение Народно-революционной армии. Это сокращение непосредственно отразилось на боевом составе войск Восточного фронта. К 10 февраля 1922 года против войск Молчанова сосредоточилось 6200 штыков, 1400 сабель. Кроме того, народо-армейцы несравнимо уступали противнику в боевой выучке. И по технической оснащенности НРА была крайне слаба.
Соотношение сил народоармейцев и укрепившихся в Волочаевке белогвардейцев было не в пользу НРА. А, как известно, по теории военного искусства части, ведущие наступление, должны обязательно значительно превосходить обороняющегося противника как численно, так и по своей технической оснащенности. Такого превосходства тут и в помине не было.
9 февраля Блюхер отдал приказ Покусу и Томину быть готовыми в ночь на 10-е начать наступление.
Накануне он направил с парламентером П. Подеревянским письмо командующему белоповстанческими войсками генералу Молчанову, в котором писал: «Какое же солнце предпочитаете вы видеть на Дальнем Востоке? То, которое красуется на японском флаге, или восходящее солнце новой русской государственности, начинающее согревать нашу родную землю после дней очищающей революционной грозы? Какая участь вам более нравится – участь Колчака, Врангеля или Унгерна или жребий честного гражданина своей революционной Родины?.. Я – солдат революции и хочу говорить с вами, прежде чем начать последний разговор на языке пушек… Именем русского революционного народа в последний раз гарантирую вашим солдатам, офицерам и вам сохранение жизни в случае, если вы добровольно прекратите сопротивление и сложите оружие…».
Генерал Молчанов на обращение Блюхера не ответил…
В ночь на 10 февраля войска НРА начали развертываться, а утром – жестокие, полные драматизма и героизма бои.
По воспоминаниям Покуса, Инская группа начала сражение с восходом солнца при трескучем морозе. 5-й пехотный и 4-й кавалерийский полки сравнительно благополучно обошли Волочаевку с севера и достигли проволочных заграждений. Батальон Особого амурского полка атаковал в центре. Одновременно 6-й пехотный полк вышел на противника с юга.
Бой, завязавшийся по всему фронту, стал затягиваться. Артиллерия сильно отстала от пехоты и заняла неудачную диспозицию, наблюдательных пунктов не было. Бойцы изматывались в глубоком снегу. Приданный группе 4-й кавалерийский полк действовать в конном строю не мог. Спешившись, конники прикрывали левый фланг 5-го полка.
Белые оборонялись стойко, умело используя преимущества своей укрепленной позиции. Когда народоармейцы стали преодолевать проволочные заграждения, они обрушили на них ливень ружейного и пулеметного огня. Огонь велся организованно, прицельно, на заранее пристрелянной дистанции. Бойцы десятками падали в снег, скошенные пулями, не успев даже подойти к проволоке.
К 17 часам все атаки частей Инской группы белые отбили. Потери были большие: 428 человек убитыми, ранеными и замерзшими.
В ночь подразделения народоармейцев, участвовавшие в дневном бою, отошли от линии проволочных заграждений на 600–500 метров. Мороз достигал 42 градусов по Цельсию – начались обморожения.
Противник отводил в течение ночи свои войска греться в деревню, у народоармейцев такой возможности не было. Пользовались примитивными укрытиями. В одно из отапливаемых помещений размером не более в 25 квадратных метров свезли до 400 человек раненых и обмороженных. Здесь же проводили ночь главком Блюхер, комиссар Постышев и комфронтом Серышев…
А Забайкальская группа войск Томина, выдвинувшаяся с Ольгохты, заняла поселок Забеловский, выбила противника с разъезда Поперечная. В течение дня она вела упорные бои за овладение селениями Верхне-Спасское и Нижне-Спасское; к вечеру они были взяты.
Инская группа 11 февраля наступление не возобновила. Вели себя пассивно и белые. Блюхер приказал привести в порядок потрепанные части, пополнить их свежими силами, починить железнодорожные мосты, чтобы можно было пустить в дело бронепоезда.
Временное затишье активно использовалось для сбора сведений о противнике. В деревне Архангельское были захвачены оперативные документы, из которых следовало, что командование белоповстанческой армии главный удар красных ожидает не в центре обороны, а на правом фланге фронта. Это подтверждала начавшаяся переброска туда некоторых частей.
К вечеру все мосты, лежащие на пути к Волочаевке, саперы НРА привели в исправность, и к исходным пунктам подтянулись бронепоезда № 8 и 9. Блюхер и штаб фронта принимают решение: с рассветом 12 февраля нанести основной удар по противнику в центре волочаевских позиций и одновременно дополнительный – с юга.
По рассказу одного из участников волочаевских боев В. Голионко, на рассвете 12 февраля по полкам пролетел приказ главкома: «Взять Волочаевку во что бы то ни стало!»
По орудийным сигналам поддерживающих наступление бронепоездов пехота, утопая по пояс в сугробах, двинулась на врага. Скаты господствующей высоты Июнь-Карань с сетью вырытых ям и канав, покрыты снегом; так что все эти рытвины для бойцов были незаметны. Преодолеть такие ловушки под силу не каждому. Когда народоармейцы достигли проволочных заграждений, противник открыл огонь из всех видов оружия. Но остановить их было уже нельзя. Они ломали рогатки, рубили колючую проволоку лопатами, топорами, рвали прикладами, руками…
Массированный огонь скосил первые цепи атакующих. На смену им накатывались новые; пехотинцы рвались вперед, падали, вставали, ползли на четвереньках. Ободряющий клич командиров то затихал, то вновь раздавался, переходя в ревущее «ура» бойцов.
Наконец, красные артиллеристы меткими залпами подавили наиболее опасные огневые точки врага, пробили несколько брешей в заградительных проволочных рядах, куда тут же устремились атакующие. Белые дрогнули. Их бронепоезд, обстреливавший наступавших с фланга, начал отходить. Покидали окопы и стрелки переднего края обороны. Сопротивление белоповстанцев было сломлено. Командная высота Июнь-Карань пала.
Войска Молчанова оставили станцию и поселок Волочаевку, спешно проскочили Хабаровск, боясь быть отрезанными от спасительной для них «нейтральной зоны», контролируемой японцами. Обходная колонна Забайкальской группы Томина, преодолевая тяжелые условия местности и бездорожья, нанесла ощутимый удар по левому флангу белоповстанцев, и теперь угрожала закрыть им путь в Приморье. Молчановские части задержались у станций Розен-гартовка и Бикин. Здесь они оказали народоармейцам упорное сопротивление.
Блюхер, чтобы избежать бессмысленных новых потерь, послал генералу Молчанову второе письмо,[19]19
См.: Приложение.
[Закрыть] где снова призвал «сложить братоубийственное оружие и закончить последнюю вспышку гражданской войны». И вновь генерал не отреагировал на миролюбивые предложения Блюхера…
И тогда войска НРА всей своей мощью обрушились на закрепившихся под Розенгартовкой и Бикином молчановцев. Потерпев разгромное поражение, белоповстанческие части покатились дальше на юг, под защиту интервентов…
Это была победа. Нелегко она досталась, за нее заплачена дорогая цена. Но, может быть, иначе достичь ее было нельзя.
Блюхер, осознавая вину за непомерно большие потери, приказал собрать тела всех погибших и похоронить в братской могиле на вершине сопки Июнь-Карань. Над могилой поставить памятник, достойный их славы.
Доблесть, стойкость и отвага многих народоармейцев была отмечена высокими наградами. За особо проявленные мужество и героизм 6-й стрелковый полк был награжден орденом Красного Знамени и переименован впоследствии в 4-й ордена Красного Знамени Волочаевский полк. Орденом Красного Знамени был также награжден бронепоезд № 8.
Бои под Волочаевкой многие современники сравнивали с перекопскими боями и называли Волочаевку дальневосточным Перекопом. Как на юге России со взятием Перекопа был нанесен сокрушительный удар врангелевщине, так теперь на Дальнем Востоке под Волочаевкой нанесен окончательный удар белогвардейщине и интервенции.
Василий Блюхер так определил историческое значение этих боев: «Значение Волочаевки заключается в политическом понимании событий. Тогда решался вопрос о судьбе Дальнего Востока, окончательной ликвидации интервенции против нашей страны. Японцы при помощи марионеточного белогвардейского правительства (во Владивостоке) рассчитывали превратить Дальневосточный край в свою колонию. В целях укрепления его позиции, поднятия международного престижа они накануне Вашингтонской конференции бросили белогвардейскую армию в наступление. В случае успеха они заявили бы на конференции о том, что на Дальнем Востоке есть русское правительство, которое просит их остаться…
Разбив белогвардейскую армию и прогнав ее обратно под защиту японских штыков, мы перед всем миром показали, что на русском Дальнем Востоке нет иного правительства, кроме правительства Читы, то есть Дальневосточной республики. Этим самым мы вырвали у империалистов и белогвардейцев повод для того, чтобы просить японцев «сохранить порядок» на Дальнем Востоке.
Второе значение Волочаевки заключается в том, что в ходе подготовки к этому решающему бою мы по-настоящему поставили вопрос об организации кадровой армии. Волочаевка была рубиконом между недостаточно организованной партизанской борьбой за советский Дальний Восток и зарождением регулярной армии».
После боев под Волочаевкой и освобождения Хабаровска война на Дальнем Востоке не закончилась. Предстояло освободить Южное Приморье. Но эту задачу Блюхеру решать не пришлось, в июле 1922 года он был отозван Реввоенсоветом Республики в Москву. Вскоре вместо него в ДВР прибыл Уборевич.
Дальний Восток Блюхер покидал со щемящим сердцем. Прощаясь с бойцами и командирами НРА, он говорил: «С любовью и преклонением вспоминаю и буду вспоминать всегда боевые страницы истории нашей геройской армии, покрывшей в зимнем амурском походе 1921–1922 годов боевые знамена революции новою славой… Расставаясь с вами, родные красные орлы, я уношу в своем сердце горделивую радость достигнутых вами побед…»
В связи с отъездом Блюхера из ДВР газеты отводили целые страницы рассказам о нем. Правительство ДВР на специальном заседании устроило торжественное чествование Блюхера. За огромный вклад в создание регулярной Народно-революционной армии, за умелое руководство войсками при разгроме белоповстанцев Совет министров Дальневосточной республики зачислил В.К. Блюхера навсегда почетным бойцом Народно-революционной армии, с занесением в списки 1-й роты 4-го Волочаевского ордена Красного Знамени стрелкового полка.
Секретариат Дальбюро ЦК РКП(б) на своем также специальном заседании принял постановление № 47 от 11.07.1922 г. об отъезде В.К. Блюхера – Главкома и Военмина ДВР в Советскую Россию: «Ввиду отъезда т. Блюхера Секретариат Дальбюро считает необходимым констатировать, что военная работа в ДВР т. Блюхера в продолжение года была основана на твердых принципах создания регулярной боеспособной дисциплинированной армии и направлена к планомерному изживанию партизанства в армии.
В тяжелых экономических условиях при сохранившемся в 1921 г. глубоком партизанском настроении в Народно-революционной армии т. Блюхеру вместе с Военсоветом НРА удалось достигнуть решительного перелома в настроении народноармейских масс и вести упорную борьбу с регулярными белогвардейскими войсками в Приморье, нанеся им крупные поражения.
Работу по организации Народно-революционной армии ДВР, которая прошла под руководством т. Блюхера, Секретариат Дальбюро считает первой правильной и планомерной работой, которая была проделана за время существования ДВР.
Это постановление внести на утверждение Дальбюро и сообщить в ЦК РКП и в копии Реввоенсовету РСФСР».
Уезжал Блюхер из ДВР с семьей, которая за год жизни здесь увеличилась вдвое.
Как мы знаем, дочь Блюхеров Зоя умерла по пути из Одессы в Читу. Смерть малютки не выходила из головы Галины. Она так хотела ребенка, и когда он появился – счастье продлилось всего десять месяцев… Летом в Забайкалье из голодающего Поволжья пришел состав с детьми-сиротами. Изможденных ребятишек распределяли по приютам, многие местные жители брали их в свои семьи. Василий предложил жене взять ребенка. Галина с сестрой Варварой поехали на вокзал. Вскоре они привезли в дом худенькую девочку. «Это Катя, – сказала Галина. Глаза ее впервые за долгое время улыбались. – Она круглая сирота. Будем растить ее, как родную дочку».
А весной 1922 года Галина родила сына. Радости не было границ. Мальчику дали имя Всеволод.
Командир 1-го стрелкового корпуса
Из Дальневосточной республики Блюхер был переведен в Петроград. Как ни просил он руководство Реввоенсовета Республики командировать его на учебу в Академию Генерального штаба или назначить на небольшую должность, с тем, чтобы иметь возможность учиться, просьбу его не удовлетворили. Красной Армии, объясняли ему, сейчас нужны опытные, преданные советской власти командиры. Он был назначен командиром-комиссаром 1-го стрелкового корпуса, который только начинал формироваться из дивизий, оказавшихся после Гражданской войны на территории Петроградского военного округа.
Об этом своем назначении Блюхер позже писал в служебной анкете:
«– Назначен комкором 1 стр. корпуса, приказ РВСР № 181 от 26/08 – 1922 г. и вступил в командование корпусом 30/09-1922 г. по август 1923 г.
Назначен ВРИД начальника гарнизона гор. Петрограда с исполнением обязанностей командира 1-го стр. корпуса – 1923 г., 27 апреля.
Убыл в гор. Москву в распоряжение нач. воен. морской инспекции т. Гусева для работ по заданиям инспекции – 1923 г., 6 сентября.
Вступил в командование 1-м стрелковым корпусом по возвращении из командировки в гор. Москву. Назначен комендантом Ленинградского укрепрайона– 1924 г., февраль – апрель».
Части будущего стрелкового корпуса были расквартированы в Петрограде и его окрестностях. Между собой никак не контактировали и подчинялись напрямую штабу округа. Предстояла большая организаторская работа, которая с первых дней всецело поглотила Блюхера.
Вместе со своим заместителем – Я.Ф. Фабрициусом – он занялся сплочением частей, наведением в них воинского порядка. На первом плане стояла задача всемерного повышения боевой готовности и боеспособности войск корпуса, строительства новых укреппозиций.
Кроме этого, Блюхер исполнял возложенные на него хлопотные обязанности начальника гарнизона Петрограда. Это было серьезная дополнительная ответственность, которую он нес на своих плечах.
Новая служба требовала не только больших физических и моральных сил, но и соответствующих новому времени знаний. Сказывалось то, что у Блюхера нет академической военной подготовки. Да и вообще за годы, которые прошли для него в напряженной боевой обстановке, он крепко отстал. У него, конечно, грамотешка не ахти какая: за плечами всего четыре класса церковно-приходской школы и годичные курсы в университете Шинявского. Но даже из того, что имел, подрастерял немало. Необходимо основательно заняться повышением общеобразовательного уровня. Здесь, в Петрограде, для этого имелись прекрасные возможности: библиотека Главного штаба, Публичная библиотека. Блюхер поставил цель: заниматься пополнением знаний по жесткому графику – по часу, по два часа в день. Составил специальное расписание занятий по русскому языку, математике, физике, географии, истории, философии и строго ему следовал. Одновременно постоянно штудировал вопросы военного дела.
Василий Константинович редко бывал дома с семьей; больше находился в дивизиях, полках, ротах.
Однажды, вспоминал Маршал Советского Союза ПК. Жуков, в полку, которым командовал он в 1923 году, совершенно неожиданно появился комкор Блюхер. «Я очень много о нем слышал, но встретился с ним впервые. Встреча с В.К. Блюхером была большим событием для всех бойцов и командиров полка. К нам его пригласил посмотреть учебно-воспитательную работу комдив Г.Д. Гай…
Прежде всего, В.К. Блюхер тщательно ознакомился с организацией питания личного состава и остался доволен приготовлением пищи. Уходя из кухни, он крепко пожал руки всем поварам. Надо было видеть их лица! Потом обошел все общежития и культурно-просветительные учреждения полка и в заключение осмотра спросил:
– Как у вас обстоит дело с боевой готовностью? Ведь вы стоите недалеко от границы.
Я ответил, что личный состав полка хорошо понимает свою задачу и всегда готов выполнить воинский долг перед Родиной.
– Ну что ж, это похвально. Дайте полку сигнал «тревоги».
Этого я, откровенно говоря, не ожидал, но не растерялся. Обращаясь к дежурному по полку, приказал:
– Подайте сигнал «боевой тревоги».
Через час полк был собран в районе расположения. В.К. Блюхер очень внимательно проверил вьюки всадников, их вооружение, снаряжение и общую боевую готовность. Особенно тщательно он осмотрел пулеметный эскадрон и сделал довольно суровое замечание одному пулеметному расчету, у которого не была, как положено по тревоге, залита вода в пулемет и не имелось никакого ее запаса.
– Вы знаете, к чему эта оплошность приводит на войне? – спросил В.К. Блюхер.
Бойцы молчали и порядком краснели… После отбоя В.К. Блюхер обратился к полку:
– Спасибо вам, товарищи бойцы и командиры, за честный солдатский труд… Будьте всегда готовы выполнить боевой приказ нашей великой Родины!
В ответ раздалось «ура!». Было видно, что бойцов тронули и взволновали теплые слова В.К. Блюхера.
Я был очарован душевностью этого человека. Бесстрашный боец с врагами Советской республики, легендарный герой, В.К. Блюхер был идеалом для многих. Не скрою, я всегда мечтал быть похожим на этого замечательного большевика, чудесного товарища и талантливого полководца…»
И все-таки Блюхер находил время, в основном в выходные и вечерние дни, чтобы вместе с женой гулять по городу, в котором он жил и работал более полутора десятка лет назад в годы своей юности. Они регулярно посещали с Галиной театры, кино, музеи. Дети оставались дома с домработницей Нюрой…
С бывшей домработницей Блюхеров Нюрой я по счастливой случайности встретился в 1988 году, будучи в Ленинграде в гостях у Зои Васильевны Блюхер. Узнал о ней не от дочери Василия Константиновича, а от знакомого журналиста. В Кронштадте, в местной газете «Рабочий Кронштадта» была опубликована одна историческая фотография семьи Блюхера и любопытная история о ней.
Итак, скорее – в Кронштадт. Через пару часов я был уже в редакции и держал в руках номер газеты с любопытным фотоснимком и небольшой заметкой под ним. Автор заметки корреспондент «Рабочего Кронштадта» Е. Пантелеева, рассказывала, как недавно появилась в редакции пожилая женщина, Анна Дмитриевна Городишина. Опираясь на палочку, она преодолела порог и не спеша стала развязывать перехваченный веревочкой бумажный сверток. В свертке оказалась слегка поблекшая фотография. Снимок был сделан в 1924 году, в фотосалоне П. Жукова на углу Невского проспекта и Морской улицы, о чем говорила фигурная виньетка владельца салона. Фотография пошла по рукам журналистов редакции. Вдруг кто-то произнес удивленно: «Да ведь это же Блюхер!»
– Блюхер, он самый, Василь Константиныч, – спокойно подтвердила гостья, как само собой разумеющееся.
– Откуда у вас эта фотография?
И Анна Дмитриевна поведала, что в двадцатые годы она была домработницей у Блюхеров, когда те жили в Петрограде. Это подтверждала и надпись на обратной стороне снимка: «Нюре – в память прожитых дней вместе. Г. Блюхер. 12/02-24 г. Петроград». Анна Дмитриевна с гордостью сказала, что карточку ей подарила и подписала сама Галина, жена «Василя Константиныча».
Позже мы вместе с корреспондентом «Рабочего Кронштадта» побывали дома у Анны Дмитриевны. Жила она в центре Кронштадта в небольшой, скромно обставленной квартире. Несмотря на свой восьмидесятисемилетний возраст старушка была бодра. Усадила за стол, угостила чаем. За чаем разговорилась. Как попала она в семью Блюхера? В Гражданскую войну Анна осталась без родителей. И брата с сестрами раскидало по свету. В 1923 году она узнала от односельчан – в деревне (названия Анна Дмитриевна не помнила) под Петроградом брат объявился, и отправилась его разыскивать. Приехала туда, но брата там не нашла. В той деревне как раз гостила у своих родственников Галина Павловна Блюхер. Она и предложила девушке-сироте Анюте поехать с ней в город.