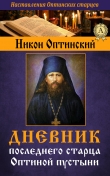Текст книги "Никон из заимки"
Автор книги: Н Ляшко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ляшко Н
Никон из заимки
Н.Ляшко
НИКОН ИЗ ЗАИМКИ
I
Когда-то здесь стояла охотничья избушка Пимена Кипрушева. Когда Пимена не стало, рядом с избушкой поставил двор его внук Никон, со вдовым отцом. В соседи к нему из села перекочевали охотники, – вот и заимка.
С дороги, что перерезали топи, мочежины и речушки, сюда чуть-чуть доносились звуки колокольцев. В погожую пору из-за поля виден был станок, – там проезжие меняли лошадей, пили чай, водку, ругались, спешили, а на заимке неторопливо ставили на горностаев и лисиц капканы, ловушки; выслеживали лосей и медведей; убивали рябчиков, белок, зайцев, тетеревов, глухарей, уток; сушили и солили грибы; мочили бруснику и морошку; ловили рыбу; пахали, сеяли, косили.
За весенним гудом воды приходили белые ночи и пахучая парная теплынь. Потом подкрадывались свежесть и сутемь. По неделям не показывалось солнце, крепчали ветра, шли дожди. Вдруг черноту земли задергивала белизна заморозков, и начинались снега, вьюги. Все сжималось, потрескивало и ждало весны.
В осенние и зимние сумерки заимка пугала проезжих: куда глаз хватал-темнела хвоя, в гущере выло, лес Стерег отброшенное небо и шипел вершиной, – сиротливо, угрюмо, холодно.
Но вволю топились на заимке печи. Пар румянил в банях лица. Лучины золотом заливали стены. Пальцы мастерили сети, рты плели сказки. Домодельное пиво, студеные ягоды хмелили головы и звенели в песнях. Лес, что дом, – только лыжи поскрипывали.
Первым на заимке был Никон. Руки у него короткие, цепкие. Золотистые глаза глядели так, будто все должно было улыбаться под взглядом внука славного охотника Пимена. Маленькие уши оттесняли золото волос.
Говорил Никон мало, но отец, жена и дети-а дети у пего были малы: Настя тринадцать лет не рожалапонимали его с полуслова.
Он знал, что слывет среди соседей и сельчан счастливым, не спеша справлял покос, жатву и с коричневой, сонливой на заимке и чуткой в лесу, Буркой уходил в лес.
Охоту он вел дерзко, хмелел на ней и никогда не возвращался из леса с пустыми руками.
Заимцы верили, что он знает какое-то слово, что слово это передал ему Пимен. Простачки даже заговаривали об этом с Никоном, но он притворялся, будто не понимает их. Да и вообще о себе он никому, даже своим, не говорил. Приносил добычу, здоровался, садился за стол, – и все. Это притягивало к нему: его дом, его семья были на виду, а вот сам он всегда в дымке: что он видел? о чем он думает? – кто его знает.
Правда, заимцы все были молчаливы, но во хмелю плели, что взбредет на ум, и становились похожими друг на друга. А Никон пил только пиво, от пива в голове у него легоньким ветерком играло веселье, в голос вступал звон, в глаза-усмешка, – и только.
Пьяным он был один раз, в молодости, при деде. Напился у Пелагеи-она родила от него сына-и еле добрался до двора. Дед сердито спросил его:
– Не совсем ошалел?
– Не-э-э...
– Так бери в голову, что скажу: будешь бражничать, не будет тебе добра. На Акима не гляди: отец он тебе, сын мне, а глупой, жидкой. У него от вина руки мочало, в голове кисель, язык-осклизлый гриб. Ты на деда, на деда, на меня гляди. Али дурак?!
Никон полез к деду целоваться:
– Матерый ты наш, я тебя...
Дед оттолкнул его и ожег голубовато-серыми глазами:
– Не гомози, тверезый приходи с обнимками. А с таким тошно мне. Кабы знатье, что пить будешь, сломал бы я тебя своими руками... понял?
Это укололо Никона. Он сквозь хмель понял, что не ум отличает деда от со пей он, не дорожи словами, не хорони чего-то в себе, был бы он, как все. И еще Никон понял, что в нем, в Никоне, деду дорого все крепкое, трезвое, негнущееся. Ему стало душно, стыдно и зябко, будто дед окатил его ледяной водой и поднес под сердце горящую свечку. Он заплакал, дал зарок не пить, бросил Пелагею с маленьким Егоркой, взял в жены Настю и по смерти деда перебрался в лес.
II
Однажды на станке нехватило лошадей, – Аким повез кого-то в село и запропастился, – не на чем было съездить на озеро вытрясти из морд рыбу. Кланяться соседям Никон не захотел, взял пешню1, топор, заряженную дробью двустволку, запрягся в охотничьи санки и, чтоб скорее дойти, тропками и полянами покатил на лыжах через лес.
За ним увязалась Бурка.
Пешня-железный короткий лом, с трубкою для деревянной рукояти-рыбаками употребляется для колки льда.
Шли они целиною снегов и щорнаньем лыж и веток резали морозную тишину. У березняка, что упирался в морошечное болото, взлетели тетерева. Бурка и Никон загорячились и побежали за ними. Санки подпрыгивали на сугробах, стучал черенок пешни, с веток падал и переливался снег. Стрелять оба раза пришлось в лет. Бурка принесла тетерева и тетерку в блестках кровавого снега.
– Вот тебе и жарено-варено. Будет, айда!
За поворотом к озеру Бурка неожиданно остановилась, вздыбила шерсть, потом забежала вперед и, касаясь мордой голенища, тревожно взвизгнула. Никон огляделся и в удивлении шепнул:
– Эка штука.
Они были рядом с жилой медвежьей берлогой. Возвращаться за рогатиной Никону не хотелось, – в виски уже стучало, руки сводил зуд. Он дал знак Бурке, чтоб она молчала, в кармане нашел две пули, зарядил ружье, помахал пешней и шепнул:
– Ничего, возьмем.
Бурка завиляла хвостом. Он толкнул под елку санки, вырубил длинный шест, рукою послал Бурку вперед и двинулся за нею.
Бурка остановилась против дыры в буреломе и корнях упавшей ели.
– Годи, – шепнул ей Никон.
Берлога выступала из-под снега продолговатым горбом. Никон кинул на нее шест, ослабил лыжи и, подчиняясь стучавшей в виски крови, крякнул. Из берлоги раздалось тихое урчанье.
Никон взлетел на-сугроб, ухватился за лапчатые корни, пешнею и лыжами обтолкал вокруг себя снег, подпрыгнул а крикнул:
– Аля!
Крик подхватили ближайший овраг и Бурка. Никон запустил в берлогу шест и начал водить им. Урчанье окрепло, перешло в рев и стало разноголосым: ревело двое, третий скулил.
"Вот чудно", – отметил Никон. Под ним сухо затрещало дерево, кто-то хватался за шест. Никон вырвал его, еще раз ширнул им и изо всей силы воткнул его в берлогу, отбрасывая конец к Бурке:
– Аля! Аля!
Из берлоги с ревом выпрыгнул медведь, похожий на старика в малице. За ним выбрались матка и неповоротливый пестун. Медведь метнулся к Бурке, а матка засновала глазами по коряге. Никон вынул из лыжи ногу, стал на колено, прицелился и выстрелил. Матка взревела, кинулась к медведю и рухнула, ерзая лапами. Пестун удивился расползавшемуся подле нее красному пятну и заурчал.
Медведь раскрыл пасть и полез к сугробу. Никон уже готов был к встрече с ним, но, спуская курок, коленом ушел в снег и дернулся от колючего холодка в сердце, мимо. Сквозь пороховой дым видно было, как медведь махнул лапой, а медвежонок взревел, кувыркнулся и, корячась, смешно осел в снег.
Никон вскочил, схватил пешню и вынул из-за пояса топор. Из разинутого рта медведя густо шел пар. Маленькие глаза его ввинчивались в зрачки Никона и готовы были вспыхнуть. Рев сплетался с лаем Бурки и будил окрест трескучие отзвуки. Никон сильнее вдавил в снег лыжи и, готовясь, если понадобится, выпрыгнуть из них, кричал:
– Бурка! Аля! Аля!
Бурка взметнулась и зубами схватила медведя за зад. Тот рявкнул и полуобернулся. Одним глазом он глядел на Бурку, другим на корягу. Никону хотелось кинуться, вонзить в него пешню и секнуть топором, но голос предостерегал: "Не ровное место: упасть можно".
Медведь разворачивал снег, увязал в нем, а Бурка все лаяла и норовила подкатиться к нему сзади. Он поворачивался, свирепел, мотал головою и, махая передними лапами, неуклюже тыкаясь мордой в снег, погнался за Буркой.
Никон усмехнулся, а когда медведь и Бурка скрылись за елками, ринулся с сугроба, налетел на пень, и-хрясь! – лыжа сломалась и краем, державшимся на меховой обшивке, ушла в снег.
Никон выругался и, осторожно двигая лыжами, заспешил к санкам. Там он веревкой захлестнул край сломавшейся лыжи и, не выпуская из слуха лая Бурки и рева медведя, побежал.
На тропе он заложил в рот два пальца и свистнул.
Бурка догнала его и виновато завиляла хвостом.
– Сыщется, не уйдет, – ласково и тоже виновато утешил ее Никон.
III
Заимские собаки тянулись к Кипрушевым на запах крови и медвежью сырость. Скотина тревожилась, а в избах дивились удаче Никона и тому, что в такой близи лежала матка с пестуном: рядом стояли ловушки, сбоку шла тропинка к приречным тальникам, где водились горностаи.
– Это согнали ее где-нибудь, она и забрела с шалости, облежаться не успела...
– Во-от, вот, – посмеивались бабы, – вам бы облежанную ее! А Никон и так учуял...
– Что ж и учуял, раз счастливый.
– И тверезый, не вам чета.
– Тверезый что? Это от деда у него...
Никон успел уже починить лыжи, за овином погонялся на них за Буркой и лег спать. А на заре кинул в кожаный пестёрь шанег, снарядился и пошел в лес. Рассвет прояснял снега.
Ночью легонько мело, и следы медведя были смутными. На открытом месте, у озера, они спутались и пропали. Бурка плутала по оплотневшему снегу и с визгом проваливалась. На след напасть удалось после полудня, да и то не наверное. Медведь обогнул озеро, выбрался на большую дорогу и с версту шел в сторону заимки, а узнать, куда свернул он, помешали сумерки.
Никон покормил усталую Бурку, подбодрил ее:
– Ничего, наш будет! – и побрел во-свояси.
Впереди заплакал колоколец. Двойка рысью тащила пошевни с накладушкой. Седока не видно было. Правил знакомый мужик.
Из его глаз, от заиндевелых лошадей пахнуло селом.
Никон посторонился и крикнул мужику, чтоб он попросил Настиного брата Герасима приехать в воскресенье.
– Медведя, мол, скопытил Никон!
С мыслью о медведе Никон подошел и заимке и поужинал. Перед сном он сказал Насте:
– Получше обряди все к послезавтрему-люди позваны.
IV
Первыми на пирушку пришли заимцы, потом приехал Герасим, а чуть погодя в воротах запестрела цветочками дуга гнусавого лавочника Карпа, бахвала, бабника и надувалы.
Пока Настя накрывала стол, гости оглядели-на сарае шкуры медведицы и пестуна; За стол сели степенно и выпили купленной на станке водки. После щей, медвежатины, рыбников [Рыбник – запеченная в тесте рыба], шанег и киселя заговорили об удаче Никона: как да что?
Он долго отмалчивался и скупо, нехотя рассказал, как погнался за тетеревами, как остановилась Бурка, как он досадовал, что нет рогатины, обо всем рассказал, утаил только, что матка и пестун в берлоге были не одни.
Рассказывая, он гладил бороду, представлял себе медведя, похожего на старика в малице, улыбался и верил: не другой кто, – он уложит медведя, он сдерет с него шкуру, у его двора опять будут визжать заимские собаки.
– Махонький, на двойню с пешнею пошел! – горделиво укорил Аким.
Старики подхватили: беречь, мол, надо себя, медведь не жена, не мать, обнимет, не возрадуешься, или забыл?
Старики вспоминали разные лесные случаи. Появились новые бутылки, чашки с моченой морошкой, берестяное корытце с брусникой и туеса с пивом. Насте помогали Аким и Герасим. Никон оглядывал говоривших, не открывая рта, поддакивал, тянул пиво, заедал его морошкой и вкусно обсасывал усы.
Девки и парни шастали из избы на крыльцо, обратно, пели песни и плясали под гармонь. Изнутри дверь поддавало паром, она стонуще хлопала, и свет солнца в узорах заледенелых окон вспыхивал. Заимцы уже гремели корцами и наперебой вспоминали:
– Вот когда был Пимен, сколько зверя было...
– А горностаев, а лебедей...
– Птица какая водилась! Мало кто и видел ее. Пимен вот разве, он все видел...
– А какие гуси.. Не чета нынешним. Куда-а!
– А черные лебеди, а...
Никон слушал и дивился: "Эк их разбирает, беда, право". Голубоглазый Губин дергал его за рукав и звал на дальнюю реку ставить ловушки. Никон отговаривался и неожиданно заметил, что слова его как-то чудно соскальзывают с языка и звучат не так, как надо. Изнутри их что-то подгоняло к горлу, закатывало в слюну, задерживало, а пока язык шевелился, дымком отгораживало от мыслей и будто травинкой стегало по сердцу.
Никон шепнул Насте, чтоб она открыла вьюшку, и опять затревожился: Настя так кивнула, так глянула на него, что ему захотелось схватить ее, привлечь к себе и засмеяться.
"Что это я?" – спохватился он и в досаде крепко дернул себя за бороду, но в темя его стукнуло, заволокло голову туманом, и пальцы разжались. Ему вдруг захотелось заставить всех слушать себя. "О чем бы рассказать им?" натужился он и потерял нить мысли.
Лица и посуда посмутнели, стены отдалились. "Гудит головушка", нахмурился он, припадая к корцу, и опять удивился: почему никто, кроме него, не жалуется на чад?
Он стал вглядываться в лица, тут же забыл, зачем делает это, подумал, что надо есть соленое, налитыми огнем пальцами отломил кусок рыбника, заметил, как Герасим кивнул кому-то, и глянул на Губина.
– Ты что? – спросил тот.
– Чадно, бра-а-ат, – безвольно протянул Никон и, не узнав своего голоса, сомкнул челюсти.
Герасим подлил ему пива и зашептал:
– Карп шкуры купить прикатил, смекнул? Не продешеви.
От Герасима пахнуло водкой и одурманило Никона.
"На ветер надо", – решил он, привставая, но хмель толкнул его в спину, сломал колени и бросил обратно на скамью.
Карп протянул в его сторону похожую на корягу руку и захлюпал:
– Н-на-ализался, гли, кх-к-х-кхи-и-и...
Все глядели на Никона, смеялись, кричали и хлопали руками. Губин радостно обнажал зубы и в смехе рвал слова:
– Ни-ни-хе-хе-хе... не-не-встане-е-о-хо-охо!..
Игравший на гармонике парень весело сиял череа плечи зубами. Никон видел открывающиеся, закрывающиеся рты и блесткие пятна вместо глаз. Он уже понимал, что пьян, хотел улыбаться и не мог. Хмель обвертывал мысли, мутил голоса и визг гармоники. И все же он вспомнил: Герасим и соседи не раз похвалялись исподтишка напоить его. Он вспыхнул, поднял руку и опустил ее на стол:
– Ша!
Рука упала резко, как чужал. Подпрыгнули чашки, туес хлюпнулся на бок, и на скатерти, как на снегу, стало разрастаться коричневое озеро. Герасим сбоку обнял Никона и, целуя его, сквозь смех закричал:
– Привел создатель! Вот ты пьяный какой!
Никона вновь обволокло пьяным удушьем. Он оттолкнул Герасима и потянулся к Насте:
– Насть! -Что сделали?! Напивши я... Насть!
Карп схватил его за локоть, заговорил о стыдном и потянул из-за стола:
– Баба не уйдет! Ты попляши-от, попляши! Ходи, ну, гармонь...
Гармонь захлебнулась, с губ Карпа на лоб Никона упал клок слюны и будто ожег его. Он широко раскрыл рот:
– Чего плюешься?! – вскочил и ударил Карпа по лицу. – Я смиренный, так вы так?! Спаивать!.. и зять!..
Карп отшатнулся и окрасил руки капающей из носа кровью. Никон рванулся к нему. Губин и Герасим перехватили его, но он схватил скамью и, красный, страшный, начал размахивать ею и, как на охоте, кричать:
– Аля! Аля!
Все шарахнулись к двери, он погнался за ними, лбом угодил о печку и пришел в себя только в конце дня, под тулупом, на лавке.
На полу валялись осколки посуды, опрокинутые скамьи, пироги, шаньги. У двери лежал парень с полотенцем на лбу. "Это я его убил", – испугался Никон, спуская с лавки ноги. Шорох на полатях испугал его еще сильнее: "Ох, дети все видели, срамота!".
Он растерянно напялил попавшийся под руку треух и открыл дверь.
На черной половине гудели голоса. Он прошел в сарай и остановился. "А куда мне?" Скрип двери толкнул его к сену, на скат, на огород, в сугробы, и он побежал к станку. Поясок всполз кверху, холод лизал и коробил потную рубаху.
Выбежав на дорогу, Никон заколебался, – ведь на станке придется рассказывать, как он убил, – и повернул в сторону села.
Ветер подгонял его в бок. Из-за елей с озера в глаза плеснулась залитая светом ширь. На ней пятнами синели тени сугробов и золотился в вечернем солнце ивовый куст.
Вдоль дороги монашенками качались наклоненные вешки, а эа ними самоцветным дымком извивалась поземка.
"Метет", – подумал Никон и свернул на просеку.
Ноги сползали о вылощенных полозьями лент дороги. Из-под треуха, из валенок уходило тепло. Никон загибал, тискал подмышки руки, размахивал ими, обессилев, скрипнул зубами и ринулся к речке, на. мельницу.
Все быстро куталось в дымок и смутнело. На мостике Никон оскользнулся, перебежал его и стукнул в дверь мельницы. Среди лопастей пискнул отзвук-и все. Хмель уже вымерз из головы. Никон застучал в дверь ногами, коленом, крикнул и побежал на дорогу, под ветвеной -свод. В небе уже качались звезды, потом проглянула дуна, на дороге заиграли пятна и полосы света. Впереди что-то треснуло и обрадовало Никона: навстречу, путая лунную паутину, кто-то двигался.
Никон открыл рот, чтобы назвать мельника по имени, но тут же обомлел, кинулся назад, вправо, влево, сошел с дороги и опустил руки: на него шел медведь, тот самый, самку и пестуна которого он убил.
Озноб скрутил Никону руки и притянул к голове кровь. Из валенок юркнуло последнее тепло, и ресницы опустились. Медведь приближался с расстановками и нюхал холод. "Учует мой дух, узнает", – содрогнулся Никон, ловя скрип снега под лапами. Сиплое дыхание придвинулось, зазвучало рядом и задуло в Никоне думы и набегавшую на язык молитву. Воздух показался ледяной водой, готовой закружиться, сломать его, Никона, смешать с лесом, с мерзлой землей и умчать во тьму.
Сердце тоскливо сжалось: "Ходит один, скушно ему".
Глаза под сомкнутыми веками заныли от желания собрать силы и, если медведь тронет, сопротивляться, душить его, засунуть ему в горло руку. Так, верилось, легче будет умирать.
И тут же показалось, что ничего этого нет, что ему мерещится, будто за его спиною звенит тишина, а на него дышит медведь. Ведь только во сне внук покойного Пимена может стоять перед медведем с закрытыми глазами.
Никон открыл глаза и застучал зубами. Из-за вершины ели вкованная в небо луна обливала медведя светом.
Остинки шерсти на ушах его белесились. Тень лохматой головы упиралась Никону в ноги, глаза, отделенные косой полосою света, сторожаще мерцали. Медведь глядел Никону в лицо и, мнилось, узнавал его. Никону хотелось опять закрыть глаза, но он не мог сделать этого, – веки не повиновались.
На луну наплыло облако, и медведь шевельнулся.
Кожа на голове Никона как бы покоробилась, и весь он стал искоркой, которую сейчас схватит и погасит выгнанный им из берлоги зверь.
Луна выглянула, медведь сузил глааа и глухо чихнул, подавшись мордой вперед. По телу Никона пошла резь, в глазах засновали змейки, будто сбоку вспыхнула лучина.
Никон напружился, но медведь отступил от него, задом медленно пошел прочь, свернул с дороги и, как бы хватая на снегу пятна света, заторопился в ельник.
V
Никона подобрали во дворе Герасима, у колодца, утыканного опрокинутыми к земле сосульками. Возле него ало кружилась собака и царапала свою тень. Никон отбивался от людей, а в избе оторопело водил глазами и не понимал: замерзает он и видит сон или вправду лежит в тепле?
Его растирали, а ему казалось, будто из его рук и ног выдергивают жилы. Он корчился, ерзал по тулупу головою и взвизгивал. Вернувшийся с заимки Герасим начал, было, рассказывать ему, как его искали на заимке, и умолк:
Никон, не мигая, глядел на него вытаращенными глазами, а главное-на его голове, которая еще сегодня была рыжей, клочьями серебрилась седина.
Чай Никон пил жадно, ронял на стол блюдце и испуганно выпрямлялся, когда у него брали чашку. Пил он много, но согреться не мог, а когда его одели и поставили на ноги, в ужасе попятился от распахнутой двери и замахал руками на клубы пара из сеней.
Его под руки вывели на двор, усадили в сани, и лошадь помчалась вдоль изб, к плывучей над лесом луне. Герасим хлопал кнутом и жалел.что не подвесил к дуге колокольца:
сверкавшие в тени треуха глаза Никона пугали его.
– Ты,Никои,не обижайся! – закричал он;-Мывшутку подлили тебе в пиво спирту. Слышь?
Никон не отозвался.
– Слышь?
Глаза Никона светились неподвижно. Герасим гикал и свистал, пока впереди не забрехали заимские собаки.
VI
Чьи-то губы касались волос, щек, лба и звенели в уши:
– Седой-от ты-ы, седой-ой стал...
Никон открыл глаза. Над ним склонялась Настя, по пояс скрытая полатями, целовала его и плакала.
Ее слова, пальцы как бы расшевелили стоявший в его груди клубок холода. Он отодвинулся и с мукой ощутил, как по спине, отнятой от належанного места, крадется озноб.
– Сгубили те-е-е... белоо-ой стал...
Под глазами Никона появились мешки, борода с краев поседела, голова казалась вывалянной в золе. Настя провела по ней ладонью и заплакала громче.
Никон спустился с полатей, пнул ногою дверь, юркнул наружу и бегом вернулся назад. Сутулясь, стучал зубами и, пока Настя собирала на стол, тянулся к печке. Дети жались в сторону и ели пугливо: а вдруг отец опять схватит скамейку, нальется жаром и начнет бить посуду, стол?
Никон торопливо подносил ко рту ложку и обжигался.
От горячего холод в груди размякал и отходил от сердца.
После еды Никон кивнул на пол, где лежал парень с полотенцем на лбу, и спросил:
– А тот где? Помер?
– Что ты? Отошел.
Настя украдкой взглядывала на Никона и не знала, о чем говорить. Аким вернулся с озера холодным, белым, в ледышках. Никон метнулся от него на полати, лег под тулуп, спрятал под дерюгу голову, сжал коленями руки и замер. День за днем лежал он так и не мог согреться.
Порою ему грезился сгинувший в солдатах, худой и говорливый сверстник Филька. Он как бы выплывал из навеваемой дремой дымки и выплывал не парнем, а мальчиком: стоял он у реки в ледоход, залитый солнцем, кивал на льдины и лепетал:
– Гляди, гляди, как плывут... а вон, вон...
От этого лепета, от веселых серых глаз Никон молодел.
На его губы наплывала улыбка, и в груди притихали томящая боль и холодные колики.
Но хлопала дверь, кричала Настя, счастье уходило из-под дерюги, и холодный клубок колючками впивался в сердце. Надо было дыханием вытеснять из-под дерюги холод и ждать, пока станет легче.
Сердце стучало громко, часто. Никон вслушивался в него, тосковал и тужился представить, как Филька умер на чужбине. Чужбина рисовалась ему огромной, пустой, только улыбка Фильки цвела на ней, – больше ничего не было.
Однажды вместо Фильки Никону привиделся старичок в малице, с палочкой, и по-зырянски поздоровался с ним:
"Олан-вылан".
Голова у старичка ушастая, он медленно кивал ею и бормотал:
"Жену мою ты убил, дитёнка убил, а я твою жену убью, детей твоих убью. Во-о! А в накладе все-таки я: у тебя жена и дети не волохатые. У меня не будет шкур, а ты с моей жены, с моего дитёнка шкуры содрал. Надо бы с тебя придачу какую, а?"
Старик уставился маленькими знакомыми глазами в лицо Никона и начал ощупывать его:
"Беспременно надо с тебя придачу. Без придачи как же, без придачи нельзя..."
Никону ясно стало: это не старик в малице, а медведь ощупывает его, не руки это, а лапы. Вот они скользят по груди и все ближе, вот они касаются лица, сейчас вопьются в горло и вадушат. Никон обхватил медведя, сдавил его и проснулся.
Его действительно кто-то обнимал в темноте. Никон по запаху учуял, кто, но спросил:
– Кто тут?
– Я, я...
– Ну, чего тебе?
– Я так, так...
– А так-и не трогала бы.
Настя затаила дыхание, зажмурилась и, пересилив стыд, поцеловала его. Он не шевельнулся и ждал, когда она уйдет. Потом снял с себя ее руку, накинул на себя дерюгу и подвернул тулуп.
Настя ушла от него в слезах, утром сердито гремела ухватами, кричала на детей, проклинала свою долю, плакала и звала с того света покойную подругу Марьюшку глянуть на ее несчастное житье.
VII
На лицо Акима легла тусклота заботы. Морды на озере, ловушки, капканы в лесу, – всюду надо поспеть, доглядеть. У ловушек попадаются чужие следы, надо бы поймать, а сил нехватает.
Аким бранил заимцев, порывался пожаловаться старикам, да раздумал и решил лечить Никона баней. Тепло обрадовало Никона. Он хлестал себя веником и столько напустил пару, что Акиму захватило дыхание. Тепло с березовой горечью дотягивалось до колючего клубка в груди, и тот метался, готовый разлететься.
Никон кряхтел, радуя сидевшего в предбаннике Акима, и вышел бодрым. С крыльца глянул на белесый от инея лес и впервые за дни болезни уронил:
– Ладно как.
– Куда ладнее, – подхватил Аким и выругал себя:
"Эк, мне, старому псу: давно бы в баню его сводить".
За чаем Никон потянулся к сынишке, но тот шмыгнул прочь, за ним шмыгнула дочка. Никон долго заговаривал с ними, манил к себе, и дочка разревелась.
Ночью Никон проснулся в поту и, стуча зубами, мучительно ждал утра: ему казалось, надо еще раз похлестать себя в бане веником, и боль, холод уйдут.
В бане он чуть не задохнулся, но легче ему не стало.
И вечером, и утром парился он, – простудился, перестал сходить с полатей, дергался от тошноты при виде пищи и часами не снимал рук с надрываемой кашлем груди.
В праздник приехала родня Насти-мать, дядя, тетка и Герасим с женой. Настя билась у ног матери и выла, тетка подвывала ей. Дядя говорил о Никоне, как о сношенных сапогах. Только Герасим был ласков и внимателен с ним.
Наплакавшись, женщины долго шептались. На прощанье Настя опять плакала и хваталась за сани, будто родня уезжала за тридевять земель. В избу она вернулась охрипшей, увидела перед иконами Акима и зажгла лампаду.
Стены потрескивали, и тени лампадных ленточек колыхались. Никона обрядили в чистое белье. Он в полудремоте тоскливо обдумывал слышанные слова: завтра Аким и Назтя поедут в село просить у бога здоровья ему. Он сдвигал брови, а утром притворился спящим.
Детей Аким и Настя захватили с собою, а за Никоном приглядывать попросили Костю Губина. Тот пришел с клубком пряжи и вощиной, – сучил нитки и разговаривал с собою. Раньше он заискивал перед Никоном, а теперь подмигивал ему, как маленькому, в обед налил щей, неопрятно, так, что с губ стекало в чашку, попробовал их и подал:
– Ну-ка, жива душа, ползи. Щи теплые...
От отвращения Никон отиенул кулаки и поморщился.
Костя передразнил его и спросил:
– Чего ты хмуришься? Бери...
Никон отвернулся и накинул на голову дерюгу. В воображении его замелькали Филька и медведь, похожий на старика в малице. Обоим им, верилось, вот так же, как ему, одиноко и холодно.
Аким и Настя привезли бутылку свяченой воды, просфору и вязанку баранок. Часть воды вылили в миску и веником из полуспелой ржи окропили избу. Оставшуюся воду и кусок просфоры дали Никону:
– Пей и ешь.
Вода была ледяной, черствая просфора крошилась и прилипала к нёбу. Никон поперхнулся и долго кашлял. Настя и Аким в страхе суеверно глядели на него.
– Мучит его свячена хлеб-вода, – сказал Губин.
Утром Аким, по совету стариков, велел Никону сойти с полатей, одеться и повел его наружу:
– Назём надо возить...
Из открытого коровника в солнечный свет тянулось парное тепло.
– Наготовляй.
Никон вонзил в навозный настил вилы, натужился и дрогнул. С навоза на колени прыгнула струя озноба и ринулась к поясу. Навстречу ей, с плеч, побежала другая струя. На груди, возле медного креста, они сбежались и повели на сторону плечи. Никон бросил вилы и, ежась, пошел к крыльцу.
– Куда!? – остановил его Аким. – Будет отлеживаться!
Наготовляй!
– Не трогай!
– Как не трогай?!
Никон глянул отцу в глаза. Тот замигал веками, васеменил прочь и весь вечер бормотал:
– Я что? Я раз такая беда, я чтоб лучше. За озером вон залег медведь.
Выследили медведя Губин и Рассыхаев. Старики дали Акиму совет: надо, мол, поговорить с Губиным и Рассыхаевым, чтобы они с половины уступили добычу: Никон сходит на медведя, разворошит силу и выздоровеет.
Губин и Рассыхаев не соглашались, но Аким и старики уломали их и послали на станок за водкой. Пропивали заимцы медведя у Губина, а к Никону отрядили Рассыхаева. Тот выслушал, как и с чего надо начинать, выпил водки и пошел.
У Кипрушевых он подмигнул Насте, – помалкивай, мол, – притворился хромым, спросил, где Аким, поднялся к полатям и стал жаловаться Никону: на глаза хорошая добыча попалась, а итти мешает нога.
– Знаю, видал, – хмуро отозвался Никон.
– Что видал?
– Да его, медведя. Он на дороге встретился мне, у мельницы...
Рассыхаев в удивлении прикрыл глаза: "Ишь, леший, с полатей насквозь видит" – и забормотал:
– Я ведь это, я, как соседу, с половины.
– Пускай его бродит, – отмахнулся Никон.
– Кто?
– Да матерый медведь...
– А я о чем? Не я, ты пойдешь на него, с половины.
Самому охота, а нога мозжит, опасно...
– И не ходи...
– Да перекрестись, – заволновался Рассыхаев и взял Никона за руку: Или спишь? Зверь-то какой, следы во-о...
– Не трогай, иди, – отстранил его Никон. – Дух водошный идет от тебя, мутит меня, иди...
Рассыхаев развел руками и спрыгнул на пол:
– Вот чудно. Там вино пьют, а он на-ка.
VIII
У заимских собак опять был пир. Пьяные Губин и Раосыхаев зашли к Кипрушевым и похвалялись, как убили медведя, намекали, что Никону, должно, не придется больше ходить на матерого. Нет уж, и дедово слово не поможет...
Аким сердито выпроводил их, молча запряг в сани лошадь и поутру привез из села сухонького, егозливого Елизара.
В молодости Елизар плавал на плотах, был в монастыре послушником и долго пропадал где-то, затем вернулся в село и объявил себя коновалом. Он лечил лошадей, коров, вправлял людям вывихнутые кости, выгонял простуду, пускал дурную кровь и привораживал к парням девок.
Его сын Ефимка мимоездом свернул раз на озеро, где заимцы ставили морды, и похозяйничал там. Никон и Рассыхаев догнали его, отобрали рыбу, обрубили оглобли, пугнули прочь лошадь, а Ефимку прикрыли санями, завалили их карежьем и воткнули в карежье палку с рыбой: рыбный вор.
От смерти Ефимку спас почтарь.
Елизар много лет клял заимцев и грозил пронять их.
Никон вспомнил это, но покорно сошел с полатей и снял рубаху. Елизар побегал по его голой груди зеленоватомутными глазами, пальцем потыкал в бока, в спину и, картавя, прикусывая буквы лир, защебетал:
– Те-те-те, ишь, шейма, она, она. Байню надоть, байню.
Перед баней он потребовал чайную чашку, кусочек холстины, толкнул одетого Никона под локоть и осуждаююще сказал:
– Помойсь, гоюбек, помой-сь, чего енишься?
Никон стянул треух и перекрестился. В бане Елизар усадил его на полок, похлопал по спине сухими руками и стал разминать ему живот, грудь, руки и ноги. Он сопел, перекашивал свирепое от натуги лицо и шевелил слюнявым ртом. Живот его при этом зыбился, ниже горла, в ямке, что-то трепыхалось, будто дряблую кожу изнутри рвал ветер.
– Ну, ты! повоячивайсь!
Елизар лил на горячие камни воду, больно хлестал Никона веником и исподтишка окатил его ледяной водой.
Никон вспомнил прикрытого санями Ефимку и вскинул кулак:
– Ты что делаешь, язвина!?
– Те-те-те! – взвизгнул Елизар, защищаясь веником, и закричал: – Я те, семиёжка! Я те вымотаю? Я те выпишу! Я те вымоечу!
Он выпрямился и не то Никону, не то болезни грозил кулаком цвета грязной деревяшки; шамкал и плевался, пучил глаза, убегал в предбанник, что-то шептал там, выкрикивал, хлопал в ладоши и шикал. Затем холстинкой собирал с Никона пот, выжимал его в чашку, глядел на свет и, мотая головой, приговаривал: