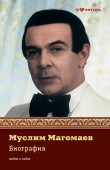Текст книги "Живут во мне воспоминания"
Автор книги: Муслим Магомаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Самоконтроль, самооценка для художника и человека должны стать его второй натурой. Не надо по поводу и без повода тушеваться, уничижать себя. Но и не надо впадать в крайность: когда меня называют великим певцом, я морщусь. И внешне, и внутренне. Зачем сотрясать воздух? Мне жаль тех, кто верит таким лукавым, суетным комплиментам. Редко, когда я был доволен тем, что делал. Я и книгу писать откладывал: все думал – не время оглядываться назад. Так и к вокальным записям своим относился: записал, послушал, не получилось так, как хотелось, – завтра, Бог даст, исправлюсь. Многие свои песни переписывал заново, уточнял характер, менял интонации и оркестровку.
Меня всегда раздражала чрезмерность так называемых дружеских восторженных оценок. Особенно в дни моего рождения. Прежде каждый год семнадцатого августа я устраивал в Баку, на берегу моря пикник человек на сорок – пятьдесят. В трудные времена я попытался сломать эту традицию, но друзья стали обижаться: «Раз в году мы, засидевшиеся в своих творческих или административных норах, собираемся вместе. И твой день рождения для нас как традиционный сбор однокашников…» Я не против подобных сборов, мне по сердцу такие редкие встречи. Но не нравятся бесконечные чествования виновника торжества. Приятен первый тост в твою честь – пусть скажут друзья, какой я певец и какой человек. Как положено. И всё! Но когда об этом говорит каждый из приглашенных, я начинаю нервничать и, защищаясь, позволяю себе грубоватые шутки. Подсмеиваюсь и над собой, и над теми, кто говорит. Тем самым я намекаю им: ребята, хватит! Пора сменить пластинку. Вон сколько за столом талантов!
Поскольку я коснулся темы своих «именинных» пикников, то должен рассказать о своем друге Таляте Расулове (мне вообще в жизни повезло на хороших людей, помогавших и поддерживавших меня в трудные времена). Талят взял меня под свою опеку еще тогда, когда я был никому не известным начинающим певцом, был просто Муслимом, юношей, который еще только учился. Но у Талята Расулова было удивительное качество – он обладал чутьем на талантливых людей, старался быть им полезным, всегда приходил на помощь, когда это нужно. Хотя Талят по роду своей деятельности был далек от искусства (он всю жизнь проработал, как у нас говорили, по хозяйственной части, а одно время был директором большого городского холодильника), его друзьями были многие известные наши деятели культуры: композитор Кара Караев, писатель Им-ран Касумов… Дружен он был и с художником Таиром Салаховым.
Человек отзывчивый, человек щедрой души и большого сердца, он всегда был и моим другом. Помню, как он старался помогать нам с Тамарой в то время, когда в конце 1980-х годов, под закат «перестройки» в Москве было очень трудно с продуктами, – постоянно присылал из Баку посылки. И потом он не оставлял меня своим вниманием. Когда я говорил ему, что у меня есть деньги, чтобы в день своего рождения самому устроить достойный стол для друзей, Талят отвечал: «Я же все равно должен тебе что-то подарить. Пусть это будет пикник, и пусть на него придут столько людей, сколько пожелают».
К сожалению, когда Талят Расулов постарел, когда у него изменились жизненные обстоятельства, многие почему-то стали забывать о нем. Как раз те, кому он в свое время, когда был им очень нужным, помогал бескорыстно и безотказно. Сейчас Талята Расулова уже нет с нами, но память о нем осталась в сердцах тех, кто любил его…
Нить воспоминаний потянула меня к Закиру Наримановичу Багирову. Он был у нас в Азербайджане министром культуры. Интеллигентный, прекрасный, душевный человек. Сначала, правда, отношения у нас не заладились. Видимо, став министром, он решил все четко расставить по своим местам: я – министр, а ты – певец. Понятно, что до этого ему про меня наговорили мои «доброжелатели»: и характер у Магомаева с сюрпризом, и дверьми он хлопает в кабинетах Министерства культуры… Вот новый министр и встретил меня соответственно: мол, осади свой гонор. Я – руководитель, и решать буду я.
Но характер у меня такой, что командовать мною бессмысленно. Тем не менее стали разговаривать, и постепенно все наладилось: он понял меня, я понял его. И вскоре мы стали друзьями. Личное впечатление победило заочное. А впоследствии Закир Нариманович стал тамадой на всех моих днях рождения. Да еще каким! Остроумным, неожиданным, находчивым.
Только один случай. Обычно в Баку на мои именинные посиделки собиралось в ресторане «Апшерон», расположенном на берегу моря, человек пятьдесят. За несколько дней до этого мы созванивались с Закиром Наримановичем, и я говорил ему, кто у меня будет. Если он кого-то не знал из моих гостей, я ему рассказывал: тамада должен знать всех. На этот раз вроде бы должны были собраться наши общие знакомые. Не знал он только мою тетю Гамар Исмайлову, преподавателя консерватории. Закир Нариманович спросил, что она преподает. Я сказал, что историю русской музыки, а кроме того написала книгу о моем деде. Он взял на заметку еще кое-какие сведения о тете.
Собрались мы в мой день рождения. Все шло превосходно, тамада был в ударе. И тут случилось непредвиденное. Художник Таир Салахов любил приходить на мои посиделки с незнакомыми людьми, обычно с гостями его дома. Конечно, для нас, бакинцев, это никакой не грех, разве что неожиданность – прежде всего для тамады. Смотрю, рядом с Салаховым сидит незнакомая пожилая женщина. А моя тетя Гамар в тот день не пришла – заболела. Закир Нариманович подумал, что эта дама и есть тетя Гамар. Встал и сказал примерно так: «Я хочу предложить тост за здоровье дорогой Гамар, прекрасной женщины, мудрого человека, за потрясающего друга Муслима, за историка русской музыки, которая…»
Я понимаю, что тамада явно «въезжает не в те ворота» и что сейчас выйдет конфуз. Шепчу ему, что Гамар Исмайлова не пришла, что эта дама вовсе не она, а кто она, об этом знает только сам Са-лахов. Тамада, не дрогнув ни одним мускулом лица, продолжает славить достоинства моей отсутствующей тетушки, «очаровательной женщины, которая привнесла в жизнь именинника то-то и то-то…» И добравшись до самой высокой ноты, наконец произносит: «Одним словом, дорогие друзья, я предлагаю выпить за такую замечательную женщину Гамар Исмайлову, которая, к сожалению, заболела и не пришла».
Но возвращаюсь к далекому уже теперь 1963 году. Не знаю, так ли успешно прошел бы мой первый в жизни сольный концерт, если бы я не встретил в Москве концертмейстера Бориса Александровича Абрамовича. Он был великий профессионал. Все мои последующие концерты строились им. Он был педантичен в подборе программы. Обладал четкой музыкальной логикой – каждый композитор должен был занять в программе свое место. Он и у меня выработал эту логику. Других таких концертмейстеров я больше не встречал и, наверное, больше не встречу. Мне повезло, что в начале моей концертной деятельности у меня был такой наставник.
Это был ни на кого не похожий пианист. Но имелась у него одна странная для музыканта особенность – он терпеть не мог на пюпитре рояля ноты: они ему мешали. Его рояль должен был быть чист. Если мне нужно было транспонировать какой-нибудь романс выше или ниже, Борис Александрович брал клавир, смотрел в него несколько секунд. И все! Откладывал ноты и играл в любой тональности. Феноменальная память и удивительный интеллект! Мой компьютер и то ошибается, а Абрамович не ошибался никогда.
Бориса Александровича давно уже нет. Он уходил из жизни тяжело – не мог пережить смерть жены. В те трудные для него дни я часто звонил ему, предлагал вместе поработать. Слышал в трубке его глубокое дыхание, которое заполняло долгие паузы между словами:
– Благодарю вас, Муслим. Но я не могу ничего делать. Даже для вас. Вы же знаете, как я вас с Тамарой люблю…
До этого мы много с ним выступали. Как-то после концерта в Днепропетровске сидели в гостиничном номере. Я спросил:
– Борис Александрович, вы совсем не пьете? А вот мне хочется, но не с кем.
– Ну давайте…
Кое-как одолел рюмку коньяка. Покраснел и тут же ушел. Вдруг возвращается необычайно возбужденный.
– Пока у меня есть настроение, я хочу вам вот что сказать…
Ну, думаю, сейчас ругать будет. Скажет, что я бездарный, ноты «мажу» – шестнадцатые комкаю, четверти с точками не выдерживаю. Числится за мной такой грешок, любил я внести в композиторский замысел свои реплики. А ведь надо строго блюсти «букву клавира». А Борис Александрович совсем про другое:
– Единственный человек, который может заменить в наше время Шаляпина, – это вы. Но вы лентяй… Давайте работать. Давайте делать репертуар.
Я опешил. Всего от него ожидал, но такого сравнения…
– Зачем же меня сравнивать с Шаляпиным? Мы – небо и земля.
– Ничего, ничего. У вас все есть – и голос, и внешность. Будете работать… Беречь себя… Федор Иванович с чего начал? А кем стал?
В общем, наговорил мне. Выдал авансик на всю жизнь. Чувствовал я себя в тот момент – хуже не бывает. Ерзал на стуле, хмель из головы вон. Для меня мука, когда хвалят в глаза. Что он увидел во мне? Я краснел и не знал, как остановить маэстро. Вот что сделала эта рюмка коньяка!..
И вот он, пианист милостью Божьей, перестал работать. А потом и звонить нам перестал. Последний раз пришел к нам в гости, но разговор получился невеселым… И ни развлечь его, ни отвлечь мы ничем не могли. Это был погасший человек… Спустя какое-то время на концерте в зале имени Чайковского я ждал выхода на сцену. А там кто-то пел под неважный аккомпанемент. Сказал ведущей концерта незабвенной Анне Чеховой:
– Вот бы сейчас сюда Бориса Александровича Абрамовича. Он показал бы, как надо играть. Кстати, как он? Я с ним месяца два не общался.
– А вы с ним больше не будете общаться, – ответила она, потемнев глазами. – Он умер.
– Как?! Такой человек умер! И ни строчки. Нигде… Ни в одной газете…
Стены его квартиры пестрели фотографиями и афишами балерины Галины Улановой – он ее боготворил. Хотя как пианист-аккомпаниатор, казалось бы, должен боготворить вокалистов, инструменталистов. Но Галина Уланова была для него всем. Возможно, ее образ олицетворял для него грацию, гармонию.
Борис Александрович был замечательным рассказчиком. Его концертным историям не было конца. Он обладал особым, боковым, отстраненным взглядом, который давал ему возможность замечать то, чего не видели другие. Подчас смешное.
Как-то приехал испанский певец. В концерте он пел «Серенаду Дон Жуана» Чайковского. В этой серенаде длиннющее вступление и такой же финал. Певец берет свою высокую финальную ноту, кланяется и убегает за кулисы, а Борис Александрович продолжает номер, демонстрирует эффектную фортепьянную технику – с полнейшим уважением к гению Петра Ильича доигрывает произведение.
– Не мог же я, – рассказывал он, – брякнуть аккорд и бежать вслед за испанцем. Он на второй поклон выходит, а я все еще играю.
Была у Бориса Александровича такая причуда. Он меня предупреждал:
– Муслим, никогда меня не вызывайте на поклон. Я не могу видеть публику. Я никогда туда не смотрю.
– Как же так? – удивлялся я. – Скажут, что я невежлив. Я уже записки получаю из зала: почему не вызываете на поклон вашего замечательного концертмейстера?
Он объяснял мне это свое необъяснимое:
– Вы – король на сцене. Забудьте, что я играю. Главное только вы и только музыка.
Так я до сих пор и не понял: боязнь ли это зала или предельная скромность по отношению к собственной персоне и трепетное отношение к солисту? А может быть, все эти раскланивания отвлекали его феноменальную память. Он мысленно видел перед собой только ноты.
Была у него и другая причуда, свойственная людям с болезненным воображением и редкой мнительностью, – Борис Александрович панически боялся самолета. Но с моей легкой руки он все же полетел… Что с ним было в первые минуты после взлета! Я никогда не видел столько ужаса в глазах. Затем что-то в нем перемучилось и отпустило: он отогревался и оживал изнутри. «Понимаете, я лечу… И ничего!..» Потом он с удовольствием только летал, предпочитая самолеты поездам.
Вот с таким тонким, чутким человеком – маэстро, рыцарем рояля – мне предстояло завоевывать столицу. А потом посчастливилось много работать. Я не стал и, само собой, никогда не мог стать Шаляпиным. И все-таки низкий вам поклон и вечная вам память, незабвенный Борис Александрович. Не за те фантастические слова в гостинице, которые вспоминаются сегодня с грустной улыбкой, а за умение щедро делиться тем, что люди обычно оставляют себе.
ЭТО ЛАСКОВОЕ СЛОВО «ЛА СКАЛА»
В Баку меня ждала неожиданная и очень приятная весть: в моем родном оперном театре я был выбран для поездки на стажировку в миланский «Ла Скала». Тогда союзным республикам давали по разнарядке места на такую стажировку, и сами республики решали, кого из своих перспективных певцов они считают нужным послать в Италию. Место-то я получил, но его еще надо было оправдать – меня должны были прослушать в Москве, куда съехались молодые певцы из разных оперных театров страны. Предстояло выбрать из них пять человек – столько, сколько итальянских балерин стажировалось в то время в Большом театре.
Июнь 1963 года. Идет прослушивание в Большом зале Московской консерватории. Отборочную комиссию возглавляла солистка Большого театра Ирина Архипова. Выступления претендентов на стажировку обсуждали долго. Меня утвердили.
Через много лет, на конкурсе имени Глинки, проходившем тогда в Баку, Ирина Константиновна призналась мне:
– А знаете, я была против вашей поездки в Италию.
Проглотил сюрприз. Даже не стал у нее спрашивать – почему. Не дорос? Или неважно тогда спел? Не так выглядел? Дело прошлое. С подчеркнутой вежливостью сказал:
– Наверное, вы были правы, Ирина Константиновна. Мне надо было поехать на стажировку в Америку… К Фрэнку Синатре.
Я уважал и продолжаю уважать этого строгого высококлассного мастера. И все же привыкнуть к своеобразию ее характера сложновато. Рискованная прямота. Зачем, спустя столько лет, огорошивать подобным признанием?
Тот XII конкурс имени Глинки, о котором я упомянул выше, проходил в 1987 году, Ирина Константиновна, постоянный его председатель, пригласила меня в жюри. На мой взгляд, это был один из самых удачных конкурсов – его победители впоследствии стали певцами мирового уровня. Там, в Баку я впервые услышал Дмитрия Хво-ростовского, поразившего меня своим великолепным спинтовым баритоном. Аауреатом среди женских голосов стала Ольга Бородина, которая теперь украшает труппу Мариинского театра, гастролирует по всему миру, выступая на лучших сценах. Еще один лауреат того конкурса, замечательный тенор Олег Кулько, сейчас солист Большого театра…
Возвращаюсь в 1963 год. Я вернулся из Москвы в Баку – надо было собирать вещи, сшить второй костюм. С Владимиром Атлантовым, тоже отобранным для стажировки в Италию, решили устроить в филармонии концерт. Володя тогда был женат на бакинке, пианистке Фариде Халиловой. Я должен был выступать в первом отделении, он – во втором. Тогда я пел «Молитву» Страделлы, «Атланта» Шуберта, «Арабскую песню» Гуно, романсы Глинки и Чайковского, арии из опер Моцарта, Верди… Аккомпанировал Чингиз Садыхов.
Потом на сцену вышел Владимир Атлантов и сразу обрушился романсом «В крови горит огонь желанья». С таким же огненным напором выдал ариозо Канио из «Паяцев». Этот стартовый форсаж утомил его голос. Вообще Атлантов не любитель сольных концертов. Как и многие оперные певцы. Сольные концерты – дело нелегкое: петь подряд несколько произведений, без пауз, без возможности отдохнуть… В спектакле у певца есть продолжительные паузы – спел свою арию, дуэт – и ушел, в действие вступают другие персонажи. Есть время перевести дыхание. На мой взгляд, не надо было Володе тогда сжигать себя такой напористостью в самом начале. Но он допел свое отделение до конца и произвел на публику отличное впечатление: она не заметила, как певец устал. А голос у него – чудесный, редкий!
Так состоялось наше первое сценическое знакомство. Впереди нас ждала Италия.
Надо было снова ехать в Москву – прощаться с дядей Джамалом и тетей Мурой. Попросил у них прощения за все мои срывы и выходки. За то, что не приехал на похороны бабушки (прости меня, родная). Не мог я объяснить им свое отношение к этим печальным обрядам. Так уж я устроен – живыми хочу запомнить близких мне людей. Понимаю, что это непростительная слабость.
И дело не в тогдашнем моем легкомысленном возрасте – в этом я не изменился и с годами.
Попросил прощения за свою преждевременную женитьбу. Хотя что об этом говорить?.. У меня теперь прекрасная дочь Марина, уже взрослый человек. В свое время дед, академик-химик, уговорил ее учиться геодезии и картографии: видно, из-за меня в семье жены появилась аллергия на музыку. Марина закончила школу как пианистка, ей прочили прекрасное будущее музыканта, она потрясающе играет с листа… Но профессиональным музыкантом дочь не стала. Решила найти себя в другом. Я не имел права что-то навязывать ей, давать советы, а тем более вмешиваться в ее судьбу. У нас с ней дружеские отношения, и я бесконечно ценю это. Она вышла замуж за сына моего друга Геннадия Козловского, талантливого человека, на стихи которого я написал несколько песен. Сейчас Марина и Александр живут в Америке. У них растет сын Аллен, который по бойкому характеру напоминает меня в детстве. Внук музыкально одарен, но станет ли он музыкантом, не знаю – жизнь покажет…
Перед поездкой в Италию нас напутствовала Екатерина Алексеевна Фурцева. Что она могла нам пожелать? Все, что положено в таких случаях. Конечно, ей дали установку сверху, и она должна была довести все это до нас. Пыталась убедить, чтобы мы не слишком засматривались на витрины: «Не надо нам этого барахла»… Она хотела, чтобы мы не тратили там свои деньги, а привозили их сюда и покупали здесь…
Перед отъездом сфотографировались на память у Большого театра. В нашей группе были мы с Володей Атлантовым, Янис Забер из Риги и двое «стариков» – Анатолий Соловьяненко и Николай Кондратюк. Они проходили в «Ла Скала» второй срок стажировки, обжились в Италии и на правах старших объясняли нам что к чему, вводили в тамошнюю жизнь, в круг знакомых. Когда мы с Атлантовым поехали на стажировку на следующий год, то оказались в такой же роли – были как бы наставниками для Хендрика Крумма, Вагана Миракяна, Виргилиуса Норейки…
Ехали мы из Москвы в Милан поездом. Был январь 1964 года, и город встретил нас туманом. Во второй свой приезд мы уже летели самолетом до Рима и оттуда добирались несколько часов на машине. Поместили стажеров в скромной гостинице «Сити-отель» на проспекте Буэнос-Айрес. Наши пять номеров находились на одном этаже. Душ только в номере нашего старосты, Николая Кондратюка.
Стажировка по длительности была рассчитана на один театральный сезон театра «Аа Скала» – около шести месяцев. Но поскольку итальянцы постоянно праздновали Дни то одного святого, то другого святого, то еще что-нибудь, да еще случались какие-то забастовки, то перерывов в занятиях было достаточно. Практически занятий было мало…
После приезда нам дали отдохнуть один день, а потом устроили встречу в кафе, расположенном на первом этаже театра. Там мы познакомились с директором синьором Антонио Гирингелли. Для меня тогда было полной неожиданностью, что у синьора директора была своя обувная фабрика и что за работу в театре он не получал ни лиры. Наоборот, в трудные времена (и у «Ла Скалы» такое бывает) помогал ему из своих средств. Такой вот оказался хозяин-меценат. Слабостью его сердца была несравненная Мария Каллас: ее имя не сходило с его уст. Гирингелли терпел все ее капризы, а характер у примадонны был не подарок… Я вспоминаю его с очень теплым чувством: он почему-то относился ко мне с особым вниманием, даже с симпатией, называл меня mio саrо Michele (мой дорогой Микеле), потому что имя Муслим по-итальянски звучит очень похоже на Муссолини.
Много позже мы с Тамарой Синявской были в Италии по приглашению Общества «Италия – СССР». Была новая встреча с Миланом, с директором «Ла Скала» Антонио Гирингелли – сердечная беседа в уютном кафе «Риголетто». На прощание синьор Гирингелли попросил нас по приезде в Москву положить от него розу на могилу незадолго перед тем скончавшейся Фурцевой. Они ценили друг друга. Контакты Большого театра и «Ла Скала» – это во многом и их личная заслуга. Вскоре после той нашей встречи в Милане не стало и Антонио Гирингелли…
Познакомили нас и с нашими педагогами – занятия по вокалу должен был проводить маэстро Дженарро Барра, а педагогом-репетитором по разучиванию оперных партий был Энрико Пьяцца. В прошлом Барра, неаполитанец, был известным певцом. В его квартире висели портреты Карузо, Титта Руффо, Баттистини с лестными дарственными надписями. Несмотря на свои семьдесят три года, он обладал завидной энергией, жизнелюбием, в голосе – молодые оттенки. А маэстро Пьяцца в свое время ассистировал великому Артуро Тосканини. Теперь он был на пенсии и в «Ла Скала» работал консультантом и концертмейстером. В работе над партиями он был с нами строг, много внимания уделял языку, правильному произношению.
Наша стажировка началась с прослушивания. Всех потряс Володя Атлантов своим золотым голосом. Рабочие сцены за кулисами тоже были удивлены – у этого русского такой голосище, да еще такой красивый… Когда прослушивали меня, то маэстро Пьяцца спросил:
– Вы любите Тито Гобби?
У него были основания задать мне такой вопрос. Я много слушал записей этого знаменитого итальянского певца. Он и по сей день остается для меня любимым баритоном. Хотя Гобби и говорил, что если бы у него был такой же роскошный голос, как у Джино Бекки, то… Но Джино Бекки брал громадой своего голоса, про него говорили, что он может снести им первые ряды – так он оглушал слушателей. А Гобби был не просто прекрасным певцом – он был очень музыкальным, очень умным вокалистом. И при этом красавцем и великолепным артистом. Когда снимался фильм «Паяцы», то там все роли играли драматические актеры (в том числе и знаменитая Джина Лоллоб-риджида), и только Тито Гобби там и играл, и пел. Хотя у Гобби и были проблемы с верхними нотами, но его баритон – настоящий, итальянский, таких сейчас уже нет. Стоит ли говорить, что это был один из самых любимых моих певцов. Я учился петь по его пластинкам. И когда маэстро Пьяцца уловил в моем пении знакомые интонации и услышал мой ответ, он воскликнул:
– О, мне эти нюансы очень и очень знакомы. Ведь мы уточняли их с Тито у рояля.
После прослушивания Гирингелли сказал:
– Слава Богу, наконец-то прислали молодые голоса, с которыми можно поработать. А то посылают к нам «стариков», попевших как следует.
Для занятий я сам выбрал оперу «Севильский цирюльник». Я приехал в Милан с уже готовой партией Фигаро, так что в прямом смысле мне незачем было ее разучивать, но оказалось, что посидеть над ней предстоит основательно. У нас опера шла с большими купюрами, а итальянцы исполняют ее так, как написал Россини. Хотя, на мой взгляд, с некоторыми сокращениями можно согласиться. Например, дуэт Розины и графа Альмавивы во время урока пения все-таки получился у композитора неудачным по сравнению с другими ансамблями: он как бы выбивается из замечательной музыки. Такое впечатление, что Россини написал его, будучи не в духе (но это мое субъективное мнение). Мне предстояло теперь «открыть» все купюры, и моя партия увеличилась минут на тридцать. Так что работы хватало: с десяти до одиннадцати занятия по постановке голоса с Барра, потом шлифовка партии с маэстро Пьяцца…
Возможно, мне не поверят, но после двух месяцев пребывания в Милане я собрался было уезжать – не мог справиться с тоской. Уже начал собирать вещи, позвонил домой дяде Джамалу: «Не нужна мне эта школа, я и без нее пою. Пропади все пропадом, домой хочу!» Он отвечал: «И не вздумай, ты что! Больше такого случая не будет!»
В общем, уговорил, и я остался. Причина такого моего настроения была в том, что в нашей группе мы поначалу не могли найти общего языка: все мы были разные. Да еще свою роль играло то, что я приехал в Милан уже очень популярным у нас в стране певцом. Мне постоянно звонили из Москвы из разных газет, с радио, с Центрального телевидения, просили дать по телефону интервью, ответить на те или иные вопросы… Естественно, ребятам не могло нравиться такое внимание ко мне, их это задевало.
Однажды перед 8 марта раздался очень ранний звонок. Спросонья я никак не мог понять, кто звонит, что от меня хотят. А требовалось поздравить по телефону наших женщин с предстоящим праздником. Что я там наговорил, не помню – видимо, еще не совсем проснулся. Это мое поздравление пошло в эфир, и дядя Джамал потом со смехом вспоминал те мои полусонные пожелания: «Очень чувствовалось, с каким неудовольствием ты поздравлял наших женщин».
Потом понемногу все наладилось: мы стали держаться земляческими группками – киевляне Соловьяненко и Кондратюк, мы с Володей, москвичи-бакинцы, и лишь один Янис Забер, сдержанный, немногословный прибалт, был сам по себе. Впрочем, он был очень симпатичный, очень приятный человек.
Кстати, 8 марта у нас в Милане произошел смешной случай. Директрисой тогда была синьора Чеккини, приятная, приветливая женщина. И вот мы с охапкой цветов заявились к ней, чтобы поздравить с Международным женским днем, то есть сделали так, как было принято у нас в стране.
Слово «международный» мы поняли слишком конкретно. Когда мы предстали перед синьорой Чеккини с букетами, то она вытаращила глаза от неожиданности. Пришлось объяснить ей причину нашего визита. Оказалось, что в Италии о нашем международном празднике и слыхом не слыхивали. Но ей было очень приятно отметить незнакомый ей прежде наш советский женский день.
Мы получали стипендию от «Ла Скала» – сто десять тысяч лир (тогдашние рублей сто пятьдесят). Соответственно платили в Москве и итальянским танцовщицам, приехавшим стажироваться в Большом. Деньги были для нас небольшие. На одной из встреч с Гирингелли (а встречались мы обычно в траттории «Верди») мы попросили прибавить нам стипендию. Гирингелли сочувствовал нашей бедности:
– Ragazzi (ребята), я готов хоть сейчас… Но мы связаны с Большим театром, как в зеркале со своим отражением. Если мы прибавим, должна прибавить и Москва.
Он понимал, что Москва прибавлять не будет, и потому незаметно переводил щепетильный разговор на тему своих кумиров. Делал рукой патетический взмах, и в его голосе появлялась трагическая нота:
– А знаете, синьоры, как умирал великий Верди? Миланцы покрыли улицу, на которой жил маэстро, соломой, чтобы слух его не беспокоила земная суета и чтобы он уходил в лучший мир со своими божественными созвучиями…
На скромность содержания жаловались не только мы, но и итальянские балерины в Москве.
Правда, им у нас нечего было покупать, да и ели они немного. А в те годы на сто пятьдесят рублей можно было вполне прилично питаться. Нас же в Милане окружало столько соблазнов, одни пластинки чего стоили. У меня был любимый магазин пластинок, где меня уже знали. Продавщица сразу выкладывала веером новые записи, и я «налегал» на любимых мною Марио Ланца, Джильи, Ди Стефано, Гобби, Бекки… Я привез с собой из Италии огромное количество пластинок. Когда мы улетали из Милана, то в аэропорту Володя Атлантов даже предложил мне свою помощь. Дело в том, что я сложил все пластинки в большую спортивную сумку. Она оказалась настолько тяжелой, что было ясно: таможенник сразу все увидит. Володя, человек очень сильный, решил, что он понесет ее, при этом как бы показывая, что ничего тяжелого в сумке нет. Но таможенник все равно увидел и приказал: «На весы!» Когда мы поставили сумку на весы, у него чуть глаза на лоб не полезли – такое оказалось превышение веса. Пришлось доплачивать разницу за багаж.
Питались в театре, но все равно жили довольно скромно. Зато в день получения стипендии устраивали себе «дни советского студента в Италии». В складчину покупали всякой снеди, собирались в своей гостинице, и начинались посиделки под красное кьянти…
Нам полагались бесплатные посещения спектаклей театра. Помню, какое незабываемое впечатление оставил спектакль «Девушка с Запада» Дж. Пуччини. В главной партии – ковбоя Джонсона – выступал молодой и уже знаменитый Франко Корелли. Привлекала и его яркая актерская игpa – созданный им образ был предельно эмоционален. У Корелли крепкая вокальная школа, и это помогало ему не думать на сцене о голосе, а играть, жить в образе. Оперные певцы на сцене нас часто раздражают своей статичностью: ни мимики, ни жеста, ни естественных движений – поющая статуя. А современному зрителю этого мало. Он хочет не только слышать, но и видеть, ему подавай певца-актера…
Корелли вызывали одиннадцать раз. Особенно вопила галерка, забитая студентами и клакерами. Клака «заводит» зал: талант вознесут, посредственность провалят. У этих крикунов есть и свой дирижер, который управляет аплодисментами – в зависимости от суммы, заплаченной хозяином солистом (сейчас, говорят, подобных заказов нет). Театр – как слепок общества: партер для смокинговой элиты; ярусы для меломанов; галерка, верхотура, для разношерстной публики.
Еще один штрих. Итальянский слушатель не прощает промахов даже великим. Марио Дель Монако однажды провалили в «Кармен» – Хозе ушел освистанным. Говорили, что легендарный тенор переусердствовал перед этим в труднейшей партии Отелло и позволил себе на следующий день петь в «Кармен» по остаточному, так сказать, принципу. А итальянцы, капризные и непосредственные, как дети, требуют от кумиров предельной самоотдачи.
После спектакля «Девушка с Запада» с Франко Корелли самым ярким впечатлением для меня было услышать Джузеппе Ди Стефано. Он выступал в «Аа Скала» после большого перерыва. В свое время он много пел вместе с Марией Каллас, и даже эта капризная примадонна отзывалась о Ди Стефано не только как о хорошем партнере, но и как о прекрасном человеке. В своей книге она тепло написала, как Тито Гобби и Джузеппе Ди Стефано много помогали ей в трудные для нее времена, когда она почти теряла голос.
Ди Стефано потряс меня своей удивительной музыкальностью – даже не голосом, а именно музыкальностью, которой я прежде ни у кого не встречал. Своим огромным голосом он мог петь и пиано, а это трудно делать на высоких нотах. Такого любимца публики, каким был Ди Стефано, я больше не видел. Я слушал его в «Любовном напитке» Доницетти. Хотя партия Неморино не особенно высокая – там всего один ля-бемоль, – но именно на этой ноте Ди Стефано и «дал петуха»: голос его тогда не слушался. Если бы это был кто-нибудь другой, итальянская публика его бы освистала. Но только не Ди Стефано. Даже когда кто-то в ложе попытался свистнуть в адрес певца, на этого «свистуна» сразу стали шикать. Ди Стефано прощали его «петухов», настолько он был обаятельным. Роль деревенского простачка Неморино он сыграл как великолепный артист. Это был почти Чарли Чаплин на оперной сцене – такие он показал эмоции, вызывая в зале и слезы, и сочувствие, и радость. Да, он мог все…