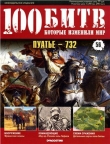Текст книги "Собрание сочинений в 19 томах. Том 9. Негоже лилиям прясть"
Автор книги: Морис Дрюон
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава II
Кардинал, не верящий в ад
Июльская ночь начала бледнеть; узенькая серая полоска, прочертившая на востоке небосвод, предвещала близкую зарю, скоро она зальет своим сиянием город Лион.
Был тот час, когда из близлежащих сел тянутся в город повозки с овощами и фруктами, когда смолкает уханье сов, не сменившееся еще чириканьем воробьев, и в этот именно час за узкими окошками парадных покоев аббатства Эне размышлял о смерти кардинал Жак Дюэз.
С юных лет кардинал не испытывал потребности в долгом сне, а с годами и вовсе разучился спать. Ему вполне хватало трех часов сна. После полуночи он подымался с постели и усаживался перед письменным прибором. Человек острого ума, поразительных знаний во всех областях, он писал трактаты по теологии, праву, медицине и алхимии, получившие признание духовенства и ученых мужей того времени.
В ту эпоху, когда любой – будь то последний бедняк или могущественный владыка – мечтал о золоте алхимиков, люди много говорили о трудах кардинала Дюэза, трактующих о создании эликсиров, способных вызвать трансмутацию металлов.
«Для приготовления сего эликсира три вещи потребны, – писал кардинал в своем труде, озаглавленном «Эликсир философов», – и суть они семь металлов, семь элементов и многое прочее… Семь металлов суть солнце, луна, медь, олово, свинец, железо и ртуть; семь элементов суть серебро, сода, аммиачная соль, трехсернистый мышьяк, окись цинка, магнезия, марказит; а прочее – ртуть, кровь человеческая, кровь из волос и мочи, а моча должна быть тоже человеческая…»
В семьдесят два года кардинал вдруг обнаружил, что остались еще кое-какие области знаний, по поводу коих он не успел высказать своего суждения, и, пока ближние его мирно почивали, творил в ночной тишине. Он один изводил больше свечей, чем вся святая обитель со всеми ее монахами.
Долгими ночами он трудился также над обширной корреспонденцией, которую вел со множеством прелатов, аббатов, легистов, ученых, канцлеров и царствующих особ всей Европы. Секретарь и переписчики Дюэза обнаруживали поутру плоды его ночных бдений, которые они переписывали потом набело весь божий день. Или, изучая гороскоп своих соперников по конклаву, он сравнивал его со своим собственным гороскопом, вопрошая небесные светила, дабы в расположении их прочесть ответ на вопрос, увенчает ли его чело папская тиара. По расположению небесных светил выходило, что наиболее благоприятный срок для того – начало августа и начало сентября нынешнего года. Однако сейчас уже было десятое июня, а туман все еще не рассеялся…
А потом наступал самый мучительный час – час предрассветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную юдоль именно в эти минуты, кардинал испытывал какой-то смутный страх, какое-то томление духа и тела. И чем неодолимей была телесная слабость, тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы, его собственной судьбы… Сын башмачника из города Кагора, проживший в безвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только на сорок четвертом году, нежданно-негаданно попав по торговым делам вместе со своим дядей в Неаполь. Путешествие, жизнь на чужбине, открывшая ему Италию, – все это повлияло на Дюэза самым странным образом. Буквально через несколько дней после прибытия в Неаполь он сделался учеником наставника королевских детей и набросился на изучение отвлеченных предметов со страстью, с исступлением, с необычной легкостью усваивая сложнейшие дисциплины и так легко запоминая услышанное, что ему в этом отношении мог бы позавидовать самый одаренный подросток. Он без труда переносил и голод и бессонницу. Ломоть хлеба составлял всю его пищу в течение целого дня, и, если бы его заточили в темницу, он прижился бы и в узилище, при том, конечно, условии, что ему доставляли бы вдоволь книг. Вскоре он сделался доктором канонического права, затем права гражданского, вслед за чем пришла известность. Королевский двор в Неаполе охотно советовался с клириком из Кагора.
На смену жажде знаний пришла жажда власти. Советник короля Карла II Анжу-Сицилийского (деда королевы Клеменции), затем секретарь тайного совета, обладатель множества церковных бенефиций, он через десять лет после своего прибытия в Италию был назначен епископом Фрежюсским и вскоре стал отправлять обязанности канцлера Неаполитанского королевства, другими словами, стал первым министром государства, включавшего в себя Южную Италию и графство Прованское.
Само собой разумеется, такой сказочный взлет не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрежюсского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при Неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим – ибо то была церковная тайна, – свидетельствовал, что Дюэз обладает также достаточной долей коварства и хладнокровием, граничащим с наглостью.
Несколько месяцев спустя после смерти Карла II Дюэз был послан со специальной миссией к папскому двору, как раз в то время, когда Авиньонская епархия – наиболее влиятельная во всем христианском мире, ибо там находился святой престол, – пустовала. Будучи канцлером, а следовательно, и хранителем печати, Дюэз не колеблясь написал письмо папе от имени нового неаполитанского короля Робера, в котором тот якобы просил назначить Жака Дюэза в Авиньонскую епархию. Произошло это в 1310 году. Климент V, стремясь обеспечить себе поддержку Неаполя в эти смутные времена, когда отношения папского престола с королем Франции Филиппом Красивым были достаточно натянутыми, не замедлил удовлетворить эту просьбу. Мошенничество Дюэза открылось при личной встрече папы Климента с королем Робером, когда оба не могли скрыть удивления, – первый потому, что его даже не поблагодарили за столь великую милость, а второй потому, что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишили канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Робер Неаполитанский закрыл глаза на все и предпочел не рвать с человеком, занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест. Это оказалось всем на руку. Теперь Дюэз был кардиналом курии, и его труды изучали в университетах.
Но как ни удивительна судьба человека, она кажется таковой лишь посторонним, тем, кто смотрит на нее со стороны. Для самого же человека безразлично, прожил ли он жизнь, заполненную до краев, или безнадежно пустую, тревожную или спокойную, – любой минувший день погребен в прошлом, в прошлом, прах и пепел коего одинаково весят на любой ладони.
К чему весь этот пыл, притязания, эта кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в Потусторонность, о коей самым высоким умам и самым изощренным наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен? Стоит ли жаждать папского престола? А не разумнее ли удалиться в монастырь, отрешившись от земной суеты? Совлечь с себя гордыню знаний, равно как и тщету власти… Обрести смирение самой простодушной веры… готовиться к небытию… Но даже подобные рассуждения становились в голове кардинала Дюэза умозрительными и отвлеченными построениями, а страх смерти превращался в юридический спор с небесами.
«Ученые мужи уверяют нас, – думал он в это утро, – что души праведных после кончины тотчас же удостаиваются блаженного лицезрения господа, что и служит им наградой. Возможно, возможно… Но после светопреставления, когда воскресшие к жизни тела соединятся со своими душами, всех нас ждет Страшный суд. А ведь бог, который само совершенство, не может пересматривать свои собственные приговоры. Не может бог совершить ошибку и изгнать из рая избранных им праведников. Впрочем, не закономерно ли, что душа должна ликовать от созерцания господа лишь в тот момент, когда, соединившись с телом, она сама становится совершенной по своей природе? А раз так… раз так, ученые мужи заблуждаются… А раз так, то не может быть, собственно говоря, ни вечного блаженства, ни созерцания лика божьего раньше светопреставления, и бог даст нам себя лицезреть лишь после Страшного суда. Но где же до тех пор находятся души умерших? Не придется ли нам ждать sub altaro dei[1]1
У алтаря господня (лат.).
[Закрыть], у того самого алтаря господня, о котором говорит в «Апокалипсисе» святой Иоанн?»
Стук лошадиных копыт – явление необычное в столь ранний час – раздался у стен аббатства; копыта четко цокали по маленьким круглым валунам, которыми были вымощены главные улицы Лиона. Кардинал на миг рассеянно прислушался, затем вновь углубился в свои рассуждения, которые вели к поистине неожиданным выводам.
«…Ибо, если рай пуст, – думал он, – это коренным образом меняет положение тех, кого мы считаем святыми или присноблаженными… Но то, что верно в отношении душ праведных, так же верно и в отношении душ грешников. Господь бог не будет карать злых раньше, чем вознаградит добрых. Ведь работник получает свою плату лишь в конце дня; точно так же и в конце света доброе семя и плевелы будут окончательно отделены друг от друга. Ни одна душа ныне не обитает в аду, коль скоро она еще не осуждена. Другими словами, ада пока не существует…»
Такое положение вселяет бодрость в тех, кто размышляет о смерти; оно отодвигает час расплаты, не лишая надежды на жизнь вечную, и как нельзя лучше соответствует тому представлению, какое имеет о смерти большинство людей: в их понятии смерть – это падение в беспросветную бездну безмолвия, это полнейшее отсутствие сознания.
Бесспорно, если бы подобная доктрина была публично проповедуема с церковных кафедр, она вызвала бы самый решительный отпор среди ученых мужей церкви и смутила бы бесхитростную веру народа… Да и кандидату на папский престол, пожалуй, негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют{2}2
…негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют– Избранному Папой в странных обстоятельствах – которые мы лишь облекли в романную форму, но отнюдь не выдумали, – Жаку Дюэзу (Иоанну XXII) предстоит примерно с середины своего понтификата поддерживать в различных проповедях и поучениях свой тезис о блаженном видении.
[Закрыть].
«Подождем лучше конца конклава», – решил кардинал.
Ход его мыслей был прерван стуком в дверь – это брат привратник пришел доложить кардиналу о прибытии гонца из Парижа.
– А кем он послан? – осведомился кардинал.
Голос у Дюэза был глухой, тихий, монотонный, но говорил он внятно.
– От графа Бувилля, – пояснил брат привратник. – Должно быть, гнал всю дорогу, потому что сейчас еле на ногах стоит; пока я ходил за ключами и отпирал дверь, он успел задремать, прислонившись лбом к косяку.
– Введите его немедленно.
И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о тщете мирских притязаний, подумал без всякого перехода: «А вдруг он послан насчет избрания папы? А вдруг двор Франции сошелся во мнениях и открыто назовет мое имя? Или же мне хотят предложить какую-либо сделку?..»
Он поднялся с места, волнуемый любопытством и надеждами, и зашагал по комнате мелкими быстрыми шажками. Ростом и хрупким телосложением Дюэз напоминал пятнадцатилетнего мальчика, личико у него было крысиное, брови очень густые и совсем седые.
Небо за окнами порозовело; свечи гасить еще было рано, но все-таки это уже рассвет, заря. Зловещий час суток миновал…
Вошел приезжий; с первого же взгляда кардинал определил, что перед ним не обычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени и вручил ящичек с посланием, а этот остался стоять, правда, преклонив голову, и произнес: «Монсеньор!» И, во-вторых, французский королевский двор обычно отправлял свои послания с дюжими молодцами, как, например, с детиной Робэном Кюис-Мариа, частенько курсировавшим между Парижем и Авиньоном. А перед Дюэзом стоял востроносый юноша, у которого слипались веки и которого даже качало от усталости. «По-моему, не иначе как маскарад… – подумал Дюэз. – Впрочем, я где-то уже видел это лицо».
Маленькой, сухонькой ручкой он разорвал конверт, ломая печати, и сразу же почувствовал разочарование. Речь шла отнюдь не о предстоящем избрании папы, а просто содержала просьбу оказать посланному покровительство. Однако кардиналу хотелось видеть в этом благоприятное предзнаменование; когда Париж нуждается в услуге духовных властей, обращаются все-таки к нему, к Дюэзу.
– Allora, lei и il signore Guccio Baglioni?[2]2
Итак, вы синьор Гуччо Бальони? (итал.)
[Закрыть] – спросил он, прочитав послание.
Юноша даже вздрогнул, услышав итальянскую речь.
– Да, монсеньор…
– Граф Бувилль рекомендует вас мне, просит взять вас под свое покровительство и защитить от преследования ваших недругов.
– О, если бы вы оказали мне эту милость, монсеньор!
– Похоже, что вы попали в какую-то скверную историю, раз вынуждены были бежать в одежде гонца, – продолжал кардинал глухим, невыразительным голосом. – Расскажите мне, что произошло. Бувилль пишет, что вы находились в свите королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию. Ага, припоминаю теперь, там-то я вас и видел… И вы племянник мессира Толомеи, главного капитана парижских ломбардцев. Чудесно, чудесно. Расскажите-ка вашу историю.
Он уселся и стал машинально вертеть вращающийся пюпитр, на котором лежали книги, необходимые для его научных трудов. Сейчас, когда кардинала отпустили ночные страхи, он чувствовал себя спокойным и не прочь был отвлечься чужими делами.
Гуччо Бальони меньше чем за четыре дня проскакал сто двадцать лье и во всем теле чувствовал усталость от бешеной скачки. Ноги ему не повиновались, в голове стоял туман, застилая взор, и он отдал бы все блага мира, лишь бы лечь, растянуться вот здесь, прямо на полу, и спать… спать…
Однако ему удалось стряхнуть с себя сонное оцепенение; ради собственной безопасности, ради своей любви, ради будущего он обязан побороть усталость, продержаться хотя бы еще несколько минут.
– Так вот, монсеньор, я женился на девице знатного рода, – произнес он.
Гуччо показалось, что слова эти произнес не он, а кто-то другой. И вовсе не эти слова собирался он сказать. Ему хотелось объяснить кардиналу, что на него обрушилась неслыханная беда, что он самый несчастный, самый жалкий человек во всей вселенной, что жизнь его в опасности, что он, возможно, навеки разлучен со своей женой, а жизни без нее он не мыслит, что его жену вот-вот заточат в монастырь, что в эту последнюю неделю с ними произошли такие ужасные события, налетевшие с такой жестокой внезапностью, что само время как бы прервало свой обычный ход, и что он, Гуччо, уже не принадлежит к числу живых… Но вся его трагедия, когда о ней пришлось рассказывать, свелась к коротенькой фразе: «Монсеньор, я женился на девице знатного рода».
– Вот оно в чем дело, – пробормотал Дюэз. – А как ее имя?
– Мари де Крессэ.
– Крессэ, Крессэ… Не слыхал.
– Но мне пришлось венчаться тайком, семья была против нашего брака.
– Потому что вы ломбардец? Так… так… Понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых взглядов. В Италии, конечно… Итак, вы хотите добиться расторжения брака?.. Но… но ведь, коль скоро венчание происходило втайне…
– Да нет, монсеньор, я ее люблю, и она меня любит, – проговорил Гуччо. – Но ее семья узнала, что Мари в тягости, и братья бросились за мной в погоню, чуть меня не убили.
– Что ж, они в своем праве, закон, освященный обычаем, на их стороне. В их глазах вы просто соблазнитель… А кто вас венчал?
– Фра Виченцо.
– Фра Виченцо? Не слыхал.
– Хуже всего, монсеньор, что его убили. И я не могу даже доказать, что мы действительно обвенчаны. Не подумайте, монсеньор, что я трус. Я готов был с ними драться. Но дядя обратился к Бувиллю, а он…
– А он благоразумно посоветовал вам скрыться на время.
– Да, но ведь Мари заточат в монастырь! Скажите, монсеньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь?
– Слишком много вопросов за один раз, дражайший сын мой, – ответил кардинал, продолжая вращать пюпитр. – Монастырь? А может статься, ей сейчас лучше побыть в монастыре? Уповайте на безграничное милосердие господне.
Гуччо устало понурил голову. Его черные волосы были щедро припудрены дорожной пылью.
– А ваш дядя имеет дела с Барди? – осведомился кардинал.
– Конечно, монсеньор, конечно. Если не ошибаюсь, Барди – ваши банкиры, – добавил Гуччо только из вежливости, почти машинально.
– Да, они мои банкиры. Но, на мой взгляд, сейчас они не столь… не столь сговорчивы, как в былые времена… А ведь это весьма солидная компания! Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе им, видите ли, нужно сначала запросить Флоренцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд… А среди клиентов вашего дядюшки есть прелаты?
Мыслями Гуччо был далек от всех банков мира. В голове сгущался туман, глаза жгло как огнем.
– Нет, большинство наших клиентов высокородные бароны, – ответил он. – Граф Валуа, граф Артуа… Мы были бы весьма польщены, монсеньор…
– Поговорим об этом потом. Сейчас вы находитесь в святой обители, под защитой ее стен. Для всех посторонних вы будете у меня в услужении. Пожалуй, лучше всего нарядить вас в сутану… Я потолкую об этом со своим капелланом. А пока скиньте-ка эту ливрею и почивайте с миром, ибо, по-моему, вам прежде всего необходимо хорошенько отдохнуть.
Гуччо поклонился, пробормотал что-то, желая поблагодарить кардинала, и направился к дверям. Но вдруг он остановился и проговорил:
– Я не могу пока скинуть эту ливрею, монсеньор; я должен передать еще одно поручение.
– Кому? – спросил Дюэз, сразу насторожившись.
– Графу Пуатье.
– Вручите послание мне, а я тотчас же направлю к графу брата служителя…
– Дело в том, монсеньор, что граф Бувилль очень настаивал…
– А не известно ли вам, имеет это послание какое-нибудь отношение к конклаву?
– Нет, монсеньор, оно послано в связи со смертью короля.
Кардинал даже подскочил в своем кресле.
– Как, король Людовик скончался? Но почему же вы до сих пор молчали?
– А разве здесь об этом не знают? Я думал, что вам, монсеньор, это уже известно.
Откровенно говоря, Гуччо вовсе так не думал. Его собственные беды, усталость как-то вытеснили из памяти это важнейшее событие. Он скакал и скакал от самого Парижа, меняя притомившихся лошадей в указанных ему монастырях, перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал, сам того не подозревая, официальных гонцов.
– Отчего он скончался?
– Вот как раз это обстоятельство мессир Бувилль и поручил мне довести до сведения графа Пуатье.
– Злодеяние? – выдохнул шепотом Дюэз.
– Говорят, короля отравили.
Кардинал задумался.
– Это многое может изменить, – пробормотал он. – Регента уже назначили?
– Не знаю, монсеньор. Когда я уезжал, прошел слух, что назначат графа Валуа…
– Что ж, чудесно, дражайший сын мой, идите прилягте.
– Но, монсеньор, а как же быть с графом Пуатье?
Тонкие губы прелата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было счесть знаком благоволения.
– Неосторожно было бы с вашей стороны показываться в городе, не говоря уже о том, что вы просто падаете с ног от усталости, – сказал он. – Давайте сюда послание; и дабы вас ни в чем не могли упрекнуть, я сам передам его по адресу.
Несколько минут спустя кардинал курии, сопровождаемый, как требовалось по чину, слугой, несшим факел, и секретарем, покинул Энейское аббатство, находившееся между Роной и Соной, и отважно углубился в мрачные улочки, где приходилось порой шагать прямо по кучам нечистот. Этот семидесятидвухлетний иссохший старец на редкость легко нес свое щуплое тело, поспешая вперед подпрыгивающим шагом. Его пурпурное одеяние плясало, как огонек, среди темных стен.
Колокола двадцати церквей и сорока двух лионских монастырей зазвонили к заутрене. В этом городе, насчитывавшем в ту пору не более двадцати тысяч обитателей, для одной половины которых промыслом была религия, а для другой – религией был промысел, расстояние между любыми пунктами было невелико. Таким образом, кардинал быстро добрался до дома судьи, у которого остановился граф Пуатье.
Глава III
Ворота Лиона
Граф Пуатье заканчивал свой туалет, когда камергер доложил ему о визите кардинала.
Высокий, тощий, длинноносый, с тщательно зачесанными на лоб коротенькими прядями волос, спущенных локонами вдоль щек с нежной и свежей кожей, какая бывает только в двадцать три года, в домашнем платье из темной тафты{3}3
…в домашнем платье из темной тафты… – Основные шелковые ткани, использовавшиеся тогда в одежде, были: samit, близкий к нашему атласу, sandal и camocas, весьма похожие на тафту, а также золотые или серебряные материи – тяжелая парча с шелковой основой. Из шерстяных тканей использовали много marbre (мраморных), сотканных из разных цветов, raye (полосатых), camelin, то есть из верблюжьей шерсти или ее имитаций, и особенно ecarlates (пунцовых, алых). Эти последние были самыми роскошными и наиболее ценимыми, в них облачались по торжественным случаям. Наилучшие из них изготовлялись во Фландрии и Англии. Краситель добывали из сушеного червеца-кермеса, маленького насекомого, которое водится в Лангедоке. Были различные оттенки: ярко-алый, розовый, фиолетовый, кроваво-красный.
[Закрыть], юный принц пошел навстречу монсеньору Дюэзу и почтительно облобызал его перстень.
Даже при желании трудно было бы найти двух более несхожих, до смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой – цаплю, величественно шествующую через болото.
– Несмотря на столь ранний час, ваше высочество, – начал кардинал, – я счел за благо не мешкая вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате.
– Утрате? – повторил Филипп Пуатье, вздрогнув всем телом.
Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц разрешения от бремени.
– Я вижу, что поступил правильно, придя сюда, дабы известить вас о случившемся, – продолжал Дюэз. – Король, ваш брат, скончался пять дней тому назад.
Ничто не выдало чувств Филиппа, разве что судорожно заходила грудь. Ни удивления, ни печали, ни даже нетерпения узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице.
– Я благодарен вам за ваше рвение, монсеньор, – проговорил он. – Но каким образом вам стала известна эта весть… раньше, чем мне?
– Мессир Бувилль срочно прислал гонца, дабы я втайне ото всех вручил вам это послание.
Граф Пуатье сломал печать и по примеру всех близоруких людей, стал читать письмо, уткнувшись носом в пергамент. Но и сейчас ничто не выдало его чувств; окончив чтение, он сложил письмо и молча опустил его в карман.
Молчал и Дюэз с видом притворного сочувствия к горю принца, хотя, по всей видимости, принц не слишком скорбел.
– Да сохранит его господь бог от адских мук, – произнес наконец граф Пуатье, поняв, чего ждет от него прелат со своей постно-благочестивой миной.
– О… ад… – пробормотал Дюэз. – Помолимся вместе творцу за душу покойного! Я сразу подумал о несчастной королеве Клеменции, ведь она выросла на моих глазах, когда я находился при короле Неаполитанском. Такая кроткая, такая прекрасная принцесса…
– Да, я глубоко жалею мою невестку, – отозвался Филипп.
А сам в это время думал: «Людовик не оставил посмертного распоряжения насчет регентства. Если судить по письму Бувилля, наш дядюшка Валуа уже начал действовать…»
– Что вы намереваетесь делать, ваше высочество? Срочно возвратитесь в Париж? – осведомился кардинал.
– Не знаю, сам еще не знаю, – ответил Филипп. – Подожду более подробных известий. Пусть моей особой располагает, как найдет нужным, королевство.
Бувилль в своем письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пэра Франции, – в королевском Совете, где на первом же заседании начались споры по поводу кандидатуры регента.
Но, с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Лион, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу Пуатье, но и просто невыносима.
Прежде всего ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось еще и пяти лет, и вьеннским принцем-дофином, крошкой Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в Верхнюю Вьенну к отцу жениха, дофину Иоанну II де ла Тур дю Пэну, женатому на Беатрисе, родной сестре королевы Клеменции. Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях Анжу-Сицилийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней.
И главное, предстоят выборы папы. Вот уже несколько недель Филипп рыскал по всему Провансу, по Верхней Вьенне и окрестностям Лиона, повидался с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов{4}4
…с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов… – Большинство авторов насчитывает в конклаве 1314–1316 гг. двадцать три кардинала. Мы насчитали двадцать четыре. В «римскую» партию входили шесть итальянцев – Джакопо Колонна, Пьеро Колонна, Наполеоне Орсини, Франческо Каэтани, Джакопо Стефанески-Каэтани, Никколо Альберти (Альбертини) деи Прато; один анжуец из Неаполя – Гийом де Лонжи и, наконец, один испанец – Лука де Флиско (называемый часто Фьески), кровный родственник короля Арагонского. Они стали кардиналами еще до понтификата Клемента V и обоснования пап в Авиньоне и получили свои шляпы между 1278 и 1303 гг., при Николае III, Николае IV, Целестине V, Бонифации VIII и Бенедикте XI. Всех остальных кардиналами сделал Клемент V. «Провансальская» партия включала в себя Гийома де Мандагу, Беранже Фредоля-старшего, Беранже Фредоля-младшего, кагорца Жака Дюэза и нормандцев Никола де Фреовиля и Мишеля дю Бека. Наконец, гасконцы в количестве десяти были: Арно де Пелагрю, Арно де Фужер, Арно Нувель, Арно д’Ок, Реймон-Гийом де Фарж, Бернар де Гарв, Гийом-Пьер Годен, Реймон де Гот, Виталь дю Фур и Гийом Тест.
[Закрыть], уверил каждого, что случай, происшедший в Карнантра, не повторится, что к ним не применят более насилия; намекал то одному, то другому кардиналу, что именно у него есть шансы стать папой, взывал послужить делу веры к вящей славе католической церкви, интересам государства. В конце концов с помощью уговоров, неусыпных трудов и золота ему удалось собрать беглых кардиналов в Лионе, в городе, издревле находившемся под властью духовенства, но совсем недавно, в последние годы царствования Филиппа Красивого, перешедшем во владение французских королей.
Граф Пуатье чувствовал, что дело идет на лад. Но если он уедет в Париж, разве не придется начинать все сызнова, разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников, разве влияние римской знати или Неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны, разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что, если папский престол будет перенесен обратно в Рим? «Отец именно этого и опасался, – думал Филипп Пуатье. – И неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядюшка Валуа, погибнет бесславно?»
Кардиналу Дюэзу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг Пуатье обратился к нему:
– Будет ли и сейчас гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелагрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выбора папы?.. Присядьте, монсеньор, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет. В каком положении сейчас дела?
Немало повидал на своем веку старик-кардинал земных владык и правителей, недаром больше трети века он делил с ними заботы по управлению государством. Но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцатитрехлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует, а принц сидит и разговаривает с таким видом, будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары.
Усевшись бок о бок у окошка на ларе, покрытом парчой, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф Пуатье не спеша покачивал своей тощей длинной ногой.
По словам Дюэза, все вернулось к исходной точке, к тому положению, которое создалось два года назад после кончины папы Климента V.
Гасконская партия, куда входило десять кардиналов, именуемая также партией французской, по-прежнему была наиболее многочисленной, но все же ее сил было недостаточно для того, чтобы образовать без поддержки других партий большинство, поскольку требовалось, чтобы кандидат собрал две трети голосов священного конклава – другими словами, шестнадцать голосов. Гасконцы, считавшие себя прямыми хранителями заветов покойного папы, который и произвел их в кардиналы, упорно требовали, чтобы папский престол оставался в Авиньоне, и с поразительным единодушием выступали против двух других партий. Но и между ними шел глухой разлад; на папский престол притязал не только Арно де Пелагрю, но и Арно де Фужер, и Арно Нувель. Все трое не скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку.
– В сущности, это борьба трех Арно, – бормотал Дюэз. – А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии.
Итальянцев было всего восемь, причем эта восьмерка разделилась на три группы. Грозный кардинал Каэтани, племянник папы Бонифация VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями издревле существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Ананьи и пощечины, которую дал один из Колонна папе Бонифацию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Так, например, Стефанески, ярый противник политики Филиппа Красивого, держит руку Каэтани, которому, кстати сказать, доводится родней. Наполеон Орсини лавирует. Эта восьмерка согласна лишь в одном пункте: папский престол должен быть возвращен в Вечный город. Тут уж они ни за что не отступятся.
– А знаете, ваше высочество, – продолжал Дюэз, – была минута, когда мог начаться раскол, да и сейчас может… Наши итальянцы отказывались собраться во Франции и недавно дали нам знать, что, ежели будет выбран папа из гасконцев, они его не признают и выберут второго папу у себя в Риме.
– Раскола не будет, – спокойно произнес граф Пуатье.
– Только благодаря вам, ваше высочество, только благодаря вам, мне приятно это сознавать, и я повсюду об этом твержу. Разъезжая по городам и весям, вы, носитель доброго слова, если еще не нашли достойного пастыря, зато хоть собрали воедино стадо.
– Недешево обошлись мне эти овечки, монсеньор! Известно ли вам, что я привез из Парижа шестнадцать тысяч ливров и что на прошлой неделе мне пришлось затребовать еще столько же? Язон по сравнению со мной был просто бедняком. И я порадовался бы, если все это золотое руно сослужило нам хоть какую-то службу, – добавил граф Пуатье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала.
А кардинал, который сумел окольным путем широко попользоваться щедротами французского двора, отлично понял намек, но предпочел дать уклончивый ответ.
– Думаю, что Наполеон Орсини и Альбертини да Прато, а возможно, даже и Гийом де Лонжи, бывший до меня канцлером Неаполитанского короля, без труда отрекутся от своей партии, – хладнокровно пояснил он. – Только бы избежать раскола, для этого любая цена хороша.
«Значит, он истратил наши деньги на подкуп трех итальянцев, то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, ход ловкий», – подумал Филипп.
Что касается Каэтани, то, хотя он по-прежнему держится непримиримо, положение его заметно пошатнулось с тех пор, как была открыта его причастность к ворожбе и его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Пуатье. Бывший тамплиер, полубезумный Эврар, чьими услугами при сношении с дьяволом пользовался Каэтани, немало порассказал о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской страже.
– Это дело я держу про запас, – признался Пуатье. – Запашок костра сумеет в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каэтани.
При мысли о том, что на костер пошлют кардинала, узкие губы старого прелата тронула легкая, тут же угасшая усмешка.
– Говорят, что Франческо Каэтани окончательно отвратился от дел божьих и предался сатане, – добавил Дюэз. – Уж не он ли, видя, что порча не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?
Граф Пуатье пожал плечами.
– Всякий раз, когда кончается король, утверждают, что его отравили, – сказал он. – Так говорили о моем деде Людовике Восьмом, так говорили и о моем отце, упокой господи его душу… Мой брат был слаб здоровьем. Но над этим стоит поразмыслить.
– Наконец, остается, – продолжал Дюэз, – третья партия, которую зовут провансальской, поскольку кардинал Мандгу самый деятельный среди нас…
Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения; южане, такие, как братья Беранже Фредоли, мирно уживались с нормандцами, уроженцем Керси, откуда родом был сам Дюэз.