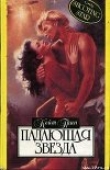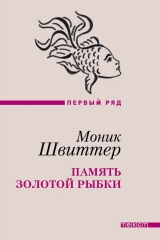
Текст книги "Память золотой рыбки"
Автор книги: Моник Швиттер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дорога заняла тринадцать часов. Она открывает садовую калитку, ворча при этом по привычке: «До чего же она низкая!» Входную дверь перекосило еще больше, она поворачивает ключ в замке, чертыхаясь, тянет дверь на себя и одновременно толкает. Не снимая пальто, падает на кровать и лежит не шевелясь. Изучает содержимое шкафчиков на кухне. Садится у камина и выкуривает сигарету. Массирует распухшие колени. Размышляет, стоит ли снимать пальто. Засыпает.
В дверь стучат. Она резко просыпается. «Уже иду!» Встает, идет к двери, открывает. На пороге стоит полицейский с листом бумаги в руке. «Это вы госпожа Виттхаген? Ульрике Виттхаген?»
– Да.
– Сегодня ночью вас объявили в розыск в Берлине.
– Правда? И кто это меня потерял?
– Господин Штефан Рауш. Вы проживаете вместе с ним?
– Да, но почему меня объявили в розыск? Вот она я, здесь. Приехала сюда поработать, как раз сейчас в процессе, и мне необходим покой.
– Здесь написано, что у вас больное сердце и вы оставили дома жизненно необходимые лекарственные препараты.
– Это какое-то недоразумение, лекарства у меня с собой. Со мной все в порядке.
– Прошу прощения, что помешал. Я же из лучших побуждений. Сами знаете, с сердцем шутки плохи.
Она благодарит полицейского за заботу и желает ему хорошего дня. Он показывает вверх, на хмурое небо: «Сегодня лучше уже не будет».
«Штефан, о чем я все время думаю, так это о чувстве стыда, о котором я тебе никогда не говорила», – пишет она. После того как полицейский ушел, она еще какое-то время стояла у окна и курила, прислушиваясь к каждому шороху, пока опять не увлеклась своими мыслями. «Мне кажется, что все эти годы, во всех ролях, что я исполняла, стыд был моим верным спутником. Теперь, вспоминая об этом, я думаю, что лучше всего мне давались роли, которых я больше всего стыдилась. Я всегда пряталась здесь, в этом домике на острове, когда больше уже не могла, когда стыд овладевал мной и не давал вымолвить ни слова. Давным-давно, вскоре после рождения Ханны, я играла Ифигению. Но мне не хватало стимула. Я еще никого никогда так не любила. Я хотела быть с Ханной. Ни инфаркт, ни боль, ни сомнения, ни алкоголь не ставили мою жизнь – или точнее будет сказать, мое творчество? – под такую угрозу, как эта любовь, кроме которой мне ничего не было нужно. На первых репетициях я только рыдала и ничего не могла делать, никто не понимал, что со мной творится. Я страдала от любви. Потом я выпила первую чашку кофе, забыв о своем голодном ребенке, который ждал материнской груди, выкурила первую сигарету, потребовала стакан вина. И после этого плакала еще горше, потому что к любовным страданиям прибавились угрызения совести. Когда я вернулась домой, Альберт был очень расстроен моим поведением. Но назад дороги не было. Через несколько недель я снова просиживала в театре дни и ночи напролет. Дома почти не появлялась, днем уходила на репетицию, потом перебиралась в театральную столовую, ночь проводила в пивной. Сидела чаще всего одна, за отдельным столиком, напустив на себя мрачный, неприветливый вид, чтобы избежать нежелательной компании, ведь моя роль требовала одиночества. Я уже тогда была полной. И ужасно стыдилась своего тела. Несмотря на это, как-то раз на репетиции я просто взяла и разделась. Это было невыносимо. Но что поделать. Моя Ифигения была обнаженной. Мне было жарко, мне было холодно, мне было тесно, сердце стучало как безумное, и все мое существо словно кричало: “Прочь отсюда, прочь! Хватит! Выключите свет!” Я хотела исчезнуть. Навсегда. Просто исчезнуть, раствориться в кромешной тьме или взмыть в колосники. От стыда я рыдала прямо на сцене, каждый день с новой силой, и слезы все не убывали, потому что, повторяя эту роль раз за разом, я никак не могла свыкнуться с ней, и ничто не приносило мне облегчения. Однажды я репетировала втайне ото всех, одна, ночью, здесь, на этом острове. Разделась догола и под проливным дождем пробежала всю дорогу через дюну до пляжа, а ветер дул мне в лицо. В ту ночь на пляже, нагая, под покровом темноты Ифигения не плакала. Но слезы – слезы были необходимы, это я поняла. А теперь? Теперь я играю Ричарда и сгораю от стыда, но этот стыд не заставляет меня плакать. Он только сковывает меня. И я ничего не могу с этим поделать. Когда на прошлой неделе я пожаловалась тебе, что не могу запомнить роль, ты поднял меня на смех. “Да ты уже всю мировую литературу наизусть выучила, – сказал ты мне. – Неужели в твоей памяти не найдется места еще для одной пьески?” Нет, не найдется. Даже для коротенькой строчки не найдется. А одного стыда недостаточно для того, чтобы играть, Ричард должен еще и говорить».
Она откладывает карандаш в сторону. Сколько еще осталось до того, как стемнеет? Она смотрит в окно, но не может определить, который час. Небо такого же серого цвета, как и раньше, а больше ничего не видно.
Начался дождь.
Косой дождь барабанит по стеклам и заставляет ее выбраться из кресла. Она меряет шагами маленькую кухню. Три шага туда, три шага обратно. И вдруг прямо перед собой – так близко, кажется, стоит только протянуть руку – она четко видит строки:
Она повторяет их, сперва со стеснением, тихо, прислушивается к тому, как они звучат, играет ритмом, управляет им, меняет, нарушает его. Она говорит и снимает пальто, стряхивает с ног обувь, расстегивает брюки, которые сами соскальзывают на пол, стягивает носки, скидывает жилет и блузку – и стоит обнаженная, смотрит вниз, на свое тело, договаривая последнюю строку: «Найдя покой». Затем вытаскивает из рюкзака бутылку с письмами и лопатку и выходит из дома.
Дождь принимает ее в свои холодные объятия. Она идет быстрым шагом, борясь с ветром, который толкает ее обратно, – идет к дюне. Прожектор маяка кружит по острову, но она не попадает в луч его света. «Я тут!» – выкрикивает она, как будто дразня осветителя, который тщетно пытается выхватить ее из темноты прожектором. «Ну-ка, поймай меня!» И добавляет: «Нет, не меня, а всякого, лишь будь он человеком!»
Она бежит, бежит, с каждым шагом становясь все легче, а вода приближается. Моря не видно, только слышен плеск волн. Она кидает в воду бутылку с письмами – та описывает в воздухе высокую дугу, – нагибается и начинает копать.
ПАМЯТЬ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
(Перевод А. Чижовой)
Я ходила за ним по пятам. Снова и снова. Впервые, когда мне было тринадцать. Во время большой перемены увидела его на набережной. Смеясь, он шел под руку с какой-то незнакомой женщиной и как раз показывал на воду, когда увидел меня. На мгновение улыбка с его лица исчезла, он посмотрел на меня испытующим взглядом, но затем, словно я дала согласие на соучастие, громко рассмеялся над чем-то, что нашептывала эта женщина, и обнял ее за талию. Мы разминулись, будто незнакомы. Внутри у меня похолодело, мороз пробежал от груди до живота, сковав внутренности сияющим льдом.
Я досчитала до десяти и пошла за ними, еще несколько сотен метров, пока он не обернулся. Я стояла неподвижно, уставившись на него. В ответ он бросил лишь короткий взгляд, но этот взгляд я не забуду никогда. Это был быстрый аккуратный разрез. Связь оборвана.
Я смотрела ему вслед, ему и этой женщине, просто стояла и смотрела на неспешно уходящую пару, которая, как дрейфующий корабль, все дальше и дальше удалялась от берега.
По вечерам мы все вместе сидели за круглым столом. «Расскажи что-нибудь», – просила меня мама. У нее был грустный вид. Я развлекала семью во время ужина, потому что не выносила тишины. Я рассказывала очень смешные или очень страшные истории. Я их выдумывала. Некоторые были реальные – их я приукрашивала. Речь шла или о каком-нибудь однокласснике, которому удавалось так ловко нахамить, что у всех рты открывались от удивления, а с учителем случался удар, или об отце какой-нибудь одноклассницы, который уплывал на лодке в открытое море, чтобы застрелиться на закате. И я цитировала оставленное им дочери прощальное письмо. На отца я посматривала лишь украдкой. Он не отрывал глаз от еды, но ловил каждое мое слово. Ел с большим аппетитом и живо принимал участие в том, что я рассказывала – смеялся или с сожалением качал головой, в зависимости от того, какой реакции требовала история. Но в глаза друг другу мы не смотрели.
Я часто рассказывала, что мой отец умер. Но это неправда.
Мой отец пьет. Каждый человек пьет. Тебе надо много пить – совет, который я получаю чаще всего. Мой отец пьет много. Но ничего горячего. Горячие напитки вызывают у него отвращение. Он пьет молоко, когда хочет пить, а так – коньяк. По уграм, приняв душ, он надевает костюм. Затем выпивает кружку молока и уходит на работу. По субботам он остается дома и усаживается в костюме в свое кожаное кресло. В обед он выпивает коньяку и говорит: «Мне на работу надо съездить». Чаще всего стул его за обедом пустует, и не только по субботам. Домой он приезжает поздно ночью на такси.
Мне девять лет. Несколько дней назад у меня было первое причастие. На занятиях в воскресной школе я выучила наизусть стих, который вечер за вечером с восторгом повторяла перед сном:
В день причастья моего, Бог Отец и Сын Его, вы меня благословите, от несчастья защитите. Вместо Бога Отца у меня получались Бог и отец, между которыми я мысленно ставила запятую. «В день причастья моего, Бог, отец и сын его, вы меня благословите, от несчастья защитите». Моей старшей сестре это понравилось. «Хорошо, договорились, – сказала она. – Хоть я и не сын». Отец же не сказал ничего. Только поцеловал меня и кивнул, когда крестный спросил его, гордится ли он мной.
Я просыпаюсь. Слышу глухие удары. Кто-то стучит молотком по полу, но ковер приглушает звуки. Я лежу и прислушиваюсь. Нет. Это мои родители. Они дерутся. Я знаю, как это выглядит. Время от времени до меня доносятся сдавленные крики. Я не встаю. Сестра научила меня: если замереть совсем неподвижно и тихо пробормотать: «я готова», смерть схватит тебя, уколет и пустит яд, который быстро распространится по всему телу и парализует. Она уже много раз пробовала это на себе. Когда играла в прятки или когда не хотела, чтобы в школе ее спрашивали. Это всегда срабатывало. Она становилась невидимой. Нужно только не забыть вовремя прокричать «отпусти». «Я готова», – шепчу я. И меня уже парализует. Яд действует!
По воскресеньям мы все красиво одеваемся и отправляемся куда-нибудь на машине. Заезжаем в загородный ресторанчик. Там есть детское меню и детские десерты. Мне плохо. Рядом с парковкой карусель. На ней мне становится еще хуже. Затем мы снова залезаем в машину. Отец курит сигару. «Остановитесь!» должна успеть прокричать я, прежде чем меня стошнит, напоминает мне мама каждый раз перед тем, как ехать. Часто идет дождь. Я упираюсь лбом в прохладное стекло и смотрю на растекающиеся капли.
* * *
Случилась ли эта история на самом деле, я не знаю. Но я так часто ее слышала, что не могу представить себе, что этого не было.
На свой тридцать пятый день рождения, 13 ноября 1976 года, отец впервые отправился в подпольное казино, которое, между прочим, было устроено в дорогом старинном отеле. Он подошел к одному из столов, выслушал правила, понял их не до конца и начал играть.
Когда он шел, спотыкаясь, в воскресенье в дождливых предрассветных сумерках, в кармане у него лежал самый толстый бумажник, какой ему только доводилось видеть. Всю ночь напролет он выигрывал, даже не вникнув толком в правила игры.
Он еще недостаточно выпил, чтобы ехать домой. Таксист отказывался его понимать. «Напишите адрес на бумажке», – потребовал он. «Фрюбар» накарябал мой отец. «Не знаю такого, – ответил таксист. – Брось, давай я лучше тебя домой отвезу. Где ты живешь?» Отец достал из пиджака бумажник и протянул таксисту несколько купюр. «Фрюбар», – повторил он. Это был никакой не бар, а бордель, хотя там и было место, где наливали. Других клиентов здесь не было, по крайней мере пьющих. Отец заказал бренди. Придя в себя, он обнаружил, что лежит весь мокрый на тротуаре перед входом в это заведение. Без пальто, без часов, без бумажника. Очки у него сломались: одна половина осталась на носу, другая свисала с уха. У него были кровоподтеки на животе, на боках, на лице.
Он рассказывал нам эту историю снова и снова, пытаясь, должно быть, предостеречь от пьянства, азартных игр и улиц красных фонарей. Но это не действовало ни на нас, детей, – мы считали ее увлекательным приключением, интересней «Робинзона Крузо» и любили слушать ее всякий раз заново и расспрашивать о каждой детали, – ни на отца – он продолжал пить, продолжал играть, продолжал блудить. Приезжал домой рано утром на такси, часто сильно потрепанный, побитый, в изодранной одежде, весь в крови и синяках, ложился на кровать к старшей сестре, потому что знал, что мама, боясь разбудить ребенка, не станет требовать объяснений, вставал утром, принимал душ, надевал свежую рубашку, чистый костюм, рассасывал эвкалиптовый леденец, чтобы перебить запах перегара, – и рассказывал нам историю о своем тридцать пятом дне рождения. Хотя мне только сейчас пришло в голову, что сестра на самом деле ни разу при его рассказах не присутствовала. Она ненавидит отца. Она не хочет, чтобы он ложился к ней на кровать. Отец воняет и храпит. Сестра просыпается и пытается его столкнуть. Но отец тяжелый и спит как убитый.
Мне часто снилось, что отец умер. От этого я просыпалась с криком, как утверждают свидетели.
Я ходила за ним по пятам. Снова и снова. Однажды, когда мне было пятнадцать и я подрабатывала в кафе, у одной пожилой семейной пары, он неожиданно уселся за мраморный столик и заказал стакан молока.
– Пожалуйста, уходи!
– Я бы хотел стакан молока, – повторил он.
Пожилой хозяин обходил зал, спрашивая гостей, всем ли они довольны.
– Ну, и как моя дочь, справляется?
– Вы ее отец? – Они пожали друг другу руки. – Могла бы быть и повежливей, особенно с постоянными клиентами, а в остальном не так уж и плохо.
Хозяин наклонился к моему отцу:
– Главное – симпатичная. Ну, вы понимаете, о чем я, – добавил он, подмигнув. Мой отец смерил меня взглядом с головы до ног и кивнул со знанием дела. В этот момент я сжала рукоятку кухонного ножа.
– Джентльмен, твой отец настоящий джентльмен, – шепнул мне хозяин.
– Можно я домой пойду?
– Ну конечно. И молоко за счет заведения.
Затем они долго жали друг другу руки, будто им обоим это доставляло огромное удовольствие, и никак не хотели расставаться. Я воспользовалась моментом и пошла. «Пока! Господин Шторрер, вы ведь мне позвоните?» Отец прокричал мне вслед что-то невнятное. Я зашла в музыкальный магазин в доме напротив и начала листать нотную тетрадь, наблюдая за входом в кафе. Отец вышел, остановился, посмотрел налево, направо, постоял в нерешительности и пошел налево вверх по переулку.
Он сам не знает, куда ему идти. Каждые несколько метров он останавливается, рассматривает витрину аптеки, светящуюся рекламную вывеску, меню – и вдруг, глупо улыбаясь, будто напрашиваясь на сочувствие, поворачивается к прохожим, как нищий. Я вижу это даже издалека. Мне стыдно. Я быстро подхожу к нему, хватаю его за рукав, будто хочу арестовать, и веду домой.
* * *
Однажды, через несколько лет, мы оказались в двух встречных трамваях. На остановке я посмотрела в окно того, который шел в обратном направлении. Люди входили и выходили. Отец тупо смотрел перед собой. Казалось, он ничего не воспринимает. Я уставилась на него сквозь стекла и на секунду захотела пересесть в другой трамвай. Вдруг отец резко посмотрел в мою сторону. Мой трамвай тронулся, я обернулась, но все, что смогла увидеть – лишь его затылок. Голова упала вперед. Казалось, он внезапно заснул. Или умер.
Я часто думала, что мой отец умер, но тут он неожиданно появлялся откуда-нибудь из-за угла.
Волосы у него не редеют. Постепенно они седеют, но кажутся такими же густыми, как и двадцать лет назад. Он невысокого роста – раньше мне это никогда не бросалось в глаза. На каблуках я, конечно, выше его. Он ходит повсюду и рассказывает всем, что я его дочь. «Твой отец стоит под дверью», – сообщают мне коллеги. У них смущенный вид. «Слушай, он уже два часа там ждет на холоде». «Но он что-то рано. Идете вместе обедать?» Мне видно его из окна туалета, когда я выглядываю, встав на батарею. Под мышкой он держит газету. Смотрит на часы, по сторонам, будто чего-то ищет. Читает заголовки. Заходит к портье. Больше я его не вижу. Я долго мою руки и выхожу из туалета. Беру пальто, еду в лифте на первый этаж, желаю портье приятного аппетита. Я делаю мрачное лицо, но ненадолго. Отца нигде нет.
* * *
Это началось через полгода после моего первого причастия, когда врач заподозрил у мамы аппендицит. Утром 31 декабря маму привезли в больницу. Так как отец накануне вечером домой не пришел, она оставила для него сообщение на работе и записку на обеденном столе. Потом она повела нас, детей, к соседям. Она передвигалась мелкими шажками, согнувшись пополам от боли – от испуга мы даже рассмеялись. Только после этого ее увезли в больницу на машине «скорой помощи».
Вечером она позвонила. Она желала нам всем по очереди веселого Нового года, и мы все по очереди всхлипывали в трубку и не могли ничего сказать в ответ.
Вместе с аппендиксом были удалены две опухоли. Врачи поздравили маму и сказали, что она правильно поступила, вовремя обратившись в больницу. 2 января объявился мой отец вместе с какой-то молодой женщиной, которая должна была присматривать за нами, пока мама в больнице. «Это Ребекка», – сказал он и тут же снова испарился.
Я часто представляла себе, что мой отец умер. Иногда я отдавала ему последние почести, иногда плевала на застывшие веки.
Мы должны молчать. Мне одиннадцать лет, и никто не должен знать. «Мы переехали, и точка», – говорит мама. И мы всем должны это твердить. Мы перебрались на съемную квартиру в другом районе. Поскольку электрическая компания уже знает, что за клиент мой отец, они повесили в подвале нашего нового дома, рядом со счетчиком, ящик, в который нам приходится бросать монеты, чтобы у нас было электричество. Иногда резко выключается свет, и стиральная машина перестает работать. Тогда кто-нибудь из нас ищет карманный фонарик и мелочь, спускается вниз, в подвал, и подбрасывает монет. Они со звоном падают на дно ящика. Вообще мы должны это делать поздно вечером, чтобы никто не увидел. Хотя этот серый ящик висит на видном месте в прачечной для жильцов. Все знают, что он там висит с тех пор, как мы сюда переехали. «Это никого не касается, – говорит мама. – Мы ни перед кем не обязаны отчитываться».
* * *
Незадолго до того, как я встретила отца с незнакомой женщиной на набережной, мама проходила плановый профилактический осмотр, и врачи обнаружили у нее опухоль еще и в прямой кишке. «Крошечную, – сказала мама. – Ее мигом удалят, вот увидите». Она провела в больнице две недели. Это было здорово. Нам два раза в день доставляли на дом готовые блюда, которые мы еще теплыми отправляли в мусорное ведро. В остальном нас не беспокоили. Я звонила маме часов в семь утра и в семь вечера и сообщала, что все в полном порядке. Отца я видела каждое утро, когда он выходил из ванной и доставал из шкафа свежее белье. Несколько раз он оставался дома и вечером, звал нас в пиццерию и после этого разрешал смотреть по телевизору все, что угодно и сколько угодно. Я не обрадовалась, что маму выписывают, но, когда я ее увидела, у нее был такой жалкий вид, что я разревелась. Она тоже разревелась, но принялась утешать меня. Это не помогало.
* * *
Я прихожу домой из школы. Утром мама попросила меня сходить в магазин и стала диктовать список. «И йогурт. Нет, подожди, не надо йогурт. Лучше фрукты. Пиши: яблоки». Тут она вспомнила, что сегодня среда.
– Ты разве не работаешь сегодня в кафе после обеда?
– Нет.
– Почему?
– Шторреру я сегодня не нужна.
– Что ты натворила?
– Оставь меня в покое.
Она постоянно думает, что кто-то из нас пошел по стопам отца: проигрывает деньги, пьет и ввязывается в драки. У меня нет никакого желания все время ее успокаивать и доказывать, что моя совесть чиста. И вот, прихожу я домой из школы и вижу, что ее дома нет. На обеденном столе лежит записка. Мне становится не по себе.
У моего отца случился эпилептический припадок. На ночь он должен остаться в больнице для обследования, и мама там с ним. Она так разволновалась, что почти забыла про детей, впервые за всю свою жизнь. Она звонит и спрашивает, как мы там одни. На следующее утро она привозит отца из больницы и объявляет нам странным торжественным тоном, что она с ним поговорила. Что теперь все будет хорошо. Он пройдет курс лечения. Отец кивает. Затем надевает чистую одежду и уходит.
Я часто желала смерти своему отцу. Но он жив. Я не знаю, где он живет, и не хочу представлять себе как. Но он жив. Раз в несколько лет он объявляется откуда ни возьмись и вмешивается в мою жизнь.
Как-то ночью после свидания я возвращалась домой пешком. Была весна, цвели японские вишни, и даже в темноте вся улица светилась розовым светом. Я увидела пару, которая шла в мою сторону, покачиваясь, как в замедленной съемке. Лицо мужчины тоже сияло розовым. Женщину я разглядеть не могла. Она пела глубоким грудным голосом что-то похожее на колыбельную. Мужчина еле держался на ногах, она его придерживала и время от времени прерывала пение, разражаясь громким смехом. Женщина была очень толстой. Что она черная, я поняла только через несколько шагов, что она старая – примерно в ту же секунду, когда узнала его, моего отца. А он уже прошел мимо. Настолько пьяным я его еще никогда не видела.
Я делаю несколько шагов вслед за ними, затем обгоняю и преграждаю им путь. Я смотрю отцу в глаза, пытаясь поймать его взгляд. Но они блуждают, ни на чем не задерживаясь, он моргает без остановки. Меня он не узнаёт. Кажется, он чего-то боится. Вдруг он закрывает лицо руками. Черная женщина пытается тащить его дальше, мимо меня. Она уговаривает его на языке, которого я никогда раньше не слышала. Я отворачиваюсь. Позади меня женщина возобновляет пение, и вскоре я снова слышу ее смех. В заборе, у которого я стою, одна штакетина сломана. Сейчас я ее совсем выломаю, догоню их и убью его. Женщина заливается смехом. И ее заодно. Потом тишина.
С тех пор как мне исполнилось семнадцать, отец для меня умер. Той весной, незадолго до Пасхи, маму снова прооперировали: это был уже третий рецидив за три с половиной года, но шансы на выздоровление были. «Конечно, шансы есть», – сказал онколог в беседе с близкими. Я готовила ужин, когда зазвонил телефон. «Меня нет дома», – крикнул мне отец. Он сидел в кожаном кресле в халате, со стаканом бренди. Презрительно махнув рукой, он прошипел: «Идиоты». Я назвала свои имя и фамилию. Какой-то господин Цвайфель очень извиняется, что побеспокоил в такое тяжелое время, ему невероятно жаль, хоть он и не знал мою маму лично.
– Что? – спрашиваю я в ужасе. – Что с моей мамой?
– Да, э... да, примите мои искренние соболезнования. Пожалуйста, могу я поговорить с вашим отцом?
– Вы из больницы?
– Нет, у меня с вашим отцом дела.
– Его нет.
– Вряд ли это возможно. Пожалуйста, посмотрите еще раз.
– Его нет!
– Послушайте, это в его же интересах, я советую ему срочно...
Я положила трубку.
Отца совершенно не интересует, кто это был.
– Ты говоришь людям, что мамуля умерла?
– Ерунда. Оставьте меня наконец в покое, отстаньте вы все от меня.
Мой отец заснул в своем кожаном кресле. Он дергается во сне, как больной бульдог наших соседей снизу, который спит на балконе во второй половине дня. Из бокала в его руке на пол течет коньяк, халат распахнулся, и я вижу его короткий толстый член, темнеющий на фоне белой ткани. И как мне ни противно, я с трудом отвожу взгляд.
На следующий день он как в воду канул. Просто внезапно пропал и больше не показывался, даже в больнице. Только однажды принес коробку конфет. И она стояла, красная и блестящая, у мамы на тумбочке. Мама не хотела об этом говорить. Она была взволнованна и растерянна. На захоронение урны с прахом он не пришел. Когда я была еще маленькая и ошеломленно сказала ему, что он когда-нибудь умрет, потому что мне об этом как раз рассказала сестра, отец ответил: «Мы должны уметь отпускать, даже тех, кого больше никогда не увидим». Я часто думала над этой фразой, и на кладбище тоже. И над тем, что я ответила:
– Не я.
– Нет, и ты тоже.
– А ты, папа?
– И я. Это совсем нетрудно. Ты увидишь.
* * *
Коллеги меня не предупредили. Я желаю портье приятного аппетита и улыбаюсь в ответ на его комплимент моей новой стрижке. «Весенняя», – говорю я и подмигиваю, проходя мимо. И вижу его. Он стоит у меня на дороге. «Привет». Его голос звучит тише, чем раньше. Я хочу идти дальше, он хватает меня за рукав: «Я просто хочу с тобой поговорить».