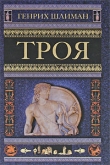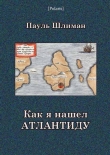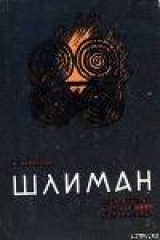
Текст книги "Шлиман"
Автор книги: Моисей Мейерович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Шлиман попытался декламировать «Тилемахиду» самому себе. Но это было странно, скучно и неестественно.
Тогда он нанял себе слушателя. Один старый нищий еврей согласился за четыре франка в неделю приходить к нему и слушать рассказ о Телемахе.
Старик ни слова не понимал по-русски, но все же обращаться к нему было веселей, чем разговаривать со стеной.
В дешевых амстердамских домах перегородки и перекрытия настолько тонки, что соседи Шлимана не раз жаловались хозяевам на его непрестанное громкое чтение. Несколько раз Шлиману из-за страсти к декламации пришлось менять квартиру. Но это его мало огорчало.
Уже через три месяца Шлиман был в состоянии написать свое первое русское письмо. Оно было адресовано в Лондон Василию Плотникову, торговому агенту московских купцов братьев Малютиных.
Одновременно с изучением русского языка Шлиман довольно обстоятельно познакомился с тайнами «колониальной» торговли. Он легко разбирался в хлопке, рисе, табаке, знал разницу между явайским сахаром и гавайским, а сорт индиго определял с первого взгляда.
Когда на большую распродажу индиго приехали в Амстердам русские купцы, к ним приставили Шлимана, и он одновременно выполнял обязанности товароведа, гида и переводчика.
Московский купец Живаго, почуяв в двадцатитрехлетнем молодом человеке железную настойчивость и хватку, решил переманить его от Шредера и предложил деньги, чтобы совместно открыть в Москве оптовую торговлю индиго. Сделка почему-то не состоялась, но предложение Живаго польстило Шлиману и укрепило в нем уверенность в своих коммерческих способностях.
В январе 1846 года фирма «Шредер и Ко» официально предложила Шлиману поехать в качестве торгового представителя в Петербург.
Железной дороги в России еще не было, зимой корабли не ходили. Шлиман поехал на перекладных. Россия встретила его снежными равнинами и жестоким морозом.
Богатство
Той же порой, как в далеких землях я, сбирая богатства.
Странствовал, милый в отечестве брат мой погиб…
«Одиссея», IV, 90-91
Шлиман бросился в коммерцию с той же страстной энергией и сосредоточенностью, с какой раньше изучал языки. С Петербургом он освоился легко и стремительно. Знакомился с купцами и маклерами, ходил в порт встречать корабли, ежедневно подымался по гранитным ступеням Фондовой биржи, архаическим языком XVIII века («Тилемахида» давала себя знать) писал деловые письма.
В России бурно развивались мануфактуры; индиго у текстильных фабрикантов пользовалось большим спросом. Этого было достаточно Шлиману. Он мало задумывался над общими вопросами экономики, над тем, что большая часть экспортно-импортной торговли России – в руках иностранных купцов, что назревает обостренная конкуренция различных капиталистических групп. Молодой агент фирмы Шредер был рад, что ему представилась возможность развернуть свои организаторские и комбинационные способности. Он получал от своих хозяев полпроцента с суммы сделки. Оставалось только добиваться, чтобы сделок было побольше. Нередко он шел на весьма рискованные спекуляции. Из Голландии от патрона приходили предостерегающие письма, но Шлиману везло, и Шредер, в конце концов, примирился с этими спекуляциями: они давали неизменный барыш.
Через год Шлиман уже был купцом первой гильдии (Гильдии – объединения купцов, делившиеся по размерам капитала на первую, вторую и третью гильдии. Купцы первой гильдии были крупными капиталистами). Как он этого добился? Собственных денег у него было относительно мало. Весь 1846 год принес ему 7500 гульденов дохода весьма небольшая сумма для петербургского купца первой гильдии. Но положение агента солидной фирмы придавало Шлиману вес в глазах гильдейских купцов. Молодой делец использовал в своих интересах кредит и доверие, которыми пользовалась фирма Шредера. Параллельное выполнением обязанности агента Шлиман затеял спекуляцию на свой страх и риск. Шредер от этого убытка не терпел и сквозь пальцы смотрел на коммерческие «операции» своего петербургского агента.
Недавний приказчик, юнга и рассыльный с головой ушел в торговые дела. Нужно откровенно признать, что этот период жизни Шлимана ничего не прибавляет к его славе замечательного ученого и выдающегося человека. Многие его предприятия были сомнительны даже с точки зрения буржуазной «деловой» морали. Он был настоящим спекулянтом. Но даже эти «коммерческие» годы его жизни характеризуют Шлимана, как человека большой и целеустремленной воли, упорства, сосредоточенности.
Лишь изредка он как бы приходил в себя. Ради чего он все это делает? Зачем ему векселя, корабли с товарами, бухгалтерия, тысячные доходы и ежедневный риск разорения? Он был одинок, семьи, по существу, не было. Отцу и сестрам он изредка писал письма и посылал немного денег. В письмах он рассказывал, сколько прибыли принесла ему торговля. Сорить деньгами он не умел. Его личные потребности были ограниченны: привычки своей голодной юности он ввел в принцип. Приезжая в какой-нибудь город, он останавливался в лучшей гостинице – этого требовал престиж, но занимал самый дешевый номер: он неуютно чувствовал себя в роскошных апартаментах…
В один из таких дней «просветления» он написал письмо в Стрелиц, господину Лауэ.
Напомнив о себе, Шлиман сообщил о своих коммерческих успехах, о своем солидном положении и выражал надежду, что господин Лауэ не откажется помочь ему в деликатном и важном деле. Речь шла о фрейлейн Минне Мейнке. Шлиман просил передать ей предложение руки и сердца. Он был убежден, что, окружив Минну нежнейшей любовью и довольством, сможет составить ее счастье и тогда сам станет счастливейшим из смертных.
На это письмо – смесь немецкой сентиментальности, деловых выкладок и искренней тоски по любящему существу – через месяц пришел вежливый и сухой ответ. Фрейлейн Минна Мейнке не могла принять предложение: незадолго до получения письма Шлимана состоялось ее бракосочетание с господином Рихерсом. Удар был тяжел и оскорбителен. Минна не дождалась Генриха. Ее обещание, данное в детстве, ее слезы при последней встрече – все было ложью.
С именем Минны вставали воспоминания о детстве, об играх, о страшных сказках деревенского пономаря, о первом чувстве. Единственные светлые воспоминания, которые он увез из Германии.
Теперь его ничто больше не связывало с местом, где он родился.
Отправляясь по торговым делам в Англию, он записывает на пароходе в свой дневник: «Туман рассеялся, я увидел мекленбургский берег. Вид отечества после столь долгого отсутствия должен в каждом пробудить живейшую радость. Но, к своему стыду, я должен сознаться, что с величайшим равнодушием увидел свою родину. Травемюнде, которое я раньше считал таким прекрасным, показалось мне теперь деревушкой, а его маяк – печной трубой».
У Шлимана есть теперь и время и деньги, но ему и в голову не приходит заехать погостить «домой». Да и где его дом? У отца, который обзавелся новой семьей? У дяди? У господина Лауэ, наконец? Нет, с него достаточно, что время от времени он пишет письма Дютц и посылает отцу сто талеров (Талер – старинная немецкая монета, равная трем маркам). Кроме того, он пристроил своих двух братьев, Пауля и Людвига, на службу в Амстердаме. Его обязанности выполнены…
Первая деловая заграничная поездка была для Шлимана также и первой встречей с подлинной древностью. В Лондоне он решил заглянуть в Британский музей.
Это было ошеломляюще. Здесь каждый обломок мрамора, каждый каменный наконечник копья хранил память о тысячелетиях. Переходя из зала в зал, Шлиман старался разобраться в своих впечатлениях – и не мог. Непередаваемо прекрасны были греческие вазы. Перед «эльджиновскими мраморами» он вспомнил свое первое латинское сочинение – рассказ о Троянской войне и приключениях Одиссея.
Молодой шотландский лорд Томас Б. Эльджин был в 1799 году назначен чрезвычайным послом Великобритании в Константинополе. Архитектор Гаррисон попросил уезжавшего к месту назначения Эльджина сделать несколько слепков со скульптур и капителей колонн, украшавших некогда здания афинского акрополя (Афины, как и вся Греция, находились тогда под турецким владычеством).
Эльджин согласился и, почуяв выгоды предложения Гаррисона, решил поставить дело на широкую ногу. Он нанял в Италии нескольких архитекторов и формовщиков (среди них, между прочим, был один художник-калмык, по имени Федор) и отправил их в. Афины. Но турецкое начальство акрополя, который был еще в то время настоящей крепостью, всячески препятствовало работе. С трудом удалось вырвать у турок разрешение хотя бы срисовать статуи.
Приходилось платить коменданту крепости солидный «бакшиш» в пять фунтов стерлингов за день работы.
Лорду Эльджину вовсе не улыбалось тратить деньги там, где он рассчитывал на доходы. Работа была приостановлена до лучших времен. Времена эти, впрочем, вскоре наступили. Борьба между Англией и Францией за влияние на Ближнем Востоке обострялась. В 1800 году, после убийства генерала Жан-Батиста Клебера, командовавшего наполеоновскими войсками в Египте, и после разгрома французов, английские позиции при султанском дворе укрепились. Лорд Эльджин уже мог требовать то, о чем раньше просил. В 1801 году Эльджин получил разрешение снимать слепки со статуй акрополя, а вскоре выхлопотал султанский фирман (грамоту), в которой служащим лорда Эльджина разрешалось строить на акрополе леса, снимать слепки, раскапывать и изменять фундаменты. В фирмане было примечание: «Никто не должен им препятствовать, если бы они пожелали взять некоторые камни с надписями или фигурами на них». О лучшем нельзя было и мечтать.
Преподобный Гант, проповедник английского посольства в Константинополе, охотно взял на себя обязанности начальника работ по разрушению одного из величайших памятников античного зодчества.
В центре акрополя высится Парфенон – храм богини Афины Парфеиос (Девы), которая считалась покровительницей города Афин. Построен был Парфенон во времена Перикла, в 446-438 годах до нашей эры, зодчими Иктином и Калликратом. Храм, возведенный из белого мрамора, был окружен дорическими колоннами и украшен многочисленными скульптурами.
Гант набрал армию в четыреста рабочих и принялся грабить Парфенон. Год продолжалась эта беспримерная в истории вандализма «работа». С храма были сорваны двенадцать еще сохранившихся статуй фроитовов, выломаны пятьдесят шесть мраморных плит фриза, на котором изображена была торжественная, со сценами, процессия, и пятнадцать метоп (Метопы – четырехугольные плиты, обычно украшенные барельефами, составляющие часть украшения дорических храмов) со сценам» борьбы героев с кентаврами. Эльджина и Ганта мало беспокоило, что для удаления метоп приходилось ломать карниз храма, обрекая, таким образом, остатки здания на быстрое разрушение. Не постеснялся Эльджин выломать и одну из кариатид (Кариатида – женская статуя, служащая колонной, так как поддерживает верхнюю часть архитектурного сооружения), украшавших портик соседнего с Парфеноном храма – Эрехтейона. Вместо кариатиды верхняя часть портика была подперта обыкновенным бревном.
В 1803 году Эльджин нагрузил награбленными скульптурами несколько кораблей и вывез свои «находки» в Англию. Британский музей купил собрание Эльджина за 36 тысяч фунтов стерлингов.
«Эльджиновские мраморы» были выставлены для всеобщего обозрения. Объективно их появление в Британском музее сыграло положительную роль – оно заставило многих глубоко заинтересоваться античным искусством и оказало большое влияние на развитие реалистического искусства всего XIX века. Но преступление осталось преступлением, и лорд Эльджин вошел в историю, сопровождаемый поговоркой: «Что не сделали готы (Готы – германское племя, которое в конце IV и начале V веков вторглось в пределы Римской империи и подвергло разрушению ряд ценнейших памятников древнего искусства) – доделали скотты (Скотты– шотландцы)».
Еще более глубокое впечатление вынес Шлиман из зал, в которых были выставлены египетские древности. Его воображение взволновали древние саркофаги, покрытые странными рисунками и надписями. В течение тысячелетий оставались эти иероглифы неразгаданными, и лишь в двадцатых годах XIX века гениальный Шампольон нашел к ним ключ.
В саркофагах лежали мумии фараонов, запеленатые в полуистлевшие ткани.
Свитки папирусов – еще не до конца прочитанные древние книги – хранились в витринах.
Здесь, перед лицом воплощенной истории древнего мира, особенно больно почувствовал Шлиман, как нелепо и бессмысленно все то, чем он живет, как отдаляется осуществление его неясных детских мечтаний. И он почувствовал, что не хочет сдаваться.
Он убедил себя, что только близость любящей и преданной женщины даст ему душевный покой и силу для свершения какого-нибудь большого дела.
Но в разговорах с женщинами он терялся, от смущения говорил грубости и бледнел от злобы на самого себя. Какая девушка захочет выйти замуж за такого неуклюжего человека?
Ни богатство, ни знание восьми европейских языков не могли привлечь к нему женское сердце.
И вдруг такое сердце нашлось.
Ее звали Софьей. Он познакомился с ней в Петербурге в 1847 году.
В восторженном письме к сестре Шлиман описал ее красоту, ее музыкальный талант, образованность и даже… бережливость. О Минне – уже ни слова. Казалось, вопрос о браке был решен.
Однако через несколько месяцев мы читаем водном письме:
«15 ноября мы были вместе в обществе. Там я заметил, что Софья оказывает слишком много внимания одному офицеру. Я рассердился, приревновал – и наша помолвка расстроилась. Вероятно, это к лучшему, потому что Софья еще очень молода и ветрена. Жениться здесь легко, особенно в моем положении, потому что я пользуюсь безупречной репутацией, не имею долгов и обладаю состоянием в 10 тысяч талеров, а в будущем году надеюсь его увеличить еще на 16 тысяч талеров. Мне стоит только дождаться осени, и за меня выдадут самую красивую и богатую невесту…»
Но, очевидно, дело обстояло сложней. Пришла долгожданная осень, денег было много, а о женитьбе Шлиман не заговаривал. Он постоянно, каждую минуту чувствовал глубочайшую неудовлетворенность. Он писал в это время отцу:
«В Амстердаме и в Мекленбурге уверены, что я нашел в России свое полное счастье! Нет, вовсе нет, никогда я еще не был так недоволен собой… Разве счастье в 6000 талеров, которые я заработал в 1847 году, или в 10000, которые принесет мне текущий год? Или счастье в роскошной квартире, дорогих кушаньях, тонких винах и т. д.? Нет, о нет! С раннего утра до позднего вечера стоя за конторкой, погруженный в вечные размышления о том, какую бы затеять спекуляцию, чтобы – к выгоде или невыгоде других – потуже набить свой кошелек, я чувствую себя гораздо менее счастливым, чем в Фюрстенберге, когда я за прилавком обсуждал с извозчиком достоинства соседской длиннохвостой собаки…»
В этих словах Шлимана есть доля рисовки перед мекленбуржцами, которые люто завидовали его богатству. Но, по существу, письмо правильно характеризует состояние Шлимана в ту пору. Он торговал, торговал в каком-то самозабвении, с утра до ночи, и не мог бы ответить, на что ему так упорно сколачиваемое богатство.
Шел 1848 год. На улицах французских, германских, австрийских городов вырастали баррикады. «Манифест Коммунистической партии» («Манифест Коммунистической партии» был написан по поручению Союза коммунистов К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1847 году. Эта была первая в истории программа научного социализма) уже переводился на многие европейские языки. Охваченные революционным энтузиазмом, рядом с рабочими и профессиональными революционерами на баррикадах сражались и гибли даже тургеневские Рудины.
Все это проходило мимо Шлимана. В газетах он просматривал биржевые курсы и торговые новости. Он был купцом, и лишь изредка, с неохотой, отрывался от дел для того, чтобы написать письмо братьям или послать сто марок вновь обнищавшему отцу.
Братья доставляли хлопоты. Младший, Пауль, не ужился в Амстердаме, вернулся домой и стал садовником. Он поссорился с отцом. Отец возненавидел его как живое напоминание о покойной Луизе. Ненависть дошла до того, что, когда Пауль, совсем молодым (в 1852 году), погиб от несчастного случая, Эрнст Шлиман запретил в своем присутствии вспоминать даже имя сына.
Еще нелепей сложилась жизнь Людвига. Он просил старшего брата взять его в Петербург, к себе в фирму. Генрих отказался. Людвиг писал бешеные письма, подписанные кровью, угрожал самоубийством – и неожиданно, прервав всякую переписку, уехал в Америку. Там он стал учителем, затем купцом, но вскоре бросил все и умчался в Калифорнию искать золото. Ему повезло. Он разбогател и снова стал переписываться с братом. Генрих получал от него деловую информацию об американских банках. «Большие состояния создаются здесь в какую-нибудь пару, месяцев», – писал Людвиг, приглашая Генриха в Америку.
Это было последнее письмо. Через три месяца Генрих случайно из газетного объявления узнал о смерти Людвига (1850 год).
Можно было думать, что после Людвига осталось значительное состояние. Письменные справки не дали результата. Шлиман решил отправиться в Америку, чтобы найти могилу брата и его наследство.
Весной 1850 года Шлиман поручил ведение всех своих петербургских дел доверенному приказчику и купил билет на пакетбот, отправлявшийся за Атлантический океан.
Старый и Новый свет
Разные земли ему для скопленья богатств надлежало
Видеть. Никто из людей земнородных не мог с ним сравниться
В знании выгод своих и в расчетливом тонком рассудке…
«Одиссея», XIX, 284-280.
В Нью-Йорке Шлиман почувствовал себя как рыба в воде, хотя город был большой, неуютный, разбросанный. Одинаковые четырехэтажные кирпичные дома тянулись вдоль скучных прямых улиц. На каждом шагу попадались дощатые заборы. На них маляры аршинными буквами выводили объявления о продаже земельных участков. Город рос стремительно. За десять лет до приезда Шлимана в Нью-Йорке было 312 тысяч жителей, а теперь в нем жило уже 515 тысяч человек.
Нью-йоркцы понравились Шлиману: эти деловые, энергичные люди умели работать и завели в стране удобные порядки, никого не стесняя чопорными европейскими условностями.
Все нужные сведения о брате удалось собрать в Нью-Йорке. Оказалось, что Людвиг нашел в Калифорнии золотую жилу, но долго копаться в земле не стал, продал свой участок и вместе с другим искателем счастья открыл гостиницу в Сакраменто. Здесь Людвиг заболел лихорадкой. Может быть, он оправился бы от нее, но лекари отравили его своими снадобьями. У него было около 30 тысяч долларов. Предприимчивый компаньон после смерти Луи прикарманил эти деньги и скрылся.
Знающие люди не советовали Шлиману пускаться в поиски похитителя. По Америке бродило много разного сброда, привлеченного слухами о золоте. Отыскать вора было нелегко. Да и бесполезно искать: деньги он, конечно, давно истратил.
Был другой способ вернуть потерянное. Следовало лишь поближе узнать страну и ее порядки – и тогда деньги сами потекут в руки.
Изучение Америки Шлиман решил начать с ее столицы. В Вашингтоне заседал конгресс, нельзя было пропустить такой случай.
В день приезда Шлимана в Вашингтон на заседании конгресса выступал Лайош Кошут, герой венгерского освободительного движения. После разгрома революции Кошут объезжал страну за страной, стараясь найти поддержку в борьбе против австрийских угнетателей. Громовая речь Кошута, обращенная к конгрессу, поразила Шлимана. Он запомнил ее дословно.
Побывав в конгрессе, Шлиман в тот же день добился аудиенции у президента Соединенных Штатов.
Миллард Фильмор, незадолго до того занявший в Белом доме место покойного Тейлора, оказался добродушным пятидесятилетним человеком с манерами провинциального адвоката, Он радушно принял посетителя. Этот русский купец с немец» кой фамилией был деловит, вежлив и изъяснялся на прекрасном английском языке.
– Мистер Фильмор,– сказал он,– стремление увидеть эту, прекрасную страну и ее великого руководителя заставило меня покинуть Россию и пересечь океан. Мой первый долг на американской земле – приветствовать вас и выразить вам свою сердечную привязанность.
Президент был растроган. Он познакомил Шлимана со своей женой, дочерью и престарелым папашей. Беседа длилась полтора часа.
– Заходите, – сказал президент, пожимая Шлиману руку, – обязательно заходите, когда снова будете в Вашингтоне.
Шлиман сдержал улыбку. Президентство Фильмора не казалось долговечным. Промышленники Севера были им недовольны за то, что он заигрывал с плантаторами из Южных штатов, южане же не верили, что Фильмор поможет им удержать черных в рабстве. Едва ли Фильмор сумеет сбалансировать между Севером и Югом.
Но личное знакомство с президентом Соединенных Штатов никогда не повредит человеку, который собирается, по выражению нью-йоркцев, «делать доллары».
Страна была огромна и мало обжита. Шлиман исколесил ее всю. Он пересек пустыни Запада и девственные леса Юга, видел Большие озера и Панамский перешеек. Наконец, бурые скалы Сьерра-Невады и золотые берега реки Сакраменто открылись перед ним. Он был в Калифорнии, в сказочном Эльдорадо, стране золота.
В 1846 году швейцарский эмигрант Зуттер на берегу одной из калифорнийских речек нашел золото. Через два года Соединенные Штаты отвоевали Калифорнию у Мексики. На берега Сакраменто стали стекаться искатели счастья. Бродяги и купцы, врачи и солдаты, фермеры и чиновники со всех концов земли приезжали сюда. Все равны перед лицом слепой удачи.
С лопатами и тазами бродили люди по стране. На берегах неведомых речек вскапывали они песок и дрожащими пальцами взбалтывали его в тазу с водой. На дне таза оставалось несколько золотых пылинок – это было счастье. Золотоискатель, нашедший жилу, мог стать богачом. Но немногие уезжали из Калифорнии со своим богатством. Золотой песок быстро переходил в руки бандитов или содержателей кабаков – трудно сказать, кого из них было больше в Калифорнии.
Могила Людвига нашлась. Он умер в Сакраменто-Сити. Генрих Шлиман за пятьдесят долларов купил памятник и поставил на могиле.
Луи погубило калифорнийское золото. Но Генрих был не из пугливых.
Он не стал копать землю. В Сакраменто-Сити он открыл контору по скупке золотого песка. Здесь вдруг пригодилось знание языков.
«Моя контора… с утра до вечера набита людьми из всех стран мира,– писал он, – целый день я вынужден разговаривать на восьми языках».
На редкость выгодное сочетание: коммерсант-полиглот в дни золотой лихорадки в Калифорнии!
Сразила Шлимана обыкновенная лихорадка. Больной, валялся он на походной койке в своей конторе. Дверь на улицу была раскрыта настежь. Под подушкой лежал кольт.
Врач предупредил, что второго приступа Шлиман не перенесет. Что его спасло? Лошадиные дозы хинина или то, что он закалил свое здоровье многолетней спартанской диетой, ежедневными купаниями, умеренной жизнью? Во всяком случае, он выжил.
Неожиданно он оказался американским гражданином. Дело в том, что 4 июля 1850 года Калифорния была официально объявлена самостоятельным штатом САСШ. Каждый проживавший в этот день в Калифорнии автоматически становился гражданином Соединенных Штатов (если только не выражал желания сохранить прежнее подданство).
Шлиман чувствовал себя настоящим американцем. Он уже завязал связи с филиалом банка Ротшильда в Сан-Франциско и, казалось, вполне акклиматизировался. О Гомере, о сказках он не вспоминает в письмах этого периода.
Во время его пребывания в Сан-Франциско произошел страшный пожар, уничтоживший почти весь город. Шлиман наблюдал пожар с высокого холма, господствующего над Сан-Франциско. В дневнике его есть описание пожара, но нет никаких ассоциаций с картинкой из книги Еррера, с пожаром Трои.
Зато все больше места в письмах и дневнике занимает Россия. Шлимана потянуло назад. Он пишет о «любимой России», о «чудесном Петербурге». И вот, в начале 1852 года, прекратив свои операции с золотым песком, он вновь пересекает океан.
В Петербурге все было по-прежнему. Торговый дом «Шлиман и К0» процветал, денег становилось все больше. Но не проходило тоскливое чувство одиночества.
Еще задолго до путешествия в Америку Шлиман познакомился с племянницей купца Живаго, Катей Лыжиной. Она воспитывалась у дяди. Теперь девушке было двадцать лет, она очень похорошела за то время, что Шлиман ее не видел. Катя была подходящей невестой.
Ее не спросили о согласии; Живаго и не мечтал о лучшем женихе для племянницы. Шлиман был и денежен, и оборотист, и обходителен.
Катя поплакала – и подчинилась. Осенью они поженились.
Жизнь молодой четы была внешне поставлена на широкую ногу. Барская квартира в пятнадцать комнат, английский выезд, еженедельные рауты (Раут – большой званый вечер), на которых можно было встретить и купца-миллионщика, и университетского профессора, а иной раз и заезжего дипломата.
Но, по существу, Шлиман не изменил своим привычкам. По-прежнему вставал он в пять часов утра, работал усердно в конторе, по нескольку часов ежедневно проводил на складе: не доверяя приказчикам, сам показывал покупателям товары. Каждую свободную минуту проводил он за книгами, особенно жадно зачитываясь русской литературой. Пушкина и Лермонтова он знал едва ли не наизусть.
Началась Крымская война. Шлиман, давно уже почуявший приближение крупных событий, заранее принял меры. Он завязал связи с иностранными фирмами, торговавшими селитрой, серой и свинцом.
Союзный англо-французский флот блокировал выход из Черного моря и все русские порты в Балтийском море. Торговые корабли не могли прорваться в Петербург. Однако выход нашелся: товары, закупленные в Лондоне и Амстердаме, морем отправлялись до Мемеля, там их выгружали и дальше везли сухим путем на лошадях.
«Патриотизм» не мешал английским купцам продавать селитру России.
Из-за блокады балтийских портов транзитные торговые пути переместились в Скандинавские страны и Польшу. Пришлось завязать связи с тамошними деловыми кругами. Верный своим обычаям, Шлиман в двадцать четыре дня изучил польский и шведский языки; в каждой стране, где он бывал, он разговаривал и даже писал свой дневник только на местном наречии.
За годы войны Шлиман в несколько раз увеличил свое богатство. Он сломя голову бросался в самые рискованные дела, спекулировал, чем можно было; каменным углем, чаем, лесом…
«В течение всей войны я был настолько завален делами, что ни разу не взял в руки даже газету, не говоря уже о книгах»,– откровенно признавался он.
Но с концом военных действий вновь пришло отрезвление. Он был богат, знал десять языков, получил звание с.-петербургского потомственного почетного гражданина… И вдруг он со страхом почувствовал, что ему тридцать четыре года, полжизни прожито – и ничего не сделано, ничего, кроме денег, которые так дразнили и бесили мекленбургских земляков.
А он хотел быть ученым.
Время ушло безвозвратно. Он не мог поступить ни в гимназию, ни в университет. Ему хотелось куда-нибудь спрятаться от самого себя. Куда бежать? В деревню, может быть? Он мог купить имение где-нибудь на юге, вблизи Одессы, или в Мекленбурге, благо там разыгрался аграрный кризис и земля была дешева.
Но разведение свиней или слив могло ему дать только новые тысячи марок, талеров, гульденов или рублей…
И вот однажды библиотека Шлимана пополнилась новой книгой: новогреческим переводом «Поля и Виргинии».
Греческий язык – вот что ему было нужно!
Он нанял себе учителя – молодого семинариста Николая Паппадакиса. Паппадакис был родом афинянин, на его произношение можно было положиться.
Произношение было самым главным. Шлиман не мог изучать мертвый, немой язык. Не грамматика была ему важна, а живой строй речи. Поэтому он начал не с древнегреческого, который был языком давно истлевших мертвецов, звучание которого в XIX веке стало уже предметом спора между филологами.
Он положил перед собой французский оригинал «Поля и Виргинии» рядом с новогреческим переводом и стал читать. Смысл каждой фразы он понимал, не теряя времени на копание в словаре, – достаточно было сравнить оба текста.
Паппадакис следил за его произношением и исправлял ошибки в сочинениях.
Через полтора месяца Шлиман уже говорил по-новогречески. Путь к Гомеру был открыт.
Ученические тетради
…ее ты покинул.
В Трою отплыв, и грудной, лепетать не умевший младенец
С ней был оставлен тогда…
"Одиссея". XI. 447-449.
В изучении древнегреческого языка окончательно отшлифовался «шлиманский» метод, в котором соединялись изобретательность, железная память и огромный темперамент.
Учитель (уже другой грек, Феоклит Вибос, тоже семинарист) писал на большом листе бумаги много разных греческих слов, по выбору Шлимана, рядом – перевод этих слов. На том же листе совместно составлялись предложения, в которые входили эти слова. К следующему уроку Шлиман все это заучивал наизусть, и Вибос составлял ему новые фразы. Таким образом Шлиман быстро овладел солидным запасом слов, и сам стал составлять различные фразы, описания и изложения. Вибос исправлял их. С каждым разом эти «сочинения» становились все длиннее и обстоятельнее. Для простоты они писались печатными буквами. По содержанию были разнообразны, но больше всего походили на дневник. Вот несколько отрывков из этих «ученических» тетрадей:
«Хочу стать фермером в Мекленбурге, купить там имение… Но сначала надо испробовать, выдержу ли я там».
«Я еще не могу причислить себя к образованным людям. Поэтому я поеду в Грецию. А если я там не смогу жить,– поселюсь в Америке. Там каждый день случается что-нибудь новое. А если в Америке я не найду счастья, – уеду под тропики».
Однажды Вибос опоздал на урок. На следующий день он нашел в тетради Шлимана следующие строки:
«Если вы еще раз опоздаете на урок, я вас вышвырну за дверь. Вы плохой, злой человек, вы вор: вы унесли мою греческую газету и не вернули ее».
Вибос добродушно улыбался и исправлял ошибки. Поджав губы, прищурясь, следил за своим учителем Шлиман.
Впрочем, Вибосу редко приходилось читать подобные сердечные тирады. Чаще записи в тетрадях носят такой характер:
«В Греции философия и история с пользой займут мои дни… Я должен бросить торговлю, я хочу на свежий воздух, к крестьянам».
В три месяца – феноменальный срок! – Шлиман научился говорить, читать и писать по-древнегречески. И вот наступил день, когда на его высокую конторку впервые лег раскрытый томик Гомера…
«Два года подряд, – вспоминал впоследствии Шлиман,– я занимался исключительно древнегреческой литературой и за это время прочел от доски до доски почти всех древних классиков, а «Илиаду» и «Одиссею» – по нескольку раз. Из греческой грамматики я заучил только склонения и правильные и неправильные глаголы; на зубрежку самих грамматических правил я не потерял ни мгновения из своего дорогого времени. Видя, что ни один из мальчиков, которых в течение восьми и больше лет истязают в гимназии скучнейшими грамматическими правилами, впоследствии не в состоянии написать греческого письма без сотен грубейших ошибок, я пришел к убеждению, что употребляемый в школе метод насквозь неправилен; по моему мнению, можно достичь основательных познаний в греческой грамматике исключительно путем практики, то есть путем внимательного чтения классической прозы и заучивания наизусть отдельных отрывков. Таким образом, я теперь совершенно бегло пишу и без труда могу говорить о любом предмете, никогда не забывая слов. Всех правил грамматики я придерживаюсь полностью, хотя и не знаю, записаны ли они в учебниках или нет».