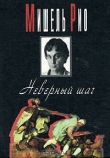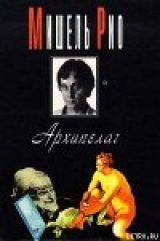
Текст книги "Архипелаг"
Автор книги: Мишель Рио
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Ответом на эту длинную оскорбительную речь было мертвое молчание. Алан вообще любил прибегать к сарказму, но никогда еще его ирония не достигала такой жестокой проницательности, такой убийственной отточенности в желании унизить. Под его показным спокойствием чувствовалось холодное бешенство, необъяснимое и совершенно несоразмерное ни с внешним поводом, вызвавшим эту злобную вспышку, ни с ничтожностью самой жертвы. Все ждали реакции Ораса Пюппе. На мой взгляд, всякая попытка с его стороны дать словесный отпор Алану была бы смешной, ему оставалось одно – умереть или ответить кулаком. Он ответил кулаком. Орас отличался недюжинной силой, которой весьма кичился, но в движениях был так же медлителен, как в словах, что и дало возможность Алану закончить свою убийственную речь. Зато под небрежной повадкой Алана крылась необычайная подвижность и ловкость, а под худощавой стройностью -железная мускулатура. Я не раз испытал это на себе, когда во время уроков, отведенных спортивной борьбе и военному искусству, мы вступали с ним в единоборство. Алан легко уклонился от удара и тут же нанес ответный. Его кулак угодил прямо в лицо противнику, тот пошатнулся. Второй удар по тому же месту оказался еще более сокрушительным. Орас рухнул, несколько мгновений провалялся на полу, потом со стоном попытался встать. Алан, уже не владевший собой, явно ждал, пока тот встанет, чтобы ударить снова. Я бросился к нему, схватил за руку и оттащил назад с криком: «Ты с ума сошел! Убить его хочешь?» Он поглядел на меня ненавидящим взглядом. Потом, сделав над собой громадное усилие, перевел дух. Коротким движением вырвал у меня руку. И не торопясь вышел из клуба. Тем временем Орасу удалось наконец встать. Лицо его распухло. Нос и губы кровоточили. Никто, даже самые раболепные его прислужники, не сделал к нему ни шагу. Пережитое им двойное унижение разом ввергло его в одиночество. Он стоял потерянный, жалкий, не зная, что делать, что сказать, вымаливая хоть один дружелюбный взгляд, и, вытирая тыльной стороной ладони кровь, только размазывал ее по лицу. До сих пор болван Орас был мне просто безразличен, но это зрелище меня возмутило. Я подошел и протянул ему носовой платок.
– Не три. Промокни губы платком и держи его у носа. Медпункт, наверно, еще открыт. Я тебя провожу.
В коридоре по пути в медпункт Орас, которого все еще пошатывало, заплакал. Я догадывался, почему он плачет: не потому, что болят рассеченные губы, даже не потому, что его публично унизили, а потому, что его предали те, кого он считал друзьями, – неизбывная порода бездушных прихвостней, стадо почитателей сиюминутного успеха и внешних атрибутов, которых, быть может, оправдывает смутный страх перед их собственным ничтожеством. Орас несомненно впервые в жизни оказался в одиночестве, вдали от пустопорожнего льстивого шума, на котором зиждилось его самосознание, и он плакал в темноте как ребенок.
У входа в медпункт я позвонил, и мы вступили в просторную и удобную приемную. Немного погодя раздался стук высоких каблучков, и дверь, ведущая из приемной в медкабинет, открылась. До этой минуты я видел новую медсестру, мадемуазель Аткинс, только издали, во дворе или в парке, потому что с тех пор, как она сменила почтенную Дороти Фирмен, престарелого дракона, несколько месяцев назад отправленного в отставку manu militari (С применением силы, насильно), несмотря на его громкие протесты, у меня не было нужды обращаться за медицинской помощью. Мадемуазель Аткинс казалась мне хорошенькой, что, кстати, подтверждали все ее пациенты. Кроме того, говорили, что она веселая, с юмором, приветливая и охотно поддерживаете отношениях с самыми старшими и наиболее представительными учениками атмосферу чисто словесного и ни к чему не обязывающего флирта. Некоторые сумасброды по наивности принимали это исключительно на свой счет и даже немного задирали нос. Со времени появления мадемуазель Аткинс статистика неопасных заболеваний тревожно возросла, причем рецидивы носили хронический, а эпидемия чисто локальный характер. Короче говоря, мадемуазель Аткинс пользовалась популярностью, что неудивительно в местах скопления подростков, где самой заурядной юбке заранее обеспечена всеобщая благосклонность. Но когда я увидел медсестру в дверном проеме, она вовсе не показалась мне заурядной. И я понял, что искусительной ролью, какую она играла в коллективном сознании учеников Hamilton School, она обязана отнюдь не только тому, что других женщин вокруг нас нет или они далеко. Мадемуазель Аткинс было лет двадцать пять, и она была восхитительна. В отличие от Александры Гамильтон, в ее образе не было ничего погибельного и недоступного, и к более или менее выраженным простодушно похотливым мечтам, которые она неизбежно порождала в неокрепших умах общавшихся с ней мальчишек, всегда примешивалась искренняя симпатия. Если я и был немного взволнован, то отнюдь не оробел. Едва взглянув на своего будущего пациента, она стала разглядывать меня с настойчивостью, которая в конце концов показалась мне странной.
– Поверьте, мадемуазель, это не я привел его в такое состояние, -сказал я.
– Вы меня неправильно поняли, – ответила она с улыбкой. -Так что же с ним такое случилось?
– Он наступил в клубе на шнурок собственного ботинка, упал и ударился об угол бара.
– Очень неловко с его стороны, тем более что ботинки у него без шнурков. Но все бывает! Очевидно, он перебрал отвара ромашки, который вам подают в этом злачном месте.
– Очевидно.
– Входите же.
– Нет, я пойду.
– Почему? Поболтайте со мной. Вы же видите, ваш приятель говорить не может.
И в самом деле, вопреки своему обыкновению, Орас не произнес ни звука, сосредоточенно пытаясь скрыть слезы в присутствии женщины. Впрочем, если бы он и захотел говорить, ему это вряд ли удалось бы: губы его заметно распухли и, наверно, сильно болели. Мадемуазель Аткинс отступила в глубь комнаты, и мы вошли. Здесь, как в любом врачебном кабинете, было очень жарко. Уложив Ора-са на высокую, обтянутую кожей кушетку, мадемуазель Аткинс поставила возле стеклянного столика перед ней табурет. Я сел на стул. Сестра вышла в заднюю комнату, оставив дверь открытой. Я машинально проводил женщину взглядом. И вздрогнул, увидев кое-что в соседней комнате. Прямо против двери на плечиках висели юбка, блузка и жакет. Медсестра возвратилась с целой охапкой пузырьков, коробочек и пакетов хирургической ваты, которые разместила на столике. Ее белый, до колена халат с короткими рукавами перестал быть для меня обычной униформой. Сев на табурет у изголовья Ораса, мадемуазель Аткинс закинула ногу на ногу. От этого движения халат, две нижние пуговицы которого были расстегнуты, распахнулся и ниспадающие по бедрам полы высоко обнажили ее ноги – на них упал резкий свет лампы, направленной на кушетку. Сестра стала протирать и обрабатывать лицо Ораса удивительно мягкими и точными движениями. Вдруг она приостановилась, окинула взглядом свои длинные обнаженные ноги и тут же откровенно посмотрела на меня – при этом на ее лице не выразилось никаких чувств. Потом она снова принялась за дело. Своей позы она, однако, не изменила. Ошеломленный, я не знал, должен ли включиться в игру и, уже не стесняясь, разглядывать ее, или мне надо извиниться и выйти. Я остался, потому что игра мне нравилась, мне было любопытно, и еще я боялся показаться смешным, но при этом никак не решался показать свое соучастие и, всячески стараясь придать своему взгляду выражение учтивой скромности, на деле исподтишка на нее косился. Кончив возиться с Орасом, мадемуазель Аткинс встала и подошла к столу.
– Через несколько дней никаких следов не останется, – сказала она ему, начиная писать. -Я освобожу вас от ближайших уроков не столько по медицинским показаниям, сколько чтобы пощадить ваше самолюбие. Послезавтра вы уедете на каникулы, так что пропустите вы немного. Объясните родителям, что такого рода обхождение не предусмотрено обычной педагогической системой колледжа. И придумайте более правдоподобное объяснение, чем история со шнурками.
Она протянула Орасу подписанную ею справку об освобождении от занятий. Он с трудом пролепетал невнятное «спасибо» и направился к двери. Я шагнул было за ним.
– Задержитесь на минуту, пожалуйста, – попросила мадемуазель Аткинс. – Мне надо с вами поговорить.
Хотя меня охватила легкая паника, я не сделал попытки уклониться. Орас схватил мою руку и пылко ее пожал. Жест был несколько театрален, и я невольно подумал, какими впечатлительными становятся в некоторых обстоятельствах такие вот бахвалы. Впрочем, мое отношение к Орасу теперь изменилось, ведь он успел почувствовать, что такое бремя отверженности и одиночества. Орас вышел.
– Вы лучший друг Алана Стюарта, – сказала мне медсестра. – Я часто видела вас вдвоем.
– Вы знакомы с Аланом?
– Да. Он зашел в медпункт вскоре после моего приезда в колледж. Мы… симпатизируем друг другу. Он не говорил вам об этом?
– Нет.
– А мне он подробно рассказывал о вас. Очень подробно.
– Я не знал, что ему так часто приходится обращаться за медицинской помощью.
Она рассмеялась.
– Он вас очень уважает. Это меня заинтриговало. Он ведь обычно так подчеркнуто равнодушен ко всему. И даже пресыщен. Своих сверстников он презирает. Мне было трудно представить, что его может заинтересовать кто-то моложе его. Алан и в самом деле пробудил во мне любопытство. Нынче вечером я воспользовалась случаем, чтобы с вами познакомиться.
Я бросился в воду вниз головой.
– Вы сочтете меня наглецом, но мне показалось, что вы приступили к делу довольно… странным манером.
– Вы проницательны.
– Не подчеркивайте так явно мою неопытность или глупость.
– Я не хотела вас обидеть.
– Оставаясь в рамках предложенной мне роли идиота, разрешите вас спросить: зачем вы это сделали?
– Может, мне просто захотелось.
– А может, потому что я друг Алана Стюарта?
– Может быть.
– Это для вас так важно?
– Не делайте вид, будто не понимаете того, что поняли с первых же слов. Алан мой любовник. Он уверял меня, что не прочь, чтобы я вас соблазнила. С минуту я глядел на нее, потом с усилием выдавил:
– Из привязанности к господину Стюарту вам не стоит поощрять его гнусности или им подчиняться.
– Привязанность? Какой же вы простачок! Между Аланом и мной нет никакой привязанности. Одно только наслаждение. Что до его гнусностей, как вы их назвали, они отчасти и мои. Окажите мне любезность, поверив, что я отличаюсь некоторой независимостью во вкусах.
– Извините, но мне не хотелось бы быть просто марионеткой в балаганчике извращений Алана Стюарта.
– Быть марионеткой иногда не так уж неприятно, – с улыбкой сказала она, – если кукловод талантлив. Но не будьте таким недоверчивым. Алан вас любит. Мне кажется, вы его единственный друг. Поймите, – продолжала она после небольшой паузы, – я веду себя так по многим причинам. Но главная и самая очевидная – меня к вам тянет. Правда, то, как вас описал Алан, и ваши с ним отношения заранее настроили меня в вашу пользу. Но прежде это были только слова. А теперь вы здесь. И меня к вам тянет. Я не подозревала, что разбудить во мне желание может ребенок.
Ни одна из знакомых мне девушек-сверстниц, с которыми, впрочем скорее всего в силу общепринятых норм, я поддерживал вполне невинные отношения, никогда не изъяснялась со мной так напрямую. Я был тем более взволнован, что это говорила взрослая женщина: Но чтобы не впасть в столбняк, который сразу показал бы ей, сколь нов для меня этот опыт, я ухватился за слово, задевшее мое самолюбие.
– В ваших последних словах есть какая-то материнская двусмысленность. Очевидно, для вас граница, отделяющая ребенка от взрослого, проходит между семнадцатью и восемнадцатью годами?
– До чего же вы обидчивы. Вам прекрасно известно, что у Алана нет возраста. Вы соответствуете своему, во всяком случае в некоторых отношениях. Двусмысленность была только в словах, но отнюдь не в мыслях. Но даже если бы так? Что в этом дурного?
Меня удивило совпадение между этим вопросом и утренними событиями; случайность это, подумал я, или Алан рассказал ей о нашей стычке и о том, чем она была вызвана. Как бы то ни было, разговор принимал тягостный для меня оборот, надо было положить ему конец. И я тупо сказал с развязностью, настолько наигранной, что тут же сам себя проклял:
– Мне нравятся ваши ноги.
И покраснел. Второй раз за день в сходных обстоятельствах., хотя и по разным причинам, я почувствовал себя смешным и уязвимым – ненавижу отрочество. Но мадемуазель Аткинс не выказала ни удивления, ни иронии. Она посмотрела на меня, казалось ожидая продолжения. Я не знал, что делать. Я восхищался тем, как легко она лавирует в хитросплетениях искренности и игры, как свободна она от гнета самолюбия – свобода эта надежнее всего гарантировала от боязни попасть в смешное положение. Тем сильнее ненавидел я собственную неискушенность, из-за которой я считал свое поведение глупым, не зная, в чем себя винить – то ли в неуместной сдержанности, то ли в натужной дерзости. Не умея сделать подлинный выбор, я прибег к иллюзорному – то есть к бегству. И вышел из медпункта.
В задумчивости я поднялся к себе на четвертый этаж, где были расположены комнаты учеников. За день на меня обрушилось слишком много событий, они почти физически меня придавили, бремя тревоги, казалось, мешает мне свободно дышать, стесняет движения. Я был заворожен влюбленностью в женщину, которая почти не обратила на меня внимания, а по отношению к другой испытывал властное желание, родившееся в той зыбкой атмосфере, в которой слово, упоительно переплетая притворство с подлинным вожделением, приобрело в моих глазах совершенно новую власть. И в откровении этом проглядывала бездна. И, однако, обе эти женщины в каком-то смысле оставались образами выдуманными, в самой их плоти, приблизиться к которой мне мешала недосказанность и робость и которую оживляла сценография воображения, стремящаяся разжижить точное воспоминание о фактах, – в самой их плоти было что-то бестелесное. Но они приводили меня к образу более осязаемому, более реальному и весомому – к образу Алана. Они были связаны с ним ходом мысли, усугублявшей предательство и развращенность обидой и печалью.
Я встретил его в бесконечном коридоре четвертого этажа. С полотенцем через плечо он шел к душевым. Я остановился, не зная, как себя вести, – я раздирался между надеждой загладить нашу размолвку и логикой, которую диктует нежелание идти на попятный, механизмом разрушения. А к Алану, казалось, вернулась его обычная безмятежная небрежность, которая наводила на мысль, что, вопреки его поведению в клубе, ничто не может задеть его глубоко и надолго. Спокойствие Алана меня взбесило. Вдобавок роль любовника мадемуазель Аткинс, изменив образ, рисовавшийся мне до сих пор, окончательно превратила его во взрослого и напрочь отрезала от меня, еще связанного с детством, в котором я барахтался, словно мы внезапно очутились по разные стороны рва, олицетворяющего начальный искус таинственного и страшного воспитания чувств.
Алан тоже остановился, посмотрел на меня, покачав головой, и сказал: -Эта милейшая мадам Гамильтон…
И, рассмеявшись дружелюбным, без тени иронии, мальчишеским смехом, который совершенно сбил меня с толку, скрылся в душевой.
На другой день Алан вновь стал вести себя со мной как обычно, словно из его памяти стерлось все, что произошло накануне. Я не чувствовал той же непринужденности и держался с ним довольно сдержанно, чего он не мог не заметить, хотя никак этого не показывал. Вечером в колледже был традиционный праздник, отмечавшийся раз в году. Происходило это в клубе, где нам разрешали оставаться до полуночи. По установившемуся обычаю, мы имели право пригласить на праздник служащих колледжа, избираемых vox populi (Голос народа). Эта свобода предоставлялась только выпускным классам, а преподавателям и прочим сотрудникам давала возможность самым непосредственным, если не самым жестоким, образом убедиться в степени своей популярности. Эта традиция, пародия на перевернутую власть, характерная только для обществ со строгой иерархией и по духу своему напоминающая то раскрепощение от зажимов, что свойственно карнавалу и празднику шутов, установилась в Hamilton School довольно давно, так что никто не решался ее пересмотреть, хотя она была чревата публичным унижением и демагогией. В этот вечер среди приглашенных оказались мадемуазель Аткинс и директор Рантен. Рантена, по крайней мере на моей памяти, приглашали всегда. Его ценили все, потому что за его холодностью, подчеркнутой заботой о соблюдении приличий и, пожалуй, даже условностей сразу чувствовался живой ум, незаурядное чувство юмора и подлинная широта, умерявшая строгую приверженность дисциплине. Единодушно приглашенная медсестра присутствовала на церемонии впервые. Около десяти часов мы организовали – еще одна традиция – матч комнатного регби, в котором команда преподавателей играла против команды учеников. Правила игры были просты: каждая команда из пяти игроков должна была, не бросая мяч и не роняя его (мяч заменяла подушка, как можно более упругая), коснуться им стены, изображавшей ворота противника, и защищать от его посягательств свою стену на противоположной стороне зала. Играли «в цивильном», с той только разницей, что можно было сбросить куртку и полагалось снять обувь. В остальном правила были довольно свободные и с правилами обычного регби совпадали только в смысле ограничения и допущения силовых приемов. Вся клубная мебель, на которую могли взгромоздиться зрители, в два счета была сдвинута к свободным стенам. Преподаватели сгрудились в одном углу, ученики – в другом, чтобы выделить пятерых игроков, которые будут представлять их команду. Я был избран игроком ученической команды, Алан стал ее капитаном. Мадемуазель Аткинс укрылась позади стойки бара, на которой устроился Рантен, чтобы судить и комментировать схватку.
– Господа, – начал он, – почтенное собрание ждет от вас решительной и учтивой игры, свободной от кастовых и корпоративных предрассудков. И поскольку традиция, которую, если мне позволено высказать мое личное мнение, я чту с оговоркой, ибо она меня слегка коробит, так вот, поскольку традиция премудро, хотя и не без доли извращенности, навязывает нам раскрепощающие силовые приемы, в процессе игры подвергая опасности наши души, а это дело серьезное, пожелаем, чтобы сей катарсис стал не привычным выплеском наших дурных страстей, а проявлением нашего юмора и великодушия, как на мускульном, так и на философском уровне. Пусть эта встреча уподобится диалогу Зенона с Сократом. Скажите сами себе, что, как бы ужасно ни было унижение, которое приносит проигрыш, образцовый стоик способен перенести его с твердостью, правда, лишь в том случае, если исповедуемая им доктрина поднимает его на такую немыслимую высоту над всеми человеческими слабостями, что само это допущение, увы, вызывает, по крайней мере у меня, недоверчивый смех.
Он бросил нам подушку, и потасовка началась. Силы участников были почти равными. Преподаватели были более увесистыми и опытными, но мы компенсировали их преимущество пылом и проворством. Разбушевавшийся Алан был особенно в ударе. Я тоже недурно справлялся со своей ролью. Трое же наших товарищей по команде бесновались так, словно от этого зависела сама их жизнь. Рантен комментировал перипетии игры спокойно и с юмором, но громовым голосом, который ошеломлял в человеке сложения скорее тщедушного и к тому же ни при каких обстоятельствах не прибегавшего к повышенным тонам. Оставаясь невозмутимым, он гремел так, что перекрывал гул выкриков и свистков. После первого тайма счет был 3:3. Одежда висела на нас клочьями. В перерыве мадемуазель Аткинс обработала некоторые царапины. Игра возобновилась с удвоенным неистовством. Равный счет сохранялся почти до самого конца. За несколько секунд до завершения матча мне посчастливилось, освободившись от опеки противника и оказавшись в выгодной позиции, принять «мяч» из рук Алана, которому удалось сделать длинный и ловкий пас как раз тогда, когда сам он рухнул под тяжестью двух нападающих. Вытянув руки, вцепившись в подушку, я прыгнул как мог высоко, чтобы избежать лобовой атаки защитника, который, пытаясь обхватить меня руками, растянулся во весь рост, а я перемахнул через него прямо к стене противника и под шквал аплодисментов врезался в нее, на мгновение обалдев от удара. Рантен объявил об окончании матча, торжественно назвав нас победителями.
– Теперь, – продолжал он среди начавшего стихать шума, – капитану выигравшей команды должен быть вручен трофей победы. Вручает награду и пожимает руку победителю обычно судья. Но поскольку сегодня вечером мы имеем удовольствие видеть среди нас мадемуазель Аткинс, я буду рад передоверить ей мои полномочия. Полагаю, это не сочтут слишком серьезным отступлением от принятого обычая, а герой дня, признаю это с трезвым смирением, от подобной замены не прогадает.
– С вашего позволения, мсье, я тоже хотел бы передоверить свою привилегию капитана самому молодому и достойному из нас, – заявил Алан, указывая на меня.
– Не возражаю, мсье Стюарт.
Я с некоторым смущением подошел к медсестре, которой Рантен передал приз. Это было некое гончарное изделие, невероятно нелепое, перегруженное гротескными орнаментальными украшениями и раскрашенное кричащими красками. Изготовленное специально к этому случаю в мастерской скульптуры и лепки, оно свидетельствовало о необузданном разгуле саркастической фантазии. Несколько таких шедевров нарочито дурного вкуса были выставлены как в учительском, так и в ученическом клубе. Мадемуазель Аткинс протянула мне трофей. Я зажал его под мышкой, ожидая традиционного рукопожатия. Но она, шагнув ко мне ласково поцеловала меня в обе щеки. Это была мимолетная ласка, легкое прикосновение губ. Воцарилось молчание. Его прервал Рантен.
– Право слово, – заявил он, – если уж нарушать традицию, не будем останавливаться на полпути, даже если это нарушение сродни убийству.
И он засмеялся, что было совершенно необычно. Его замечание было встречено оглушительной овацией. Я бросил взгляд на Алана. Он аплодировал, поглядывая на меня с дружелюбной иронией.
Около часа ночи, когда я уже уложил в чемодан почти все необходимое для моего переселения в дом Александры Гамильон, в дверь моей комнаты постучали. Это был Алан.
– Пошли, – сказал он.
– Куда?
– Увидишь.
Я в недоумении следовал за ним по коридорам и лестницам, погруженным в сумрак, который рассеивало только тусклое свечение ночников. Мы вышли в парк и двинулись по главной аллее, по которой я шел накануне, до пересечения дорожек неподалеку от северных ворот. Справа в кромешной тьме среди дубов терялась аллея, которая вела к частным владениям Александры Гамильтон. Алан свернул налево к большому флигелю для персонала, куда мы вскоре и пришли. Здесь царило безмолвие. Прямоугольники света, просачивавшегося из четырех окон верхнего этажа, оттеняли сплошную черноту фасада. Алан без колебаний вошел. Я последовал за ним до верхней площадки широкой лестницы, потом по коридору, где только редкие ночники источали неяркий желтый свет, с трудом отражавший натиск тьмы. Алан постучал в какую-то дверь. Открыла нам мадемуазель Аткинс.
Два часа спустя мы с Аланом молча сидели бок о бок на скамейке в парке. Мои мысли, осаждаемые еще свежими в памяти мощными и смачными видениями, взбудораженно блуждали, успокаиваясь по временам, когда их невольно отвлекало созерцание ночи. Проникавший сквозь деревья неутихающий восточный ветер обдувал своим ласковым и свежим дыханием прогалины парка, контуры которого очерчивала высокая полная луна, выявлявшая все разнообразие тончайших оттенков черного и белого, все изыски светотеней. Колледж, который с одной стороны обводила темная масса деревьев, а с другой – молочные плоскости лужаек, являл взору гладкую блеклость своей крыши, отражавшей небесные огни, и сумрачную поверхность фасада, на котором едва заметно выделялись более темные очертания дверных и оконных проемов. Отдаленно и ровно шумел истомленный прибой, непрерывно накатывающий на песчаный берег. Но умиротворение реального мира вновь нарушали грозовые мечты.
Эти мечты были сотканы из отвращения и страсти, из утраченных иллюзий и начатков нового знания. Я преодолел ров, обнаружившийся между мной и Аланом, но преодолел без робких предосторожностей, сопровождающих обычное посвящение, без глупой и отрадной, даже если она иллюзорна, восторженности чувств. Все совершилось с изощренным распутством и варварской грубостью, и я не знал, смогу ли выдержать теперь шок отдачи. Сначала Алан в своем самообладании и сдержанности показался мне чудовищем, чем-то вроде хладнокровного Дьявола, который по своей прихоти распоряжается собственным телом и духом, сама смелость слов и жестов которого в какой-то мере запланирована и у которого рассчитано все – вплоть до нарастающего сладострастия и изобретательности воображения. Но потом он стал казаться мне скромником на фоне того, что говорила и выкрикивала женщина, какие позы она принимала. Вся мощь непристойности и наслаждения исходила от нее, Алан же из манипулятора незаметно превращался всего лишь в инструмент. Это безоглядное самозабвение, готовность унизиться, откровенное, даже подчеркнутое желание проституировать себя, вы ставить напоказ бездны, в которых я видел тайное тайных всякого существа, пробудили во мне такое сладострастие и такой ужас, какие не рисовались мне в полете самого разнузданного воображения. Больше, чем красота тела и непристойность поз женщины, меня потрясли ее слова – именно они были в моих глазах самым большим бесстыдством, величайшей, необратимой дерзостью, почти самоубийственной в переходе границ запретного. Осязаемо, с опустошительной непреложностью ощутил я новую для себя силу слова, которую она уже дала мне почувствовать раньше, но этот первый опыт показался мне теперь безобидным. Я еще не осознавал, чем обернется для меня этот переворот, не знал, что со мной будет. Знал только, что мне надо стать другим, чтобы от этого опытав моей душе не угнездилось надолго ощущение мерзости. Ход моих мыслей прервал Алан.
– Ты на меня сердишься?
– Не знаю. Не думаю.
– Согласен, все произошло несколько грубовато. Но попробуем взглянуть надело с положительной стороны. Не говоря уж о том, что ты получил наслаждение – это выражалось явно и даже весьма красноречиво, – подобное приобщение к предмету в дальнейшем избавит тебя от потери времени и от многих ошибок и огорчений.
– Ты, очевидно, ждешь от меня вечной благодарности?
– Не злись, – сказал он смеясь. – Ты прав. Мои побуждения не имели ничего общего с альтруизмом, и даже если от случившегося у тебя останется некоторое недоверие ко мне, а может, и досада, я не стану прибегать к худшему из извинений – что, мол, намерения у меня были добрые. Для меня это тоже был своего рода опыт, правда не столь впечатляющий, как для тебя. По причине искушенности и преднамеренности. Но, впрочем, не только поэтому. Мадемуазель Аткинс – женщина чрезвычайно интересная, но ей чего-то не хватает, а может, у нее в чем-то перебор.
– После того, что произошло, любые критические замечания по ее адресу кажутся мне неуместными и даже низкими.
– Речь не о том. Я просто стараюсь определить ее роль в мире моего сексуального воображения. Недостает ей сознания вины, перебор же у нее здоровой на свой лад морали, а это подозрительно и умеряет наслаждение. Она, наверно, из любой ситуации выйдет умиротворенной и незапятнанной. Ей незнаком стыд. А поиск наслаждений, который не знает подлинных препятствий, недорого стоит, ибо не оплачен пикантным чувством унижения или острым сознанием вины. К тому же между нами нет любовных чувств, а это заметно понижает ставку в такого рода опыте.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть сознание вины? Но это же просто смешно. Ты всегда уверял меня, что тобой движет единственный принцип – борьба со скукой.
– Ты склонен меня окарикатуривать. Впрочем, это справедливо – я пожинаю то, что посеял. Но по существу ты прав. Самого по себе чувства вины у меня нет. Не вижу в нем никакого смысла. Зато оно пленяет меня в женщине, поскольку неизбежно усугубляет ее наслаждение, а стало быть, и мое. Чувство вины в ней тем сильней, чем глубже разрыв между ее внешней благопристойностью и тайной склонностью к пороку. Этот-то разрыв только и важен, когда он преодолен. Тогда из преграды он становится усилителем энергии, высеченной из столкновения крайностей, он сводит на нет слепую тиранию конформизма и пресность разнузданной свободы. И воплощает сладость греха, наслаждение, порожденное непристойностью. – Он рассмеялся. -Странно, однако, что я, наследник пуританского протестантизма, меркантильного, лишенного воображения, объясняю такого рода вещи человеку, сформированному католицизмом. Умение извлечь максимальное наслаждение из греха – это, кажется, по вашей части, не так ли?
– Тебе следовало бы получше распорядиться наследием прагматизма. На мой взгляд, твои рассуждения довольно абстрактны. Что, например, ты понимаешь под «столкновением крайностей»?
– Это как в религии. Бог и Дьявол, взятые по отдельности, тусклы и бесплодны. Но вместе они составляют самую плодотворную пару, какую когда-либо изобрело человечество. Это своего рода братство или супружеский союз между возвышенным и гнусным. Для меня этот принцип являет собой источник, из которого наслаждение черпает свою энергию и насыщенность и который особенно усиливает женскую притягательность. Для меня образ женщины воплощает самую суть возвышенного – ум, любовь, красоту, недоступность богини и святость матери… И все возможные варианты гнусности: похабство, развращенность, рабскую покорность, наконец, проституцию. Две крайности этих наборов выражены образом матери и шлюхи. Поскольку здесь разрыв максимален, то и грех, непристойность, а стало быть, и наслаждение тоже.
Слова Алана, которые грубо и прямолинейно вернули меня к чему-то глубинному и тайному во мне самом, что я ощутил во время свидания с Александрой Гамильтон, не имея, впрочем, желания в это вникнуть, ввергли меня в страшное смятение. Я сделал отчаянную попытку направить разговор в другое русло.
– Ты уже дважды упомянул любовь. В твоих устах это слово звучит довольно странно.
Обернувшись ко мне, он вперил в меня взгляд. Его лицо, освещенное холодным и резким ночным светом, было прекрасно идеальной и зловещей красотой замечтавшегося падшего ангела, печального демона.
– Ты и в самом деле плохо меня знаешь, если полагаешь, что я не способен любить. В моих глазах только любовь и имеет цену. Он помолчал, точно не зная, решиться или нет.