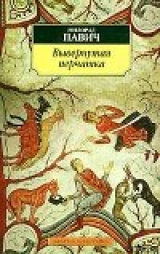
Текст книги "Вывернутая перчатка"
Автор книги: Милорад Павич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– София! – воскликнул я радостно, удивляясь про себя тому, что откуда-то знаю ее имя. Желая обнять ее, я выпустил из рук стеклышко, но оно не упало, а повисло на шелковом шнурке. Однако София хотела сказать что-то важное.
– Мой дорогой принц, – обратилась ко мне молодая женщина, – я едва нашла вас! Мы можем опоздать. До Сараева 28 часов езды…
*
P. S.
Что случилось с принцессой Софией и принцем Фердинандом через 28 часов в Сараеве, общеизвестно. Так что конец рассказа принадлежит истории и может быть найден в любой энциклопедии в статье «Сараевское покушение». Участник освободительного движения одной оккупированной Австро-Венгрией балканской страны – Гаврило Принцип – 28 июня 1914 года, в день святого Вида, убил австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Фердинанда и его супругу принцессу Софию во время торжеств, посвященных окончанию маневров австрийских войск, на которых принц присутствовал в качестве верховного инспектора вооруженных сил Австро-Венгерской империи в Боснии. Известно, что после этого убийства Австро-Венгрия объявила войну Королевству Сербии, что, в свою очередь, привело к Первой мировой войне (1914 – 1918).
ВОПРОСЫ ОСОБОГО ВИДА
Шел 1987 год, в то лето жара проникала даже в рот, полуденный зной, не теряя силы, становился вечерним, мы были на приеме в саду французского посольства в Белграде, находившегося в двух шагах от улицы Косанчичев Венац, где раньше была Национальная библиотека Сербии, впоследствии сгоревшая. Разморенные шампанским и жарким днем, мы потихоньку расходились по домам, и, пока небольшими группами спускались по лестнице, Эуген пригласил некоторых из нас на кофе с пирожными к себе в новую квартиру, куда он только что переехал. Итак, впереди шел Эуген с группой гостей, с ними наша будущая хозяйка и остальные женщины, а Тишма и я оказались чуть позади. Мы давно с ним не виделись, он приехал на прием на машине из Нови Сада вместе с супругой, и теперь мы безостановочно болтали, защищаясь таким образом от жары снаружи и от алкоголя внутри нас. За разговором мы не заметили, как отстали, и, следуя за всеми остальными, свернув за угол, вдруг увидели, что на горизонте никого больше нет. Мы не знали, то ли они повернули в какую-то боковую улицу, то ли уже вошли в подъезд новой квартиры Эугена. Мы постыдились закричать и, таким образом, потеряли последнюю возможность присоединиться к остальным. Ни я, ни Тишма не знали, где теперь живет Эуген, и, следовательно, не могли знать, куда он увел и всю компанию, и наших жен. Мы бросились в какой-то подъезд и начали звать их, крича на всю лестницу. Тишина. Мы выскочили на улицу, забежали за угол – нигде никого. Еще несколько подобных попыток оказались напрасными. Тут мы поняли, что остались одни и что уже потратили большую часть отведенных нам жизнью улыбок, вздохов и чиханий. Ситуация была вовсе не такой безобидной, как казалось на первый взгляд. Посреди города, в котором я родился и потому знал его, как собственный карман, в нескольких шагах от Тишминой машины, ключи от которой остались у его жены, посреди Белграда, который и Тишма знал так же хорошо, как и я, мы потерялись. Положение оказалось настолько безвыходным, что мы просто не представляли себе, что нам делать. Эуген сказал нам, что на новой квартире у него тоже есть телефон, но этот номер еще не внесен в телефонные справочники, а у нас был записан лишь его старый, недействительный теперь номер. Тишма не мог ни сесть в свою машину, ни найти свою жену, а я не мог бросить Тишму в таком дурацком положении одного и не мог оставить свою жену, которая ушла вперед со всеми остальными, уверенная в том, что мы идем следом. И вот мы решили сделать следущее. Тишма сел на какой-то парапет или лестницу и остался ждать на улице на тот случай, если кто-то вернется за нами, а я побежал к ближайшему телефону, чтобы позвонить кому-нибудь, кто знает Эугена и может нам сообщить его новый адрес или телефон. Но и это оказалось не так просто. Ни из ресторана «Весна», ни из ресторана «У петуха» мне не удалось, не имея при себе записной книжки с номерами, дозвониться до какого-нибудь общего знакомого. После двух-трех попыток я вспомнил, что за Музеем прикладного искусства в многоэтажном доме живут наши приятели по фамилии Вараджанин; правда, в этой их новой квартире мы еще ни разу не были, но номер дома я знал. Я зашел в подъезд с намерением звонить с их телефона, пока не разрублю этот гордиев узел. Я поднимался пешком с этажа на этаж, но фамилии Вараджанин нигде не было видно. Одна дверь была совсем без таблички, внизу, у подъезда, я заметил имя покойного Алексы Челебоновича, но Вараджанина не было нигде. Я стал спускаться, думая о Тишме, который сидел в такую жару на ступеньках. И тут я решил позвонить в ту единственную дверь, на которой не было фамилии жильцов. Я позвонил, и ко мне вышла госпожа Челебонович, вдова Алексы, все еще носившая траур. Оказалось, это были двери их квартиры. Я растерялся, мне было ужасно неловко, а она чуть не заплакала, увидев меня, сразу, как старого знакомого, пригласила пройти в дом, предложила кофе, а я попытался объяснить ей, в каком безвыходном и смешном положении оказались мы с Тишмой, пробормотав что-то невразумительное и о Вараджанине. Поскольку я ничего не сказал о Эугене, она сначала принесла мне телефон и телефонный справочник, которые не могли мне помочь. Но когда я возобновил свои попытки дозвониться с нашим общим с Эугеном знакомым, она, поняв в чем дело, сказала, что у Алексы был записан новый номер Эугена, и дала мне его.
И тут словно пелена упала с моих глаз, все выяснилось легко и быстро, у меня в руках оказался и адрес, и телефон Эугенов, которые не знали, что и думать о нашем исчезновении; я пригласил госпожу Челебанович присоединиться к нашему обществу, что было еще одной бестактностью с моей стороны, и наконец побежал к Тишме. Я бежал по улице Косанчичев Венац и спрашивал себя: как же такое могло произойти с нами и что в самом деле с нами произошло? И тогда я вспомнил один разговор между мальчишками, происходивший сорок шесть лет тому назад.
*
Шестого апреля 1941 года от взрыва немецкой бомбы сгорела Национальная библиотека Сербии в Белграде. Вдыхая особенный неповторимый запах сгоревшего слова, несколько мальчишек сидели ранним вечером на каких-то ступеньках на улице Косончичев Венац. Было начало немецкой оккупации Белграда.
– Как воняют эти горелые книги, – сказал кто-то из нас.
– Как трупы, – добавил я, тогда еще не зная, что мой сербский народ окажется среди тех трех народов, которым Вторая мировая война принесет больше всего страданий. Так же как и их книгам.
– Они и есть трупы, – сказал Давид, который сидел рядом со мной и еще не знал, что его еврейский народ относится к трем народам, которым Вторая мировая война принесет больше всего страданий. Так же как и их книгам.
– Почему ты думаешь, что они трупы?
– Сгоревшая книга никогда снова не будет книгой. Никогда больше не оживет. Как и все, что сгорело.
– Значит, сгоревшая книга навсегда умерла?
– Это как посмотреть, – сказал Давид. – Знаешь, сколько будет дважды два?
– Четыре. А по-твоему что, не четыре? – спросил я.
– Это зависит от того, продаешь ты или покупаешь. Конечно, Книга Божья написана Божественными письменами, и эти письмена нельзя сжечь никаким огнем. Они сами писаны огнем по огню. Им, следовательно, нельзя причинить вред, но, если их сжечь, можно причинить вред читателю Книги.
– Значит, нам.
– Да. После каждого сожжения одна из находящихся где-то в книге эманации значения, одна из возможностей восприятия книги нашим сознанием стирается, и нам остается одной возможностью меньше. И это уже навсегда. Один из отрывков книги становится с этих пор навечно недоступным человеку. Тот отрывок, который сгорел последним. На этом месте человек, сам того не зная, летя взглядом по строчкам, на мгновение слепнет, пепел попадает ему в глаза и застилает слова. На таких фразах человеческая мысль попадает в заколдованный круг, начинает топтаться на месте, не знает, куда идти и что дальше делать. Оставаясь, как раньше, написанными и перепечатанными, эти строки, тысячи отрывков, становятся потерянными для нас, для человечества. Они там, но их больше никто никогда не увидит.
– Если это так, – вклинился я, – то возникает вопрос: это место потеряно для нас только в книге или также и в жизни? Если человек в жизни встретится как раз с той эманацией значения, с той частью нашего пути, с тем вопросом, который решался в книге и сгорел, будет ли он в таком случае крутиться в заколдованном круге и топтаться на месте? Бываем ли мы иногда и в действительности (если взять самые обычные и даже смешные и глупые ситуации) лишены части значения своего бытия и части своего пути? Застилает ли нам пепел глаза, когда жизнь загадывает нам загадки, и мы не видим выхода из положения, потому что кто-то сжег фразу с ответом на наш вопрос, находящуюся в книге, которую мы никогда не читали и которую, судя по всему, уже не сможем никогда прочитать? Так же как человек, лишившись руки или ноги, становится калекой, может ли он стать калекой, потому что кто-то сжег книгу и таким образом лишил его определенного стечения обстоятельств? Короче говоря, может ли какая-нибудь ночь любви быть заранее стерта из нашего сознания, потому что в какой-то книге сгорело описание такого момента жизни?
– Не знаю, – сказал Давид. – Но как ты сможешь познать в жизни вещь, которую не можешь больше найти в книге? Не знаю. А ты знаешь?
– Может быть, мертвые, которые прочитали это место, до того как книга сгорела, могут помочь живым выйти из заколдованного круга, в который те попали. Может быть, только мертвые знают ответы на эти наши вопросы особого вида.
ЛАБИРИНТ
– У нее всегда завтра; она вообще не женщина, она растение! – говорили мы часто о Ядне. – Трахни ее, и родит абрикос или две дыни-близняшки!
Ядна не сердилась и, даже наоборот, говорила нам:
– Лучше всего пить воду из той части реки, у которой нет названия.
Глаза у нее были широко расставленные и такие крупные, будто предназначались для другого лица. Она боялась умереть, если на нее упадет свет планет из созвездия Рака, и употребляла одеколон с запахом земляники. Она носила одну перчатку белую, а другую – черную, чулки без стопы и сандалии на босу ногу. Однажды она показала мне свое платье из сетки, брошенное на подушку, и сказала:
– Посмотри, кажется, что платье беременное. Платье предсказывает будущее.
Пальцы ее ног шелушились, как молодой картофель, она была рассеянна и часто возвращалась в комнату, где находилась раньше, чтобы вспомнить, что собиралась сделать, потому что человек каждый раз, переходя через порог, что-нибудь забывает. Она считала, что в согласных – истина, а в вокалах – тайна: согласные содержат значение, они числа языка, а гласные его красота.
– Ты должен взять меня в жены, я ни к кому не прихожу в сны, только к тебе, – сказала она мне в тот день, когда мы собирались уезжать. Она всегда знала, чего не хочет, и на этом основании выяснялось, чего она хочет, или, лучше сказать, просеяв через решето все, чего не хочет, она получала то, что она хочет сделать. В то лето она не хотела ехать к матери, поэтому решила навестить сводного брата. Так как она терпеть не могла железную дорогу, то решила поехать с нами на машине.
На ней была тонкая темно-красная юбка цвета ее губ, из которой там и тут выступали полукружия ее колен, как будто кипело варенье. На грудь она надела две фарфоровые чашки, соединенные кожаными шнурками, потому что не хотела надеть белую рубашку.
– Чем занимается твой сводный брат? – спросил я.
– Ест.
– Прекрасно. Что же он ест?
– Та половина, которой он мне не брат, ест другую половину, которой он мне брат…
– Значит, он тебе брат все меньше?
– Точно.
Я стоял рядом с машиной весь совершенно соленый, а братья по фамилии Дромляк, Анастасий и Таслич, заводили мотор. Под мышками у них висела сухая трава. Дело шло к вечеру, и слышно было, что птицы, как маленькие дети, плачут высоко в небе. За руль сел младший, Анастасий.
– Темнота здесь пока еще очень плохого качества, – заметил старший Дромляк, тот, которого звали Таслич, – ночь гроша ломаного не стоит. Поэтому поедем по холодку, вечером. Утром будет труднее.
Раздался один или два раската грома, когда мы подъехали к огромной автомобильной развязке, затем по небу прошла одна или две судороги, далекие и слабые, как если бы земля успокаивалась после землетрясения. Наша полоса вскоре отделилась от автострады, но сначала она отклонилась совсем незаметно; какое-то время мы летели рядом с шоссе, и, только глядя вдаль, можно было понять, что дорога окончательно и бесповоротно свернула с основного направления движения вместе со всеми идущими по ней машинами, включая нашу. Я не понял этого и чувствовал себя так, словно ничего не произошло, словно люди в соседних машинах, тех, что неслись рядом, будут все время ехать вместе с нами, ведь их машины шли так близко; можно было переброситься парой слов с пассажирами; я махал им, показывал рукой на окрестности и реку. А братья Дромляки и Ядна – нет. Они мрачно сидели на своих местах и не отрывая глаз смотрели туда, куда отклонялась наша дорога. Они были более дальнозоркими, чем я. Для них ревевшие рядом, но не свернувшие на нашу полосу соседние машины уже не существовали.
– За рулем человек вынужден сосредоточенно смотреть вперед, – заговорил Таслич, словно желая меня утешить, – ни налево, ни направо, только вперед. Но его природа сопротивляется этому; он постоянно испытывает потребность озираться по сторонам, отводить взгляд от пути, который ведет его в будущее, а тут-то как раз и подстерегает его опасность. Человек так устроен, что не может постоянно смотреть вперед. Поэтому он погибает: как только устанет смотреть вперед, а это не свойственно его природе, как только расслабится, так прямиком и попадает в лапы к смерти…
– Давайте сыграем в «больные перчатки»! – предложил я, чтобы сменить тему.
Атанасий, тот, о котором говорили, что ему «хоть плюй в глаза, все божья роса», и который сам говорил, что есть такие мужчины, что просто невозможно переносить, что Ядна с ними спит, предложил другое.
– Нет, – сказал он, – давайте лучше поспорим, кто расскажет самый длинный рассказ! Будет легче ехать. Чей окажется самым длинным, тот и выиграл пари.
Его брат принял предложение. У него были брови как будто посыпанные солью; он вытянул вперед ноги в сандалиях, увидел свои большие пальцы, похожие на два красных носа, озадачился этим и начал рассказывать.
«Воюющие в армии Мао, – говорилось в рассказе, – взяв в плен солдат Чан-Кай-Ши, предлагали им на выбор три возможности. Первая – остаться в Красной Армии. Вторая – вернуться домой. Третья – уйти назад к Чан-Кай-Ши в свою воинскую часть. Тем, кто выбирал первое, меняли эмблему на пилотке. У тех, кто выбирал второе, забирали ружье и давали им хлеба. А тем, кто решал выбрать третье, давали ружье без боеприпасов и провожали до линии огня. Здесь им давали патроны, столько, сколько лет было бойцу, и отпускали к своим. Некоторые попадали в плен по второму разу. Если они и второй раз хотели вернуться к Чан-Кай-Ши, их отпускали и во второй раз. Но именно те, кто выбирал третью возможность, становились в армии Чан-Кай-Ши троянскими конями. Они теряли выдержку, и не было ни одного, кто после третьего пленения не перешел бы на сторону Мао…»
Пока Таслич говорил, украшая рассказ примерами и отступлениями, Ядна упорно молчала, сидя рядом со мной в своем углу, а Атанасий, который был за рулем, с такой скоростью обгонял машины на дороге, что Таслич не выдержал, прервал рассказ и заметил брату, что скорость обгона должна соответствовать скорости машины, которую обгоняешь, и что не подобает, да и небезопасно, обгонять телегу со скоростью 130 км в час, как это делает Атанасий. Я же в это время думал о том, что Тасличев рассказ получился не такой уж и длинный и что, по крайней мере по сравнению с ним, у меня точно будет преимущество. Во время моего рассказа обглоданные тополя кончились, и мы утонули в густом лесу. Тишина в лесу была страшной и заглушала гул мотора. Сквозь мои слова было слышно, как каждое дерево молчит на свой особенный лад, так же как каждое дерево по-своему шумит листвой. Хоровое молчание ощущалось и в машине. И у людей тоже так. Так же как каждый человек смеется, плачет или кричит по-своему, так он по-своему и молчит, и через мои слова и через слова Атанасия, который начал рассказывать после меня, я слышал молчание Ядны, которое было яснее и выразительнее, чем наша болтовня. Я рассказал историю о суде Париса, обратив внимание на то, что не только соперницы-богини, но и Парис в самом деле был женщиной. Вообще-то говоря, кроме женщин и самок, на земле никого больше и нет. Муж и жена – это две женщины, а отец и сын – это мать и дочь. Я сам научился распознавать в себе те короткие удивительные отрезки времени, когда женская природа берет верх над мужской, мгновения, когда я сам ненавижу себя и когда меня особенно сильно ненавидят женщины. Мгновения краткие и редкие, но, если сложить их вместе, выйдет не так уж и мало…
Пока я рассказывал, мне стало ясно, почему я иногда не хочу, чтобы Ядна осталась со мной. Я не сказал это вслух, я слушал, как в ее молчании гудел мотор, а мрак «плохого качества» проникал в машину, и я предложил, чтобы теперь Ядна что-нибудь рассказала. А она просто сняла с груди свои чашки, потому что была жара. Мы выбрали, где остановиться, чтобы поесть. Перед нами лежал бывший остров, знаменитый тем, что из острова стал полуостровом. У его жителей моча превращалась в камень, и из этого камня они делали насыпь, пока не образовался перешеек, соединяющий остров с сушей. В ресторанчике посетителей обслуживали беременные женщины; они возникали в своих белых фартучках как из-под земли то здесь, то там, а мужчин вообще не было видно. Женщины услужливо подходили к посетителям, приносили вкусную еду и каждому говорили:
– Не будь грустным! – а потом брали у него что-нибудь из тарелки: виноградинку, картошку, лист салата или огурец. Я спросил Ядну, не хочет ли она вина, но она промолчала со своего стула, а я вспомнил, что она очень поздно стала левшой, причем сначала во сне, и что, помыв руки, она всегда после этого моет и кусочек мыла. Мы продолжили путь, наше пари снова оказалось на повестке дня, и Атанасий начал свой рассказ, который можно было бы назвать
АВИТАМИНОЗ
Я хожу, зажав в кулаке большие пальцы, чтобы повезло, читаю лекции, веду телефонные разговоры, через которые, как через вены, утекает моя лексическая кровь, потому что количество слов, которое человеку дано произнести за всю его жизнь, заранее определено и ограничено, так что и сейчас я употреблю какое-нибудь слово последний раз в жизни, только вот не знаю какое. И в течение этих дней и ночей, пока я делаю свои ежедневные дела, читаю газеты, книги по литературоведению или что-нибудь еще, пока я, как всегда, ем, пью, сплю и подставляю волосы ветру, чтобы они стали похожими на траву, я чувствую, как во мне потихоньку просыпается авитаминоз. Сначала я ощущаю его как-то смутно, но вскоре мы с ним знакомимся ближе. Я быстро устаю от разговоров и от чтения. Все больше книг разом валяется под моей кроватью. Он делает меня меланхоликом, он завладевает моими ногтями, образуя в них белые воздушные пузырьки, и у меня возникает желание съесть собственные усы.
И вот однажды вечером я открываю газету «Книжевна реч», лениво листаю ее не читая, смотрю картинки и нюхаю бумагу. И налетаю на рассказ «Undr». Рассказ Борхеса. Читаю его. Он мне не особенно нравится, я даже вспоминаю, что читал недавно в той же самой газете другой, лучший рассказ этого автора. Но это – один из тех немногих, которые я не читал раньше. И я продолжаю читать, не догадываясь по ходу дела, каким будет конец, который, надо сказать, не приводит меня в восхищение, когда я до него добираюсь, и после последнего предложения, которое звучит так:
«Хорошо… ты меня понял», – после этих, говорю я вам, слов, я не останавливаюсь. На одном дыхании я читаю внизу под текстом имя автора, потом подпись: «Перевела с испанского Марина Милович», затем залпом читаю слова «Книжевна реч», № 9, читаю день, читаю «год 1980», продолжаю читать отрывок из стихотворения, напечатанный под текстом Борхеса: «Я перейду, наверное, в их траур», после этого жадно продолжаю читать, и, хотя на этой странице ничего уже больше нет, на коленях у меня под газетой «Книжевна реч» лежит «Политика», и я, не отрывая глаз и не поворачивая головы, читаю окончание какой-то статьи о курдах и затем, так как читать опять нечего, читаю надпись «Wind-time» на пряжке своего ремня, название «Ritmester» на обертке сигары, которую курю, пожираю глазами слова «Lee Cooper» на флажке, встроченном в шов моей штанины, проглатываю эмблему производителя «Naturform Fussbett» на металлической пряжечке моих сабо и собираюсь продолжать в том же духе, но тут понимаю, что больше читать нечего, что, собственно говоря, чтение уже давно закончилось и что у меня наконец больше нет авитаминоза.
Я снова могу брать с собой в дорогу зажатые в кулаках большие пальцы…
*
Рассказ Атанасия не успел еще толком закончиться, как он на полной скорости пошел на обгон и нажал на газ в тот самый момент, когда прямо на нас из-за поворота выскочила другая машина. У Таслича хватило времени только на то, чтобы со всей силы дать Атанасию в ухо, а у меня – чтобы подумать, что я все-таки выиграл пари, и та машина разнесла нас вдребезги. Ядна в этот момент ощутила, что чувства ей изменили, она потеряла зрение и нюх, зато ее слух стал невероятно глубоким, она разом услышала все и вокруг, и внутри себя, и этот слух, погружаясь все глубже, вонзился в нее, как нож, и убил ее. Через несколько минут я стоял один на траве, почти голый. Передо мной на той же траве лежали мертвыми братья Дромляк и Ядна. Таслич и Атанасий были смяты в лепешку, а Ядна лежала в своей смерти нетронутой, она совсем не изменилась, ее косичка, скрученная на затылке, и цветом, и формой напоминала плетеную медовую булочку. Ее лицо было чистым, как мыло, вымытое после употребления, рот продолжал молчать, как будто ничего не произошло, и только между губами виднелась красная нитка. Я хотел нагнуться и взять эту нитку рукой, но тут же понял, что это кровь, что молчание Ядны, которое длилось долго, будет длиться еще дольше и что она-то и выиграла пари. Ее рассказ – это самый длинный рассказ на свете. Ее странное имя [11]11
Ядна – бедная (серб.).
[Закрыть] теперь получает свое оправдание, а я кладу в ее руку монетку, которую проиграл.
Проходят годы, я становлюсь рассеянным и забываю, что мне надо делать, переступив через порог дома. Все это время я продолжаю говорить, как и все остальные люди, но чувствую, что это только бесплодная попытка задним числом выиграть проигранное Ядне пари.
Хотя существует одна возможность: взяться за красную нить и пойти туда, куда она поведет.








