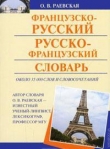Текст книги "Хазарский словарь"
Автор книги: Милорад Павич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«На нашем судне, отец мой, команда копошится как муравьи, я вымыла его сегодня утром своими волосами, и они ползают по чистым мачтам и тащат в свой муравейник зеленые паруса, как будто это сладкие листья винограда; рулевой пытается выдрать корму и взвалить ее себе на плечи, как добычу, которой будет питаться целую неделю; те, что слабее всех, тянут соленые веревки и исчезают с ними в утробе нашего плавучего дома. Только у тебя, отец мой, нет права на такой голод. В этом пожирании скорости, тебе, мое сердце, единственный отец мой, принадлежит самая быстрая часть. Ты питаешься разодранным на куски ветром».
Вторая молитва принцессы Атех как будто объясняет историю ее хазарского лица:
«Я выучила наизусть жизнь своей матери и каждое утро в течение часа разыгрываю ее перед зеркалом как театральную роль. Это продолжается изо дня в день много лет. Я делаю это одевшись в ее платье, с ее веером и с ее прической, потому и волосы я заплела так, как будто это шерстяная шапочка. Я играю ее роль и перед другими, даже в постели своего любимого. В минуты страсти я просто не существую, это больше не я, а она. Я играю так хорошо, что моя страсть исчезает, а остается только ее. Другими словами, она заранее украла у меня все мои любовные прикосновения. Но я ее не виню, потому что знаю, что и она так же точно была обкрадена своей матерью. Если кто-нибудь сейчас спросит меня, к чему столько игры, отвечу: я пытаюсь родиться заново, но только так, чтобы получилось лучше…»
О принцессе Атех известно, что она никогда не смогла умереть. Правда, существует запись, выгравированная на ноже, украшенном мелкими дырочками, где говорится о ее смерти. Это единственное и не вполне достоверное предание приводит Даубманнус , однако не как рассказ о том, что принцесса Атех действительно умерла, а как рассуждение о том, могла ли она вообще умереть. Как от вина не седеют волосы, так и от этого рассказа не будет вреда. Называется он:
, однако не как рассказ о том, что принцесса Атех действительно умерла, а как рассуждение о том, могла ли она вообще умереть. Как от вина не седеют волосы, так и от этого рассказа не будет вреда. Называется он:
Быстрое и медленное зеркало
Однажды весной принцесса Атех сказала: «Я привыкла к своим мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной и той же ширины, и вижу я их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже всего – из– за них уже и перекрестков не видно».
Чтобы развлечь принцессу, слуги принесли ей два зеркала. Они почти не отличались от других хазарских зеркал. Оба были сделаны из отполированной глыбы соли, но одно из них было быстрым, а другое медленным. Что бы ни показывало быстрое, отражая мир как бы взятым в долг у будущего, медленное отдавало долг первого, потому что оно опаздывало ровно настолько, насколько первое уходило вперед. Когда зеркала поставили перед принцессой Атех, она была еще в постели и с ее век не были смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя с закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два мгновения ока, тогда, когда впервые прочла написанные на своих веках смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она моргнула и до и после своей смерти. Она умерла, убитая одновременно буквами из прошлого и будущего…
БРАНКОВИЧ АВРАМ (1651–1689) – один из тех, кто писал эту книгу. Дипломат, служивший в Адрианополе и при Порте в Царьграде, военачальник в австрийско-турецких войнах, энциклопедист и эрудит. Портрет Бранковича был нарисован на стене основанного им храма Святой Параскевы в Купинике, родовом имении Бранковичей. Здесь он изображен в окружении своих родственников подающим на кончике сабли своей прабабке, сербской царице и святой, преподобной матери Ангелине, храм Святой Петки.
Источники. Данные об Авраме Бранковиче разбросаны по отчетам и доносам австрийских агентов, особенно их много в донесениях, которые составлял для принца Баденского и генерала Ветерани один из двух писарей Бранковича, Никон Севаст . Некоторое место отвел Авраму Бранковичу, своему родственнику, и граф Джордже Бранкович (1645–1711) в своей валахской хронике и в обширных сербских хрониках, в тех частях, которые, к сожалению, в настоящее время утрачены. Последние дни Бранковича описал его слуга и учитель сабельного боя Аверкие Скила
. Некоторое место отвел Авраму Бранковичу, своему родственнику, и граф Джордже Бранкович (1645–1711) в своей валахской хронике и в обширных сербских хрониках, в тех частях, которые, к сожалению, в настоящее время утрачены. Последние дни Бранковича описал его слуга и учитель сабельного боя Аверкие Скила . Хронологию жизни Бранковича наиболее полно можно восстановить по письменной исповеди, которую из Польши послал патриарху в Печ второй писарь Аврама Бранковича – Феоктист НикольскийΑ, а также на основе одной иконы, изображающей житие и чудеса Илии Пророка, потому что к каждому эпизоду из жизни этого святого Бранкович подгонял события собственной жизни и делал записи об этом на задней стороне иконы.
. Хронологию жизни Бранковича наиболее полно можно восстановить по письменной исповеди, которую из Польши послал патриарху в Печ второй писарь Аврама Бранковича – Феоктист НикольскийΑ, а также на основе одной иконы, изображающей житие и чудеса Илии Пророка, потому что к каждому эпизоду из жизни этого святого Бранкович подгонял события собственной жизни и делал записи об этом на задней стороне иконы.
«Аврам Бранкович происходит из семьи, которая пришла в придунайские края с юга, после падения сербского царства, когда оно оказалось под властью турок», – написано в секретном донесении Никона Севаста венскому двору. Члены этой семьи, подхваченные поднявшейся тогда волной исхода из мест, занятых турками, переселились в XVI веке в Липову и в Енопольский округ. С тех пор о трансильванских Бранковичах говорят, что они лгут на румынском, молчат на греческом, считают на еврейском, в церкви поют на русском, самые умные мысли произносят на турецком – и только тогда, когда хотят убить, употребляют свой родной, сербский, язык. Родом они из западной Герцеговины, из окрестностей Требинья, из села Кореничи, недалеко от Ластвы в Горни-Полици, отсюда и другое их имя – Кореничи. После переселения Бранковичи занимают видное место в Трансильвании, и их вино уже двести лет славится как самое лучшее в Валахии, существует даже поговорка: капля вина напоит допьяна. Семья Бранковича проявила себя не только в военном искусстве в стычках на границе двух веков и двух государств – венгерского и турецкого. На новом месте, на реке Мориш, в Енополе, Липове и Панкоте, она дала целый ряд видных священнослужителей. Мойсей Бранкович, он же епископ Матей, был митрополитом Енопольским, и орех, который он бросал в Дунай, всегда быстрее других попадал в Черное море. Сын его, дядя графа Георгия Бранковича – Соломон (в сане епископа Енопольского он носил имя Сава I), управлял енопольской и липовской епархиями, не слезая с коня, и пил только в седле до той самой поры, пока Липова не была в 1607 году взята турками. Бранковичи утверждают, что их род идет от сербских деспотов Бранковичей, а откуда пришло к ним богатство – сказать трудно. Говорят, что в карман Бранковичей наяву попадает столько, сколько не может присниться даже всем вместе скрягам-лавочникам от Кавалы до Земуна. Их перстни холодны, как тело гадюки, их земли птица не облетит за один перелет, а в народных песнях о них поют наравне с правителями. Бранковичи покровительствуют монастырям в Валахии и на Афоне в Греции, они строят укрепления и церкви, такие как в стольном граде Белграде, Купнике или в местечке под названием Теус. Князь Жигмонд Ракоци одарил родственников Бранковича по женской линии селами и степями, пожаловал им дворянство, по женской же линии они состоят в родстве с Секелями из Эрделя, откуда в виде приданого тоже немало влилось в их состояние. Нужно заметить, что в семействе Бранковичей наследство переходит в зависимости от цвета бороды. Все наследники с рыжей бородой (а она передается по женской линии, потому что Бранковичи берут в жены только рыжеволосых) уступают в праве наследования чернобородым, чьи бороды свидетельствуют о том, что они получили кровь по мужской линии. Владения Бранковичей в настоящее время оцениваются примерно в двадцать семь тысяч форинтов, а годовой доход от них составляет более полутора тысяч. И даже если их родословные могут вызвать сомнение, не вызывает сомнения их богатство – оно надежно и прочно, как земля, по которой они проносятся верхом, и груды золотых монет, хранящихся в их сундуках, не видели света дня более двухсот лет…
В Царьграде Аврам Бранкович появился хромым, с раздвоенным каблуком, и там ходят рассказы о том, как он был изуродован. Когда Аврам был мальчиком семи лет, турки ворвались во владение его отца и налетели на небольшую группу слуг, сопровождавших ребенка во время прогулки. Завидев турок, слуги разбежались, с Аврамом остался только один старик, который длинной палкой весьма искусно отражал все выпады всадников, пока их командир не выпустил в него изо рта стрелу, спрятанную в зажатой между зубами камышовой трубочке. Старик упал как подкошенный, а Аврам размахнулся изо всех сил хлыстом, который держал в руке, и стегнул турка по сапогам. Мальчик вложил в этот удар все свое отчаяние и ненависть, но турок только рассмеялся и, приказав поджечь село, ускакал. Годы ползли, как черепахи, Аврам Бранкович вырос, случай этот забылся, потому что были новые стычки и Бранкович теперь сам вел своих воинов, неся в руке знамя и во рту камышинку с отравленной стрелой. Однажды на дороге они натолкнулись на вражеского лазутчика, который шел вместе со своим сыном, еще мальчиком. Выглядели они на первый взгляд вполне безобидно, у каждого только по палке в руках. Один из людей Бранковича узнал старика, подъехал к нему вплотную, пытался его схватить. Старик отбивался палкой и не давался. Все заподозрили, что в палке у него спрятано секретное письмо, свернутое в трубку. Бранкович выпустил отравленную стрелу и убил старика. Тотчас мальчик, шедший со стариком, ударил Бранковича палкой. Ребенку не исполнилось, пожалуй, и семи лет, и вся его сила, ненависть и любовь не могли бы нанести вреда Бранковичу, но Бранкович рассмеялся и упал как подкошенный.
После этого удара он стал хромать на одну ногу, оставил военное ремесло; через своего родственника, графа Джордже Бранковича, добыл себе место дипломата в Адрианополе, Варшаве и Вене. Здесь, в Царьграде, Бранкович работал на английского посланника и жил в просторном каменном доме между башнями Йорос Калеши и Караташ на Босфоре. На первом этаже дома он приказал выстроить половину храма, посвященного матери Ангелине, его прабабке, которую Восточная Церковь объявила святой. Вторая половина того же храма находится в Трансильвании, месте постоянного пребывания отца Бранковича.
Аврам Бранкович человек видный, с огромной грудной клеткой, напоминающей клетку для крупных птиц или небольших зверьков, и на него часто нападают убийцы, ведь в народной песне поется, что кости его из золота.
В Царьград он прибыл так, как путешествует всегда: на высоком верблюде, которого кормят рыбой. Животное под ним идет иноходью, и ни капли вина не проливается из чаши, укрепленной в оголовье. С раннего детства Бранкович спит не ночью, как все зрячие, а только днем, но когда он перевел свои часы и превратил день в ночь – сказать никто не может. Однако и во время своих ночных бдений он не может спокойно сидеть на месте, будто не дает ему покоя чужое горе. Поэтому за трапезой ему всегда ставят две тарелки, два стула и два стакана – среди обеда он часто неожиданно вскакивает и пересаживается на другое место. Точно так же не может он долго говорить на одном языке, а меняет их, как любовниц, и переходит то на румынский, то на венгерский или турецкий, а у одного попугая начал учить и хазарский язык. Известно, что во сне он говорит по-испански, но наяву это его знание тает как снег на солнце. Не так давно кто-то пел ему во сне песню на непонятном языке. Песню он запомнил, и для того, чтобы перевести ее, нам пришлось искать человека, знающего языки, не известные Бранковичу. Так мы нашли одного раввина, и Бранкович прочитал ему на память слова песни. Она короткая и звучит так:

Раввин, услышав начало, тут же прервал Бранковича и продолжил песню до конца. Потом он написал имя автора стихов. Они были написаны еще в XII веке, и сложил их некий Иуда Халеви . С тех пор Бранкович учит древнееврейский. Однако то, чем он занимается в повседневной жизни, имеет совершенно практическую природу. Потому что способности его разносторонне а улыбка среди других наук и умений его лица выступает в роли алхимии…
. С тех пор Бранкович учит древнееврейский. Однако то, чем он занимается в повседневной жизни, имеет совершенно практическую природу. Потому что способности его разносторонне а улыбка среди других наук и умений его лица выступает в роли алхимии…
Каждый вечер, стоит ему проснуться, он начинает готовиться к бою. Точнее, он ежедневно упражняется в мастерстве владения саблей с одним из здешних знаменитых искусников. Искусник этот – копт по имени Аверкие Скила, которого Аврам нанял себе в слуги. Этот Аверкие носит один глаз постным, а другой скоромным, а все морщины его лица связаны в узел над переносицей. У него есть самое подробное описание и каталог сабельных ударов, всех, какие когда-нибудь были применены, и прежде, чем внести в свой рукописный справочник какой-либо новый удар, он сам лично проверяет его на живом мясе. Бранкович закрывается вместе со своим слугой-коптом в огромном зале, пол которого застелен ковром размером с небольшой луг, и в полном мраке они упражняют свои сабли. Аверкие Скила обычно берет в левую руку один из концов длинной верблюжьей уздечки, другой ее конец подхватывает кир Аврам, тоже левой, а в правой у него сабля, такая же тяжелая, как и та, которую сжимает в темноте рука Аверкия Скилы. Медленно наматывают они уздечку на руку, пока не почувствуют, что уже приблизились друг к другу, и тогда замахиваются беспощадными саблями – в полной темноте, от которой можно оглохнуть. О быстроте удара Бранковича поют гусляры, да я и своими глазами прошлой осенью видел, как он стоит под деревом и ждет порыва ветра, и первый же плод, который падает вниз, на лету рассекает надвое. У него заячья губа, и, чтобы скрыть это, он отпустил усы, но, когда он молчит, между усами все равно видны зубы. И кажется, будто верхней губы у него нет вовсе, а усы растут на зубах…
…Сербы говорят, что он любит свой край и что всегда советуется со своими, однако у него есть странные недостатки, которые никак не приличествуют его роду занятий. Он не умеет в разговоре поставить точку и выбрать ту минуту, когда следует подняться и уйти. Он всегда с этим тянет и наконец упускает момент, оставляя людей в недоумении – чаще при прощании, чем при встрече. Он употребляет гашиш, который специально для него готовит один евнух из Кавалы, никому больше он не доверяет. Но как это ни удивительно, у Бранковича нет постоянной потребности в опиуме, и для того, чтобы не приобрести зависимость, он время от времени посылает запечатанный ящик гашиша со своим курьером в Пешту, откуда и получает его обратно с нетронутыми печатями спустя два месяца, когда, по его подсчетам, опиум уже сможет ему понадобиться. Всегда, когда Бранкович не в пути, огромное седло верблюда, украшенное бубенчиками, возвышается в его большой библиотеке и служит ему столом, за которым можно писать стоя. До́ма во всех комнатах полно самых разных домашних предметов, которые выглядят какими-то испуганными, но никогда не найти рядом с ним или поблизости от него двух одинаковых вещей. Каждая вещь, или животное, или человек должны быть из разных сел. Среди его слуг сербы, румыны, греки, копты, а недавно он взял на службу одного турка из Анатолии. У кира Аврама есть большая и малая постели, и, почивая (а спит он всегда только днем), он перемещается из одной постели в другую. Пока он спит, его слуга, тот самый, что родом из Анатолии, Юсуф Масуди , не сводит с него взгляда, от которого падают птицы. А проснувшись, кир Аврам – как будто в страхе – поет в постели тропари и кондаки своим предкам, которых Сербская церковь причислила к лику святых.
, не сводит с него взгляда, от которого падают птицы. А проснувшись, кир Аврам – как будто в страхе – поет в постели тропари и кондаки своим предкам, которых Сербская церковь причислила к лику святых.
Трудно судить о том, насколько Бранковича интересуют женщины. У него на столе стоит деревянная фигура обезьяны в натуральную величину с огромным членом. Иногда кир Аврам повторяет свое присловье: «Баба без зада, что село без церкви», только и всего. Раз в месяц господарь Бранкович отправляется в Галату, всегда к одной и той же гадалке, и она по картам читает его судьбу старинным и требующим большого терпения способом. В своем доме гадалка держит для Бранковича специальный стол, и на этот стол она бросает новую карту каждый раз, когда на дворе меняется ветер. От того, какой ветер подует, зависит, какая карта ляжет на стол Бранковича, и это продолжается годами. На прошлую Пасху, только мы вошли к ней, задул южный ветер, и гадалка сразу же изрекла:
– Вам приснится человек с одним седым усом. Молодой, с красными глазами и стеклянными ногтями на одной руке, он приближается к Царьграду, и скоро вы встретитесь…
Это известие настолько обрадовало нашего господина, что он тут же приказал вдеть мне в ноздрю золотое кольцо, и я едва смог спастись от этой милости.

Зная, насколько венский двор интересуется планами господаря Бранковича, я могу сказать, что Бранкович относится к тем людям, которые с особым вниманием и усердием заботятся о своем будущем, возделывают его, как большой сад. Он не из тех, кто проживает жизнь бегом. Свое будущее он заселяет медленно и осознанно. Открывает его для себя шаг за шагом, как неведомую землю, сначала раскорчевывает и только потом строит в самом подходящем месте здание, в котором потом еще долго переставляет все вещи, пока не найдет их истинное расположение. Он обращает внимание на то, чтобы будущее не замедлило свой ход и рост, однако заботится и о том, чтобы самому не разогнаться и не зашагать вперед быстрее, чем оно может продвигаться впереди него. Это своего рода гонка.
И проигрывает тот, кто быстрее. В настоящий момент будущее кира Аврама похоже на сад, в котором уже посажено семя, но лишь один он знает, что из него прорастет. Тем не менее о том, что за планы строит Бранкович, можно догадаться по той истории, которую пересказывают друг другу только шепотом. Это
Повесть о Петкутине и Калине
Старший сын кира Аврама Бранковича, Гргур Бранкович , рано сунул ногу в стремя и взмахнул саблей, закаленной в огне горящего верблюжьего навоза. Его одежду, обшитую кружевами и испачканную кровью, в то время из Джулы, где Гргур жил с матерью, посылали в Царьград, чтобы ее там выстирали и отгладили под надзором отца, просушили на свежем ветре с Босфора, отбелили под греческим солнцем и с первым караваном отправили обратно в Джулу.
, рано сунул ногу в стремя и взмахнул саблей, закаленной в огне горящего верблюжьего навоза. Его одежду, обшитую кружевами и испачканную кровью, в то время из Джулы, где Гргур жил с матерью, посылали в Царьград, чтобы ее там выстирали и отгладили под надзором отца, просушили на свежем ветре с Босфора, отбелили под греческим солнцем и с первым караваном отправили обратно в Джулу.
Второй, младший, сын Аврама Бранковича лежал в то время где-то в Бачке за разноцветной печью, сложенной наподобие церкви, и мучился. Говорили, что с тех пор, как на ребенка помочился дьявол, он встает по ночам, убегает с метлой из дома и подметает улицы. Потому что по ночам его сосала Морь, кусала за пятки и из его сосков текло мужское молоко. Напрасно втыкали в дверь вилку и, поплевав на сложенные в кукиш три пальца, крестили ими его грудь. Наконец одна женщина посоветовала ему лечь спать с ножом, намоченным в уксусе, а когда Морь навалится на него, пообещать ей дать утром взаймы соли и вонзить в нее нож. Мальчик все так и сделал, когда Морь принялась сосать его, он предложил ей взаймы соли, вонзил в нее нож, и тут послышался крик, в котором он узнал давно знакомый голос. На третий день приехала из Джулы в Бачку его мать, с порога попросила соли и упала замертво. На ее теле нашли рану от удара ножом, на вкус она оказалась кислой… С тех пор мальчик занемог от ужаса, у него начали выпадать волосы, и с каждым выпавшим волосом (как сказали Бранковичу знахари) он терял год жизни. Клоки волос, запакованные в юту, пересылали Бранковичу. Он приклеивал их к мягкому зеркалу, на котором было нарисовано лицо ребенка, и таким образом знал, на сколько лет меньше осталось жить его сыну.
Почти никто, однако, не знал, что кроме этих двух сыновей у кира Аврама был еще и приемный сын, если его вообще можно было так назвать. Этот третий, или же приемный, сын не имел матери. Бранкович сделал его из глины и прочитал над ним сороковой псалом, чтобы вдохнуть в него жизнь и заставить двигаться. Когда он произнес слова: «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота; и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои…» – три раза прозвонил колокол на церкви в Дале, юноша шевельнулся и сказал:
– Когда прозвонили в первый раз, я был в Индии, при втором ударе – в Лейпциге, а с третьим ударом вошел в свое тело…
Тогда Бранкович связал его волосы Соломоновым узлом, привесил к ним ложку из боярышника, дал имя Петкутин и пустил в мир. А сам надел на шею веревку с камнем и простоял так всю литургию в средопостную неделю.
Отец, разумеется, должен был (для того чтобы все было как у живых) вложить в тело Петкутина и смерть. Этот зародыш конца, эта маленькая и еще несовершеннолетняя смерть была в Петкутине сперва боязливой и глуповатой, нетребовательной к пище, с недоразвитыми членами. Но уже тогда она безмерно радовалась тому, что Петкутин растет, а рос он так, что его расшитые рукава скоро стали такими большими, что в них могли летать птицы. Но вскоре смерть в Петкутине стала быстрее и умнее, чем он сам, и опасности она замечала раньше него. А потом она повела себя так, будто приобрела соперницу, о которой речь еще впереди. Она стала нетерпеливой и ревнивой и пыталась обратить на себя внимание тем, что вызывала у Петкутина зуд на колене. Он чесал его и ногтем оставлял на коже написанные буквы, которые потом можно было читать. Так они переписывались. Особенно не любила смерть Петкутиновы болезни. А отец должен был снабдить Петкутина и болезнью, раз он хотел, чтобы сын как можно больше походил на живое существо, ведь без болезни живое существо как без глаз. Однако Бранкович постарался, чтобы болезнь Петкутина была как можно более безопасной, и наградил его сенной лихорадкой, той самой, что возникает весной, когда начинают колоситься травы и цветы осыпают ветер и воду пыльцой.
Бранкович поместил Петкутина в свое имение в Дале, в дом, полный борзых собак, которым загрызть насмерть было проще, чем съесть. Раз в месяц слуги гребнями вычесывали их подстилки и выбрасывали длинные клоки пестрой собачьей шерсти, похожие на собачьи хвосты. Комнаты, в которых жил Петкутин, со временем приобретали всегда одну и ту же, особую окраску, по которой его пристанище всегда можно было отличить ото всех других. Следы и жирные пятна, которые оставались после него и его пота на стеклянных ручках дверей, подушках, стульях, диванах и креслах, на курительных трубках, ножах и чашках, отливали радугой с одному ему свойственными переливами красок. Это была разновидность портрета, иконы или росписи. Бранкович иногда заставал Петкутина в зеркалах огромного дома, замурованного в зеленую тишину. Он обучал его, как в равновесии соединить в себе осень, зиму, весну и лето с водой, землей, огнем и ветром, которые человек тоже носит внутри своей утробы. Огромная работа, которую следовало проделать, продолжалась долго, у Петкутина появились мозоли на мыслях, мышцы его памяти были напряжены до предела. Бранкович научил его читать левым глазом одну, а правым – другую страницу книги, писать правой рукой по-сербски, а левой по-турецки. Потом он познакомил его с литературой, и Петкутин успешно определял в трудах Пифагора места, на которых отразилось чтение им Библии, а подписывался он так быстро, будто ловил муху.
Короче говоря, он стал красивым и образованным юношей и лишь время от времени делал что-нибудь такое, по чему можно было предположить, что он слегка отличается от других людей. Так, например, в понедельник вечером он мог вместо следующего дня недели взять из будущего какой-то другой и использовать его назавтра вместо вторника. А дойдя до использованного дня, он употреблял на его месте вторник, через который в свое время перескочил, – таким образом, баланс был восстановлен. Правда, в таких случаях швы между днями получались не совсем гладкими, возникали трещины во времени, но это только развлекало Петкутина.
С его отцом дело обстояло иначе. Он постоянно сомневался в совершенстве своего произведения, и когда Петкутину исполнился двадцать один год, решил проверить, во всем ли тот может соперничать с настоящими человеческими существами. Бранкович рассуждал так: живые его проверили, теперь нужно, чтобы его проверили мертвые. Потому что только в том случае, если обманутся и мертвые и, увидев Петкутина, подумают, что перед ними настоящий человек из крови и мяса, который сначала солит, а потом ест, можно будет считать, что опыт удался. Придя к такому решению, он нашел Петкутину невесту.
У вельмож Валахии принято иметь при себе одного телохранителя и одного хранителя души, Бранкович тоже когда-то придерживался этого правила. Хранителем его души был фракийский валах, который говорил, что в мире все стало истиной, и у которого была очень красивая дочь. Девочка все лучшее взяла от матери, так что та после родов осталась навсегда безобразной. Когда малышке исполнилось десять лет, мать своими когда-то прекрасными руками научила ее месить хлеб, а отец подозвал к себе, сказал, что будущее не вода, и преставился. Девочка пролила по отцу ручьи слез, так что муравьи, двигаясь вдоль этих ручьев, могли подняться до самого ее лица. Она осиротела, и Бранкович устроил так, что она встретилась с Петкутином. Звали ее Калина, ее тень пахла корицей, и Петкутин узнал, что полюбит она того, кто в марте ел кизил. Он дождался марта, наелся кизила и позвал Калину погулять по берегу Дуная. Когда они прощались, Калина сняла с руки кольцо и бросила его в реку.
– Если случается что-нибудь приятное, – объяснила она Петкутину, – всегда нужно приправить это какой-нибудь неприятной мелочью – так этот момент лучше запомнится. Потому что человек дольше помнит не добро, а зло.
Короче говоря, Петкутин понравился ей, она понравилась Петкутину, и той же осенью всем на радость их обвенчали. Сваты и кумовья после свадьбы распрощались, перецеловались друг с другом, перед тем как расстаться на долгие месяцы, и так, в обнимку, пошли на прощание еще выпить ракии, и еще, и еще – от бочки к бочке, до самой весны, когда они наконец протрезвели, огляделись вокруг себя и после долгого зимнего похмелья снова увидели друг друга. Тогда они вернулись в Даль и, паля в небо из ружей, проводили молодых в весеннюю поездку, как было принято в этих местах. Нужно иметь в виду, что в Дале принято ездить отдохнуть или просто развеяться – к древним развалинам, где сохранились прекрасные каменные скамьи и греческий мрак, который гораздо гуще любой другой темноты, так же как и греческий огонь ярче любого другого огня. Туда же отправились и Петкутин с Калиной. Издали казалось, что Петкутин правит упряжкой вороных, но стоило ему на ходу чихнуть от запаха каких-нибудь цветов или щелкнуть хлыстом – от коней разлеталось по сторонам облако черных мух и было видно, что кони белые. Однако это не мешало ни Петкутину, ни Калине.
Этой зимой они полюбили друг друга. Ели одной вилкой по очереди, и она пила из его рта вино. Он ласкал ее так, что душа скрипела у нее в теле, а она его обожала и заставляла мочиться в себя. Смеясь, она говорила своим сверстницам, что ничто не щекочет так приятно, как трехдневная мужская щетина, проросшая в дни любви. А про себя думала серьезно: мгновения моей жизни умирают, как мухи, проглоченные рыбами. Как сделать, чтобы ими мог кормиться и его голод? Она просила, чтобы он отгрыз ей ухо и съел его, и никогда не закрывала за собой ящики и дверцы шкафов, чтобы не помешать своему счастью. Она была молчалива, потому что выросла в тишине одной и той же бесконечной отцовской молитвы, вокруг которой всегда схватывалась одна и та же разновидность тишины. И теперь, когда они двинулись в путь, происходило что-то похожее, и ей это нравилось. Петкутин накинул вожжи упряжки себе на шею и читал какую-то книгу, а Калина болтала и при этом играла в одну игру. Если в своей болтовне она произносила какое-нибудь слово в тот же момент, когда и Петкутин встречал это же слово в своей книге, они менялись ролями, и тогда чтение продолжала она, а он пытался попасть на то же слово. Так, когда она показала пальцем на овцу в поле, а он сказал, что именно сейчас дошел в книге до того момента, когда речь зашла об овце, она не захотела поверить и, взяв книгу, увидела, что в ней говорится буквально следующее:
«Когда уж принес я обеты и мольбы, когда помолился
миру мертвых, то овцу и овна над пропастью этой
заклал; черная кровь потекла, и тогда снизу
начали из Эреба души слетаться покойных людей:
невесты, юноши, с ними долготерпеливые старцы,
нежные девушки – все собрались после недавних печалей и скорби».
Увидев такое совпадение, Калина продолжила чтение и дальше последовало:
«Многие те, которых когда-то пронзили меднокованые копья,
с окровавленным оружием были, с которым некогда пали в борьбе;
возле пропасти этой со всех сторон собрались
с воплями, с криком, а я побледнел, и объял меня страх…
И я острый меч выхватил, что висел у меня на бедре,
сел рядом и к пропасти не подпускал ни одну из теней,
крови чтоб не напилась прежде, чем я у пророков спрошу…»
В тот момент, когда она произнесла слово «теней», Петкутин заметил тень, которую отбрасывал на дорогу разрушенный римский театр. Они приехали.
Вошли они через вход, предназначенный для актеров, бутыль с вином, грибы и кровяную колбасу, которые были у них с собой, поставили на большой камень посреди сцены и поскорее спрятались в тени. Петкутин собрал сухие лепешки буйвольего навоза, немного веток, покрытых засохшей грязью, отнес все это на сцену и высек огонь. Звук от соприкосновения огнива и кремня был слышен очень ясно даже на самых последних, верхних, рядах амфитеатра. Но снаружи, за пределами зрительного зала, где буйствовали дикие травы и запахи брусники и лавра, не было слышно ничего из того, что происходило внутри. Огонь Петкутин посолил, чтобы не чувствовался запах навоза и грязи, затем, обмакнув грибы в вино, бросил их вместе с кровяной колбасой на тлеющие угли. Калина сидела и смотрела на то, как в амфитеатре заходящее солнце переходит с места на место и приближается к выходу. Петкутин прогуливался по сцене и читал вслух имена давних владельцев мест, выбитые на скамьях, громко выговаривая древние незнакомые слова: Caius Veronius Aet… Sextus Clodius Cai filius, Publila tribu… Sorto Servilio… Veturia Aeia…
– Не вызывай мертвых! – предостерегла его Калина. – Не вызывай их, придут!
Как только солнце покинуло сцену, она сняла с жара грибы и кровяную колбасу и они сели есть. Слышимость была великолепной, и каждый кусок, который они пережевывали, отдавался эхом от каждого места особо, с первого по восьмой ряд, каждый раз по-разному, возвращая звук назад к ним, на середину сцены. Казалось, что те зрители, имена которых были выбиты на скамьях, ели вместе с супругами или жадно причмокивали при каждом новом куске. Сто двадцать пар мертвых ушей прислушивалось с напряженным вниманием, и весь зрительный зал жевал вместе с супружеской парой, похотливо вдыхая запах пищи. Когда они прерывали трапезу, делали перерыв и мертвые, как будто кусок застревал у них в горле, и тогда они напряженно следили за тем, что будут теперь делать молодожены. В такие моменты Петкутин с особой осторожностью резал пищу, стараясь не поранить палец, потому что ему казалось, что запах настоящей, живой крови может вывести зрителей из равновесия и тогда они, молниеносные как боль, бросятся со своих мест на него и Калину и разорвут их на куски, движимые своей двухтысячелетней жаждой. Почувствовав легкое дуновение ужаса, Петкутин прижал к себе Калину и поцеловал ее. Она тоже поцеловала его, и послышалось, как на местах зрителей раздалось чмоканье ста двадцати пар губ, как будто и там целовались и любили.