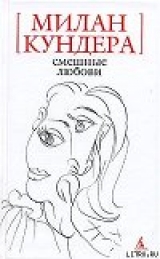
Текст книги "Смешные любови (рассказы)"
Автор книги: Милан Кундера
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Но, увидев сияющую весельем и бесстыдством физиономию доктора Гавела, редактор не мог не ответить ему в подобном же духе, веселом и бесстыдном, и восторженно стал расхваливать женщину, рекомендованную ему его наставником. Он поведал о том, как подпал под ее обаяние, когда впервые взглянул на нее иными, не обывательскими глазами, поведал о том, как она быстро согласилась прийти к нему, и о том, с какой потрясающей скоростью он овладел ею.
Когда же доктор Гавел стал задавать ему разные вопросы и вопросики, чтобы коснуться всех оттенков обсуждаемой темы, молодой человек, поневоле все больше приближаясь в своих ответах к реальности, в конце концов выложил, что, при всем его огромном удовольствии, он был, однако, несколько озадачен разговорами, которые докторша вела с ним в час любовной близости.
Эта деталь весьма заинтересовала доктора Гавела, и, заставив редактора подробно изложить ему диалог с пани Франтишкой, он то и дело прерывал рассказ восторженными возгласами: «Отлично! Потрясающе! Ох уж эта вечная мамочка!.. Дружище, я вам завидую!»
В эту минуту перед ними остановилась женщина, похожая на скаковую лошадь. Доктор Гавел поклонился, женщина подала ему руку. «Не сердитесь, – сказала она, – я немного опоздала».
– Ничего страшного, – ответил Гавел, – у меня с моим другом преинтереснейший разговор. Простите меня, но мне надо закончить его.
И, не отпуская руки высокой женщины, он обратился к редактору: – Милый друг, то, что вы мне рассказали, превзошло все мои ожидания. Поймите: само по себе телесное наслаждение, обреченное на безмолвие, катастрофически однообразно, в нем одна женщина уподоблена другой, и все они до единой будут преданы забвению. Мы же, однако, отдаемся любовным радостям прежде всего для того, чтобы они остались в нашей памяти! Чтобы их светящиеся точки сверкающим полукружьем связали нашу молодость со старостью! Чтобы они поддерживали в нашей памяти вечный огонь! И знайте, дружище: единое слово, изреченное в этой обыденнейшей сцене, способно осиять ее так, что она останется незабываемой. Я слыву собирателем женщин, но в действительности я прежде всего собиратель слов. Поверьте мне, вчерашний вечер вы никогда не забудете, и потому чувствуйте себя счастливым!
Он кивнул молодому редактору и, держа за руку высокую женщину, похожую на скаковую лошадь, стал медленно удаляться с ней по аллее курортного променада.
ЭДУАРД И БОГ
1
Историю Эдуарда уместно начать в деревенском домике его старшего брата. Лежа на тахте, тот говорил ему: «Запросто обратись к этой бабе. Хоть она и свинья, но уверен, что у таких тварей тоже есть совесть. И именно потому, что когда-то она подкинула мне подлянку, теперь она, может, и рада будет, с твоего позволения, искупить на тебе свой старый грех».
Брат Эдуарда не менялся с годами, оставаясь добряком и лежебокой. Таким же образом он, верно, провалялся на тахте в своей студенческой мансарде и много лет назад (Эдуард был еще мальчишкой), когда, продрыхнув, прохлопал день смерти Сталина; на следующее утро, ничего не подозревая, он пришел на факультет и увидел свою однокурсницу Чехачкову, застывшую в показном оцепенении посреди вестибюля, точно изваяние скорби; он трижды обошел ее, а потом дико расхохотался. Оскорбленная девушка расценила смех однокурсника как политическую провокацию, и брату Эдуарда пришлось покинуть институт и уехать работать в деревню; там со временем он обзавелся домишком, собакой, женой, двумя детьми и даже дачей.
Именно в этом деревенском домике он, лежа на тахте, и давал Эдуарду наставления: «Мы называли ее карающим бичом рабочего класса. Но тебя это не касается. Сейчас это стареющая дама, а на юных мальчиков она всегда была падка, так что и тебя не обойдет симпатией».
Эдуард тогда был очень молод. Он кончил педагогический институт (именно тот, где недоучился брат) и подыскивал место. Послушавшись совета брата, он на следующий же день постучал в дверь директорской. Директриса оказалась высокой костлявой дамой с цыганисто тяжелыми черными волосами, черными глазами и черным пушком под носом. Ее уродство приглушило его волнение, в кое все еще повергала его женская красота, и ему удалось поговорить с директрисой свободно, со всяческой любезностью, даже галантно. Явно удовлетворенная его тоном, она несколько раз с очевидной восторженностью произнесла фразу: «Нам в школе нужны молодые люди». И пообещала исполнить его просьбу.
2
Так Эдуард стал учителем в небольшом чешском городе. Это не приносило ему ни радости, ни печали. Он всегда стремился отделить серьезное от несерьезного и свою учительскую стезю относил к категории несерьезного. И не потому, что само по себе учительство считал делом несерьезным (напротив, он даже очень цеплялся за этот единственный для него источник дохода), но считал его несерьезным по отношению к собственной сущности. Он не выбирал этой профессии. Ее выбрали обстоятельства: общественный строй, кадровые характеристики, аттестат средней школы, приемные экзамены. Совместные действия всех этих сил забросили его (как кран забрасывает мешок на грузовик) после средней школы на педагогический факультет. Идти туда не хотелось (факультет был суеверно отмечен провалом брата), но в конце концов он подчинился. Хотя и наперед понимал, что учительство станет лишь еще одной случайностью в его жизни, что оно будет прилеплено к нему, как искусственная, вызывающая смех борода.
Но если обязанность являет собой нечто несерьезное (вызывающее смех), то серьезным, напротив, становится необязательное: вскоре по роду своей новой деятельности он встретил молодую девушку, показавшуюся ему красивой, и начал за ней ухаживать с серьезностью почти что неподдельной. Звали ее Алицей, и была она, в чем он при первых же встречах убедился, на его беду, исключительно сдержанной и добродетельной.
Прогуливаясь с ней вечерами, он неоднократно пытался обнять ее за спину так, чтобы рукой коснуться ее правой груди, но всякий раз она брала его руку и отбрасывала. Однажды, когда он снова предпринял такую попытку, она (снова) отбросила его руку, остановилась и спросила: – Ты в Бога веруешь?
Своим чутким ухом Эдуард уловил в этом вопросе скрытую категоричность и вмиг забыл о груди.
– Веруешь? – повторила Алица вопрос, и Эдуард не решился ответить. Не станем же попрекать его за то, что он не нашел в себе смелости ответить ей искренно; в школе он чувствовал себя одиноким, а Алица ему слишком нравилась, чтобы ради одного-единственного ответа рисковать ею.
– А ты? – спросил он, чтобы оттянуть время.
– Я – конечно, – сказала Алица и снова потребовала от него ответа.
До сего времени мысль о Боге и в голову ему никогда не приходила. Но он понимал, что признаваться в этом ни к чему, напротив, теперь он мог бы воспользоваться случаем и смастерить из веры в Бога нечто вроде крепкого деревянного коня, и в его утробе – подобно античным героям – незаметно проскользнуть в девичью душу. Однако Эдуард не решался сказать Алице так просто: Да, я верую в Бога; он не был наглецом и стеснялся говорить неправду; грубая прямолинейность лжи ему претила; а уж коли ложь была неизбежной, он и в ней хотел оставаться как можно более правдивым. Поэтому он ответил голосом, полным раздумчивости:
– Даже и не знаю, Алица, что тебе сказать. Конечно, я верую в Бога, но… – Он сделал паузу, и Алица удивленно посмотрела на него. – Но я хочу быть с тобой абсолютно искренним. Я могу быть с тобой откровенным?
– Ты должен быть откровенным, – сказала Алица. – А иначе какой смысл в том, что мы вместе?
– Правда?
– Да, правда, – сказала Алица.
– Иногда меня преследуют сомнения, – сказал Эдуард тихим голосом. – Иногда я сомневаюсь в том, существует ли Бог на самом деле.
– Как ты можешь сомневаться в этом! – чуть ли не выкрикнула Алица.
Эдуард молчал, а после минутного раздумья ему в голову пришла известная мысль: – Когда я вижу вокруг себя столько зла, то невольно задаюсь вопросом, возможно ли существование Бога, допускающего все это.
Слова звучали так печально, что Алица взяла его за руку и сказала: – Да, мир и вправду полон зла. Я знаю это даже слишком хорошо. Но именно поэтому ты должен верить в Бога. Не будь Его, все эти страдания были бы напрасны. Все было бы бессмысленным. А я просто не могла бы жить.
– Возможно, ты и права, – сказал Эдуард задумчиво и в воскресенье пошел с нею в костел. Обмакнув пальцы в кропильнице, перекрестился. Началась служба, все пели, и он пел со всеми; мелодия песни была ему знакома, а слов он не знал. Вместо них он подбирал разные гласные, а звук нащупывал на долю секунды позже других, поскольку и мелодию знал нетвердо. Зато в ту минуту, когда убеждался, что попал в точку, давал своему голосу звучать в полную мощь и впервые в жизни обнаружил у себя красивый бас. Потом все стали усердно молиться, а кое-кто из старых женщин опускался на колени. Не в силах побороть свой порыв, он тоже преклонил колени на каменном полу и стал креститься размашистыми движениями руки, испытывая при этом небывалое чувство, что может делать то, чего никогда в жизни не делал, что не может делать ни в классе, ни на улице, ни к каком другом месте. Он ощущал себя безмерно свободным человеком.
Когда все кончилось, Алица посмотрела на него сияющими глазами: – Теперь ты мог бы сказать, что сомневаешься в Нем?
– Нет, – ответил Эдуард.
И Алица сказала: – Я хотела бы научить тебя любить Его так, как люблю Его я.
Они стояли на паперти, и душа Эдуарда сотрясалась от смеха. В эту минуту как назло мимо проходила директриса и увидела их.
3
Не к добру это было. Ибо стоит напомнить (для тех, от кого, возможно, ускользает исторический фон нашего рассказа), что посещать костелы в ту пору хоть и не запрещалось, но в определенной мере было небезопасно.
И понять это не так уж и трудно. Люди, осуществившие то, что называлось революцией, пестовали в себе великую гордость, выражаемую словами: стоять на правильной стороне линии фронта. Однако по прошествии десяти-двенадцати лет (примерно к этому времени относится и наша история) линия фронта начинает размываться, а вместе с ней и ее правильная сторона. Неудивительно, что бывшие поборники революции, чувствуя себя обманутыми, торопливо начинают искать фронт запасной; теперь уже религия помогает им снова стать во всем своем торжестве (в качестве атеистов против верующих) на правильную сторону и так сохранить привычный и драгоценный пафос своего превосходства.
Но, по правде говоря, и той, противоположной стороне запасной фронт пришелся весьма кстати, и, пожалуй, не будет слишком преждевременным сказать, что как раз к таким людям принадлежала и наша Алица. Точно так, как директриса хотела стоять на правильной стороне, Алица хотела стоять на стороне противоположной. В дни революции был национализирован магазин ее отца, и она ненавидела тех, кто совершил это. Но как она могла выразить свою ненависть? Взять нож и идти мстить за отца? В Чехии нет такого обычая. У Алицы была другая, лучшая возможность проявить свой протест: она начала верить в Бога.
Так Господь Бог споспешествовал обеим сторонам, и Эдуард с Его же помощью оказался меж двух огней.
Когда в понедельник утром директриса подошла к Эдуарду в учительской, он не на шутку растерялся. И, к сожалению, никак не смог создать той дружеской атмосферы, что сопутствовала их первому разговору, ибо с тех пор (то ли по своему простодушию, то ли по небрежности) в душевные беседы с ней уже не вступал. И потому директриса по праву могла обратиться к нему с нарочито холодной улыбкой:
– Вчера мы встретились, не так ли?
– Да, встретились, – сказал Эдуард.
– Не понимаю, – продолжала директриса, – как может молодой человек ходить в костел. – Эдуард растерянно пожал плечами, а директриса, покачав головой, повторила: – Да, именно молодой человек.
– Я зашел в храм, чтобы осмотреть его барочный интерьер, – извиняющимся тоном сказал Эдуард.
– Ах вот оно что, – иронично протянула директриса, – я не знала, что у вас такие художественные интересы.
Этот разговор, конечно, был неприятен Эдуарду. Он вспомнил, как его брат когда-то трижды обошел застывшую в скорбной позе однокурсницу и как потом закатывался смехом. Да, семейные истории повторяются, подумал он и оробел. В субботу позвонил Алице и, извинившись, сказал, что простудился и в костел не пойдет.
– Какой ты неженка, – попрекнула его Алица после воскресенья, и Эдуарду показалось, что ее слова прозвучали бездушно. Он стал рассказывать ей (загадочно и расплывчато, стыдясь признаться в своем страхе и в истинных его причинах) об обидах, которые терпит в школе, и о ужасной преследующей его директрисе. Старался вызвать в Алице жалость, но она сказала:
– А моя начальница – классная тетка, – и, посмеиваясь, принялась пересказывать ему всякие толки, ходившие на ее работе. Эдуард, слушая ее веселый голосок, все больше мрачнел.
4
Дамы и господа, это были недели мучений! Эдуард отчаянно мечтал об Алице. Ее тело разжигало его, но именно это тело оказывалось для него совершенно недосягаемым. Мучительным был и пейзаж, на фоне которого происходили их встречи: они то бродили по затемненным улицам, то ходили в кино; банальность и мизерные эротические возможности этих двух вариантов (иных не было) подсказали Эдуарду, что он, пожалуй, добился бы у Алицы более выразительных успехов, встречайся он с ней в другой обстановке. Однажды он с простодушным видом предложил ей провести уик-энд в деревне у его брата, у которого в лесистой долине у реки имеется дача. Эдуард восторженно расписывал девственную красоту тамошней природы, однако Алица (во всем остальном она была наивна и доверчива) сразу раскусила его намерения и резко отвергла предложение. Так повелевал сам (вечно бдительный и настороженный) Алицын Бог.
Этот Бог был сотворен из одной-единственной идеи (иных желаний и мыслей у Него не было): Он запрещал внебрачные любовные связи. Это был, пожалуй, довольно забавный Бог, но стоит ли нам смеяться над Алицей? Из десяти заповедей, переданных Моисеем людям, девять в ее душе не подвергались никакому сомнению, ибо Алица отнюдь не испытывала охоты убивать или не почитать отца своего или желать жену ближнего своего; и лишь одну-единственную заповедь она ощущала не как нечто самоочевидное, а как некую реальную задачу, требующую усилий; это была знаменитая седьмая заповедь: не прелюбодействуй. И если ей мечталось как-то претворить в жизнь свою веру, доказать и проявить ее, то она должна была устремить все свое внимание именно на эту единственную заповедь, сотворив тем самым из Бога туманного, расплывчатого и абстрактного Бога совершенно определенного, понятного и конкретного: Бога Непрелюбодейства.
Но кто может сказать, где начинается прелюбодейство? Каждая жещина определяет эту границу сообразно собственным загадочным критериям. Алица спокойно позволяла Эдуарду целовать ее, а после многократных его попыток погладить ее по груди смирилась и с этим, однако посередине тела, примерно на уровне пупка, проводила точную и совершенно безоговорочную линию, ниже которой простиралась земля, запретная для Моисея, земля священных заповедей и гнева Господня.
Эдуард пустился в чтение Библии и основной теологической литературы; он решил одолеть Алицу ее же собственным оружием.
– Аличка, если мы любим Бога, для нас нет ничего запретного. Если мы о чем-то мечтаем, происходит это с Его дозволения. Христос только и желал того, чтобы все поступали по любви.
– Да, – сказала Алица, – но не той, какая у тебя на уме.
– Любовь только одна, – возразил Эдуард.
– Тебе это было бы выгодно, – сказала Алица, – только Бог установил определенные заповеди, и мы должны следовать им.
– Да, ветхозаветный Бог, – сказал Эдуард, – но никоим образом не Бог христианский.
– Как так? Существует все же один Бог, – не дала сбить себя с толку Алица.
– Верно, – сказал Эдуард, – однако ветхозаветные евреи понимали Его иначе, чем понимаем Его мы. До прихода Христа человек обязан был придерживаться определенной системы заповедей и законов. Каким он был внутри себя, не имело особого значения. Но Христос посчитал все эти запреты и установления чем-то внешним. Самым главным для него было – каков человек внутри себя. Если человек будет поступать согласно велению своей пламенно верующей души, все, что он совершит, будет хорошо и угодно Богу. Потому-то и сказал святой Павел: «Для чистых все чисто».
– Только вот вопрос – ты ли этот чистый, – сказала Алица.
– А святой Августин, – продолжал Эдуард, – сказал: «Люби Бога и поступай по желанию твоему». Понимаешь, Алица? Люби Бога и поступай по желанию твоему!
– Да вот незадача: твое желание никогда не совпадет с моим, – ответила Алица, и Эдуард понял, что его теологический натиск на сей раз потерпел полный крах; поэтому он сказал:
– Ты меня не любишь.
– Люблю, – с удивительной деловитостью сказала Алица. – И потому не хочу, чтобы мы делали то, что делать не должно.
Как уже было сказано, это были недели мучений. И муки были тем сильнее, что тяга Эдуарда к Алице вовсе не ограничивалась тягой тела к телу; напротив, чем больше его отвергало ее тело, тем печальнее и несчастнее он становился и все больше нуждался в ее сердце; однако и тело ее, и сердце были к тому совсем равнодушны, и одно и другое были одинаково холодны, одинаково заняты только собой и полностью самодостаточны.
А более всего Эдуарда раздражала в Алице невозмутимая уравновешенность всех ее проявлений. И потому, при всем своем здравомыслии, он стал помышлять о каком-нибудь сногсшибательном поступке, который мог бы вывести Алицу из ее невозмутимости. Однако было чересчур рискованно провоцировать ее какими-либо богопротивными или циничными крайностями (к чему, естественно, влекло его), и он решил избрать крайности как раз обратного свойства (а значит, гораздо более сложные), которые исходили бы из собственных Алицыных взглядов, но утрировали бы их так, что она сама почувствовала бы себя ими сконфуженной. Скажем понятнее: Эдуард начал преувеличивать свою религиозность. Он не пропускал ни одного посещения костела (влечение к Алице было сильнее страха схлопотать неприятности) и вел себя там с вызывающим смирением: по любому случаю опускался на колени, тогда как Алица рядом молилась и крестилась стоя из страха порвать чулки.
Однажды он и вовсе попрекнул ее религиозной вялостью. Напомнил ей слова Иисуса: «Не всякий говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное». Он упрекнул ее в том, что ее вера формальная, внешняя, пустая. Упрекнул в избалованности. Упрекнул, что она слишком довольна собой. Что кроме себя никого не замечает вокруг.
А выговорившись в таком духе (не подготовленная к его нападкам, Алица защищалась слабо), он вдруг увидел перед собой крест, старый, заброшенный металлический крест с заржавелым жестяным Христом, стоявший на углу улицы. Он демонстративно выдернул руку из-под Алицыного локтя, остановился и (в знак своего нового, еще более непримиримого протеста против ее равнодушного сердца) со строптивой нарочитостью перекрестился. Он даже не успел осознать, какое впечатление он произвел на Алицу, потому как в ту же минуту на другой стороне улицы увидел школьную сторожиху. Она смотрела на него. Он понял, что пропал.
5
Предчувствие не обмануло его; двумя днями позже школьная сторожиха остановила его на улице и громко сообщила, что завтра в двенадцать часов его вызывают в директорскую: – Нам надо поговорить с тобой, товарищ.
Эдуард не на шутку встревожился. Вечером он встретился с Алицей, чтобы по обыкновению побродить с ней часа два по улице, но ему уже было не до проявлений религиозной пылкости. Подавленный, он хотел было рассказать Алице о своем приключении, но в конце концов не осмелился, ибо знал, что ради постылой (однако необходимой) работы готов завтра утром без колебаний предать Господа Бога. А раз предпочел умолчать о злополучном вызове, то, естественно, не сподобился и Алицыного утешения. На следующий день он вошел в директорскую с ощущением полного одиночества.
В помещении его ждали четверо судей: директриса, школьная сторожиха, его коллега-учитель (очкастый коротышка) и неизвестный господин (седовласый), которого все величали товарищем инспектором. Директриса попросила Эдуарда сесть и сказала, что его пригласили на совершенно дружеский и неофициальный разговор, ибо все обеспокоены тем образом жизни, какой он ведет вне школы. При этих словах она посмотрела на инспектора, утвердительно кивнувшего, затем перевела взор на очкастого учителя, который все это время ловил ее взгляд и, как только поймал, сразу разразился речью: мы, говорил он, призваны воспитывать молодежь здоровой, лишенной всяких предрассудков, и несем за нее полную ответственность, ибо служим (мы, учителя) ей примером; и потому, дескать, мы не можем терпеть в наших стенах лицемеров; эту мысль он долго развивал и в конце концов объявил поведение Эдуарда позором для всей школы. Еще несколькими минутами раньше Эдуард был настроен скрыть своего недавно обретенного Бога и сказать, что посещал костел и прилюдно крестился всего лишь шутки ради. Однако сейчас лицом к лицу с реальной ситуацией он почувствовал, что не может это сделать, не может этим четверым, таким серьезным и заинтересованным людям, сказать, что их заинтересованность вызвана просто недоразумением, глупостью и тем самым невольно высмеять их серьезность; он понимал, что сейчас все ждут от него каких-то уверток, извинений и что они заранее готовы их опровергнуть; он смекнул (вмиг, долго размышлять было некогда), что самое важное для него сейчас – оставаться верным правде, а точнее, соответствовать тем представлениям, какие у них сложились о нем; и если нужно в определенной мере исправить эти представления, он должен – в определенной же мере – сделать встречный шаг. Поэтому он сказал:
– Товарищи, я могу быть с вами откровенным?
– Конечно, – сказала директриса. – Для этого вы здесь!
– А вы не рассердитесь?
– Говорите, пожалуйста, – сказала директриса.
– Хорошо, тогда я признаюсь вам, – сказал Эдуард. – Я действительно верю в Бога.
Он посмотрел на своих судей, и ему показалось, что все с облегчением вздохнули; лишь школьная сторожиха ополчилась на него: – В нынешнее-то время, товарищ? В нынешнее время?
Эдуард продолжал: – Я знал, что, если скажу правду, вы рассердитесь. Но я не умею лгать. Не вынуждайте меня обманывать вас.
Директриса сказала (мягко): – Никто не вынуждает вас лгать. Хорошо, что вы говорите правду. Однако скажите, прошу вас, как вы, молодой человек, можете верить в Бога?
– В наше время, когда мы летаем на Луну! – возмущенно воскликнул учитель.
– Я не виноват, – сказал Эдуард. – Я не хочу верить в Бога. Правда. Не хочу.
– Как это вы не хотите, если верите? – вмешался в разговор (чрезвычайно любезным тоном) седовласый господин.
– Не хочу, а верю, – тихо повторил Эдуард свое признание.
Учитель рассмеялся: – Но в этом есть противоречие!
– Товарищи, я говорю правду, – сказал Эдуард. – Я прекрасно понимаю, что вера в Бога уводит нас от реальности. Чего достиг бы социализм, если бы все верили, что мир в руках Божьих? Тогда никто ничего не делал бы и только уповал на Бога.
– Вот именно, – согласилась директриса.
– Еще никому не удалось доказать, что Бог существует, – изрек очкастый учитель.
Эдуард продолжал: – История человечества отличается от предыстории тем, что люди взяли свою судьбу в свои руки и не нуждаются в Боге.
– Вера в Бога ведет к фатализму, – сказала директриса.
– Вера в Бога – средневековый пережиток, – сказал Эдуард, а потом снова что-то сказала директриса, и что-то сказал учитель, и что-то Эдуард, и что-то инспектор, и все в полном единодушии дополняли друг друга, пока наконец очкастый учитель не взорвался и не оборвал Эдуарда:
– Тогда какого черта ты крестишься на улице, если все это знаешь?
Эдуард поглядел на него бесконечно грустным взглядом и сказал: – Потому что я верю в Бога.
– Но в этом есть противоречие! – радостно повторил учитель.
– Да, – признал Эдуард, – есть такое. Это противоречие между знанием и верой. Знание – одно, а вера – другое. Признаю, что вера в Бога ведет нас к мракобесию. Признаю, что было бы лучше, если бы Бога не было. Но что делать, если здесь, внутри, – он ткнул пальцем в сердце, – я чувствую, что Он есть. Говорю вам, товарищи, как на духу, мне лучше признаться вам в этом, чем чувствовать себя лицемером, я хочу, чтобы вы знали, какой я на самом деле. Договорив, он опустил голову.
Учитель был так же невелик умом, как и ростом; невдомек ему было, что даже самый крутой революционер считает насилие всего лишь неизбежным злом, тогда как сущее добро революции видит в перевоспитании. Обратившийся за одну ночь в убежденного революционера, учитель не пользовался особым расположением директрисы и никак не хотел понять, что Эдуард, являвший собой объект трудный, но поддающийся перевоспитанию, обладает сейчас во сто крат большей ценностью для своих судей, чем он. И, не осознавая этого, грубо обрушился на Эдуарда, заявив, что люди, не способные расстаться со средневековой верой, не более чем отрыжка средневековья, а таким не место в современной школе.
Директриса дала ему высказаться, а потом вынесла свой вердикт: – Я не люблю, когда рубят головы. Товарищ был откровенен и рассказал нам все, как оно есть. Мы должны ценить это. – Затем она обратилась к Эдуарду: – Товарищи, конечно, правы, утверждая, что лицемеры не могут воспитывать нашу молодежь. Что вы могли бы сами предложить?
– Я не знаю, товарищи, – удрученно сказал Эдуард.
– Я держусь такого мнения, – сказал инспектор. – Борьба между старым и новым происходит не только между классами, но и в каждом отдельном человеке. Подобная борьба происходит и в душе товарища. Разум подсказывает ему одно, а чувство тянет его назад. В этой борьбе мы должны помочь разуму товарища одержать победу.
Директриса утвердительно закачала головой. Потом сказала: – Я беру его под свою опеку.
6
Итак, самую непосредственную опасность Эдуард предотвратил; его существование как учителя оказалось исключительно в руках директрисы, что пришлось ему вполне кстати: вспомнив слова брата о том, что директриса всегда была падка на молодых мальчиков, он со всей своей еще не стойкой самоуверенностью (то подавляемой, то утрированной) решил выиграть борьбу как мужчина, добившись расположения своей повелительницы.
В один из ближайших дней он по договоренности с ней зашел в директорскую; стараясь перейти на легкий тон общения, он при любой возможности вставлял в разговор более интимные намеки, тонкую лесть или с деликатной двусмысленностью подчеркивал свое особое положение мужчины, оказавшегося в руках женщины. Однако ему не дозволено было определять тон разговора: директриса говорила с ним приветливо, но весьма сдержанно, интересовалась, что он читает, сама назвала несколько книг и посоветовала их прочесть, иными словами, явно хотела приступить к долговременной работе над его образом мыслей. Их короткая встреча закончилась тем, что она позвала его к себе в гости.
Сдержанность директрисы вновь притушила самоуверенность Эдуарда, и порог ее гарсоньерки он переступил уже покорно, без всякого расчета победить ее своим мужским очарованием. Усадив его в кресло и взяв весьма дружеский тон, она спросила, хочет ли он кофе? Он отказался. А чего-нибудь крепкого? В растерянности он проговорил: «Разве что коньяку», и тотчас испугался, не брякнул ли какой глупости. Но директриса ласково сказала: «Нет, коньяка нет, разве что немного вина», – и принесла полупустую бутылку, содержимого которой едва хватило на то, чтобы наполнить две рюмки.
Попросив Эдуарда не смотреть на нее как на какую-то инквизиторшу, она сказала, что каждый, разумеется, имеет полное право придерживаться в жизни того, что он считает правильным. Другое дело (присовокупила она тотчас), подобают ли те или иные взгляды учителю; поэтому, дескать, они должны были (пусть и без удовольствия) вызвать Эдуарда и побеседовать с ним, и надо сказать, что все (по крайней мере она и инспектор) остались довольны тем, как Эдуард открыто, ни от чего не отказываясь, говорил с ними. Они с инспектором потом еще долго обсуждали этот вопрос и решили, что через полгода вновь вызовут Эдуарда для беседы, а до той поры она своим влиянием должна помочь ему в его развитии. И она опять подчеркнула, что речь идет лишь о дружеской помощи и что она вовсе никакой не инквизитор и не полицейский. Вспомнив учителя, столь резко обрушившегося на Эдуарда, она сказала: – У него у самого рыльце в пушку, вот он и готов всех сжечь на костре. Школьная сторожиха тоже на всех перекрестках трубит, что вы, мол, дерзили и упрямились. Только и твердит, что вас надо выгнать из школы. Я, естественно, с ней не согласна, но и удивляться тут особенно нечему. Мне бы тоже не по нраву было, если бы моих детей учил тот, кто прилюдно крестится на улице.
Вот так, в едином потоке фраз директриса нарисовала перед Эдуардом как радужные перспективы своего милосердия, так и страшные последствия своей строгости; затем, дабы подчеркнуть взаправдашнюю дружественность их встречи, свернула разговор на другие темы: заговорила о книгах, подведя Эдуарда к книжной полке, стала восторгаться «Очарованной душой» Роллана и возмутилась, узнав, что он не читал ее. Потом спросила, как ему работается в школе, и после его банального ответа уже долго не закрывала рта: говорила о том, что она признательна судьбе за свою профессию, что работу в школе любит, ибо, воспитывая детей, живет в постоянном контакте с будущим; ведь только будущим и можно оправдать все те страдания, которым («да, приходится это признать») в мире несть числа. «Не будь я убеждена, что живу ради чего-то гораздо большего, чем моя собственная жизнь, я просто не могла бы жить».
Слова эти внезапно прозвучали очень искренно, но было неясно, хочет ли директриса исповедаться ими или начать запланированную идеологическую полемику о смысле жизни. Эдуард решил принять их как знак доверительности и потому спросил тихим, задушевным голосом:
– А ваша жизнь? Жизнь сама по себе?
– Моя жизнь? – повторила она вслед за ним.
– Да, жизнь сама по себе не удовлетворила бы вас?
На ее лице появилось горестное выражение, и Эдуарду стало почти жаль ее. Она была трогательно безобразна: черные волосы оттеняли продолговатое костистое лицо, черный пух под носом создавал впечатление усов. Он сразу представил всю печаль ее жизни; ее цыганские черты говорили о страстности натуры, а ее уродливость – о неосуществимости этой страстности; он представил себе, с какой исступленностью она обратилась в живую статую скорби, оплакивавшую смерть Сталина, с каким азартом заседала на бесчисленных собраниях, как страстно боролась против несчастного Младенца Иисуса, и понимал, что все это лишь печальные запасные русла ее желаний, которым не дано было течь туда, куда их влекло. Эдуард был молод, и его сочувствие еще не истощилось. Он смотрел на директрису с пониманием. Но она, словно бы устыдясь минутного невольного молчания, за говорила снова, окрасив голос бодрой интонацией:







