
Текст книги "Неведение"
Автор книги: Милан Кундера
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
12
Однажды в парижском аэропорту, пройдя полицейский контроль, она направилась в зал ожидания. На скамье напротив она увидала мужчину и, после двух-трех секунд неуверенности и удивления, узнала его. Взволнованная, дождалась момента, когда их взгляды встретились, и улыбнулась. Он тоже улыбнулся и слегка кивнул. Она встала и пошла к нему, встал и он.
– Мы познакомились в Праге, не так ли? – сказала она по-чешски. – Ты еще помнишь меня?
– Конечно.
– Я тебя сразу узнала. Ты ничуть не изменился.
– Преувеличиваешь.
– Нет, нет. Ты все такой же, как раньше. Бог мой, все это так далеко. – Потом, смеясь: – Я тебе очень благодарна, что ты узнал меня! – И потом: – Ты все это время оставался в стране?
– Нет.
– Эмигрировал?
– Да.
– И где же ты жил? Во Франции?
– Нет.
Она вздохнула: – О, если бы ты жил во Франции и мы бы встретились только сегодня...
– Я еду через Париж по чистой случайности. Живу в Дании. А ты?
– Здесь, в Париже. Бог мой. Даже глазам не могу поверить. Как ты жил все эти годы? Тебе удалось работать по специальности?
– Да. А тебе?
– Я перепробовала не менее семи.
– Я не спрашиваю, сколько у тебя было мужчин.
– И не спрашивай. Что до меня, обещаю тоже не задавать тебе подобного рода вопросов.
– А сейчас? Ты вернулась?
– Не совсем. У меня все еще квартира в Париже. А ты?
– И я не вернулся.
– Но ты часто ездишь туда.
– Вовсе нет. Это впервые, – сказал он.
– Спустя столько времени! Не очень-то ты торопился!
– Нет.
– В Чехии у тебя никаких обязательств?
– Я человек абсолютно свободный.
Он произнес это медленно, с определенной долей меланхолии, не ускользнувшей от нее.
В самолете ее место было впереди у прохода, и она не раз поворачивала голову, чтобы взглянуть на него. Она не забыла их давней встречи. Произошло это в Праге, она с несколькими друзьями была в каком-то баре, а он, друг ее друзей, не спускал с нее глаз. История их любви оборвалась прежде, чем началась. Она сожалела об этом, рана так и не затянулась.
Он дважды подходил к ней и, опершись о кресло, продолжал разговор. Она узнала, что в Чехии он проведет три или четыре дня, причем в провинциальном городке, чтобы повидать родных. Она погрустнела. Неужто ни одного дня он не пробудет в Праге? Отчего же, возможно, один или два дня перед возвращением в Данию. Можно ли будет увидеться с ним? Так приятно будет вновь встретиться! Он назвал ей гостиницу в провинции, где остановится.
13
Он тоже обрадовался этой встрече; она была дружелюбна, кокетлива, мила, в свои сорок красива, но он и понятия не имел, кто она. Неловко кому-то говорить, что не помнишь его, а на сей раз это было неловко вдвойне, ибо, быть может, он вовсе не забыл ее, а просто не узнавал. А признаться в этом женщине было бы неучтивостью, ему не свойственной. К тому же он очень быстро понял, что незнакомка не собирается выяснять, помнит ли он ее или нет, и что нет ничего проще, чем болтать с нею. Но когда они договорились встретиться и она захотела дать ему номер своего телефона, он смутился: как звонить тому, чьего имени он не знает? Ничего не объясняя, он сказал, что предпочел бы, чтобы она сама позвонила ему, и попросил записать телефон его гостиницы в провинции.
В пражском аэропорту они расстались. Взяв напрокат машину, он поехал по автостраде, затем по окружному шоссе. Прибыв в город, стал искать кладбище. Тщетно. Он очутился в новом квартале однотипных многоэтажек, это сбило его с толку. Приметив мальчика лет десяти, остановил машину и спросил, как доехать до кладбища. Мальчик, посмотрев на него, промолчал. Думая, что он не понимает его, Йозеф повторил вопрос медленнее, громче, точно иностранец, старающийся отчетливо выговаривать слова. Наконец мальчик ответил, что не знает. Но как, черт подери, можно не знать, где находится кладбище, единственное в городе? Он покатил дальше, спросил еще нескольких прохожих, но их объяснения показались ему маловразумительными. В конце концов кладбище он нашел: зажатое позади недавно построенного виадука, оно выглядело неброско и гораздо меньше прежнего.
Он припарковал машину и по липовой аллее направился к могиле. Это здесь три десятилетия тому он увидел, как опускали в могилу гроб с телом матери. До отъезда заграницу он бывал здесь часто, всякий раз, когда оказывался в родном городе. Уже месяц назад, готовясь к поездке в Чехию, он знал, что первым делом придет сюда. Он оглядел стелу; мрамор был испещрен множеством имен: по всей видимости, за эти годы могила превратилась в огромный дортуар. Аллею от стелы отделял тщательно ухоженный газон с цветочным бордюром; он пытался представить гробы под землей: они, должно быть, расположены один возле другого, по три в ряд, слоями в несколько этажей.
Мама была в самом низу. А где же отец? Скончавшись пятнадцатью годами позже, он был разлучен с нею по меньшей мере целым этажом гробов.
Он вновь представил похороны матери. К тому времени внизу лежали только двое: родители его отца. Тогда показалось ему вполне естественным, что его мать опускается к свекрови и свекру, и он даже не задавался вопросом, не предпочла бы она скорее воссоединиться с собственными родителями. И только много позже он понял: группировка в семейных усыпальницах предрешена задолго до похорон соотношением сил; семья отца была влиятельнее материнской.
Количество новых имен на стеле встревожило его. Несколько лет спустя после отъезда он узнал о смерти дяди, потом тети и, наконец, отца. Он стал внимательно читать имена; иные принадлежали людям, которых он числил в живых; его словно оглушило. Не их смерть потрясла его (кто решил навсегда покинуть родину, должен смириться с тем, что никогда не увидит семьи), а то, что его не оповестили об этом. Коммунистическая полиция перлюстрировала письма, адресованные эмигрантам; опасались ли писать ему? Он проверил даты: два последних захоронения были произведены после 1989 года. Выходит, не из предосторожности ему не писали. Истина была пострашней: для них он больше не существовал.
14
Гостиница строилась в последние годы коммунизма: гладкое современное здание на главной площади, какие тогда сооружали по всему миру, очень высокое, оно несколькими этажами возносилось над городскими крышами. Устроившись в номере на шестом этаже, он подошел к окну. Было семь часов вечера, опускались сумерки, зажигались уличные фонари, и площадь была неправдоподобно спокойна.
Перед тем как покинуть Данию, он представлял себе встречу со знакомыми местами, со своей прошлой жизнью и задавался вопросом: будет ли он взволнован? холоден? обрадован? подавлен?
Ничего подобного. За годы его отсутствия незримая метла прошлась по всем пейзажам его молодости и стерла все, что было ему знакомо; встреча, которой он ожидал, не состоялась.
Много лет назад Ирена посетила провинциальный французский городок в поисках минуты отдыха для мужа, уже очень больного. Было воскресенье, городок спокойный, остановившись на мосту, они глядели на водный поток, безмятежно протекавший меж зеленоватых берегов. Окруженная садом, старая вилла у речной излучины предстала перед ними как образ уютного жилища, как мечта об утраченной идиллии. Покоренные этой красотой, они, решив прогуляться, по лестнице спустились на берег. Сделав несколько шагов, поняли, что воскресный покой попросту одурачил их; дорога была перегорожена; они наткнулись на заброшенную строительную площадку: машины, тракторы, горы земли и песка; на противоположном берегу срубленные деревья; а вилла, чья красота, увиденная сверху, привлекла их, открывала взору разбитые окна и огромную дыру на месте двери; позади виллы высилось строение этажей в десять; тем не менее восхитившая их красота городского пейзажа не была оптическим обманом; растоптанная, униженная, осмеянная, она проглядывала сквозь собственные руины. Взгляд Ирены снова обратился к противоположному берегу, и она заметила, что большие срубленные деревья расцвели. Срубленные, поваленные, они жили! Неожиданно в эту минуту громкоговоритель исторг оглушительную музыку. Словно от удара дубинкой, Ирена зажала руками уши и зарыдала. Она оплакивала этот мир, что угасал на ее глазах. Муж, которому оставалось жить лишь несколько месяцев, взял ее за руку и увел.
Гигантская незримая метла, изменяющая, искажающая, стирающая пейзажи мира, трудится уже не одно тысячелетие, но ее движения, некогда неспешные, едва уловимые, ускорились настолько, что я спрашиваю себя: мыслима ли нынче «Одиссея»? Уместна ли еще в нашу эпоху эпопея возвращения? Проснувшись поутру на побережье Итаки, смог ли бы Одиссей в экстазе услышать музыку Великого Возвращения, если бы старое оливковое дерево было срублено и ничего окрест он не мог узнать?
Неподалеку от гостиницы высилось здание, на его голой глухой стене виднелся гигантский рисунок. В сумерках надпись была неразборчивой, и Йозеф различил лишь две руки, сжимающие одна другую, огромные руки меж небом и землей. Всегда ли они были здесь? Припомнить он не мог.
Ужинал он один в гостиничном ресторане, вслушиваясь в шум разговоров вокруг. То была музыка незнакомого языка. Что произошло с чешской речью за эти два злосчастных десятилетия? Изменилось ли ударение? Похоже. Когда-то отчетливо стоявшее на первом слоге, оно теперь звучало слабее; интонацию словно лишили костяка. Мелодика казалась монотоннее прежней, протяжнее! А тембр! Обретя носовой призвук, он придавал речи характер неприятной скучливости. По всей вероятности, музыка всех языков на протяжении веков неприметно изменяется, но тот, кто возвращается после долгого отсутствия, приходит в замешательство: склонившись над своей тарелкой, Йозеф вслушивался в звуки незнакомого языка, каждое слово которого было ему понятно.
Позднее в своем номере он поднял телефонную трубку и набрал номер брата. Он услышал радостный голос, приглашавший его незамедлительно приехать.
– Я просто хотел сообщить тебе о своем приезде, – сказал Йозеф. – Сегодня не смогу, прости. Не хочу предстать перед вами в таком виде после стольких лет. Я совсем выдохся. Ты завтра свободен?
Он совсем не был уверен, что брат все еще работает в больнице.
– Я освобожусь, – прозвучал ответ.
15
Он звонит, брат, пятью годами старше его, открывает дверь. Обменявшись рукопожатиями, они разглядывают друг друга. Взгляды чрезвычайно пристальны, каждый знает, о чем идет речь: брат у брата быстро, неприметно оценивает волосы, морщины, зубы; каждый знает, что он ищет на лице стоящего напротив, и каждый знает, что другой на его лице ищет то же самое. Им обоим стыдно, ибо то, что они ищут, это вероятная дистанция, отделяющая другого от смерти, или, выражаясь грубее, каждый из них ищет в другом следы сквозящей смерти. Они стремятся как можно быстрее закончить этот болезненный осмотр и спешат найти фразу, что помогла бы им забыть эти зловещие мгновения, замечание, вопрос или, если возможно (а это было бы даром небес), шутку (но ничего спасительного не приходит им в голову).
– Пошли,– говорит наконец брат и, обняв Йозефа за плечи, ведет в гостиную.
16
– Тебя ждут с тех пор, как все рухнуло, – сказал брат, когда оба уселись. – Все эмигранты уже вернулись или, во всяком случае, объявились здесь. Нет, нет, это не упрек. Ты сам знаешь, как тебе поступать.
– Ошибаешься, – рассмеялся Йозеф,– этого я не знаю.
– Ты приехал один? – спросил брат.
– Да.
– Собираешься прочно обосноваться?
– Не знаю.
– Ну, разумеется, ты должен считаться с мнением жены. Насколько мне известно, ты там женился.
– Да.
– На датчанке, – неуверенно сказал брат.
– Да, – сказал Йозеф и замолчал.
Это молчание смутило брата, и Йозеф, дабы что-нибудь сказать, спросил: – Дом теперь твой?
Когда-то квартира была частью доходного четырехэтажного дома, принадлежавшего их отцу; на третьем этаже проживала семья (отец, мать, двое сыновей), остальные этажи сдавались внаем. После коммунистической революции 1948 года дом был экспроприирован, и семья осталась в нем на правах съемщиков.
– Да, – ответил брат, явно смущенный. – Мы пытались связаться с тобой, но тщетно.
– Как так? Ты же знал мой адрес!
После 1989 года вся недвижимость, национализированная революцией (заводы, гостиницы, доходные дома, поля, леса), была возвращена прежним владельцам (точнее, их детям и внукам); эта процедура была названа «реституцией»: достаточно было кому-то заявить в судебное ведомство о своей собственности, как по прошествии года, отведенного для опровержения этого притязания, реституция становилась необратимой. Это юридическое упрощение сделало возможным немалое количество мошенничеств, зато помогло избежать наследственных тяжб, обжалований, апелляций и таким образом в удивительно короткий срок возродило классовое общество с богатой, предприимчивой буржуазией, способной вдохнуть жизнь в экономику страны.
– Всем этим занимался адвокат,– ответил брат, смущенный по-прежнему. – Теперь уже поздно. Процедура завершена. Но будь спокоен, мы и без адвокатов поладим.
Тут вошла невестка. Но на сей раз схватка взглядов не состоялась: она настолько постарела, что все стало ясно, как только она появилась в дверях.
У Йозефа возникло желание опустить глаза и рассмотреть ее лишь позже, тайком, не приводя в смущение. Охваченный жалостью, он встал, подошел к ней и обнял.
Все сели. Не в силах справиться с волнением, Йозеф посмотрел на нее; если бы он встретил ее на улице, то не узнал бы. Это самые близкие мне люди, думал он, это моя семья, единственная, что есть у меня, мой единственный брат. Он повторял про себя эти слова, будто хотел продлить свое волнение, не дать ему до времени улечься.
Эта волна умиления побудила его сказать: – Выкинь из головы всю эту историю с домом. Послушай, будем и вправду прагматиками, владеть здесь чем бы то ни было не входит в мои интересы. Мои интересы не здесь.
Брат, воспрянув духом, подтвердил: – Нет, нет, я во всем люблю справедливость. Кстати, и твоя жена должна высказаться по этому поводу.
– Поговорим о другом, – сказал Йозеф и, опустив руку на руку брата, сжал ее.
17
Они повели его по квартире показать происшедшие после его отъезда перемены. В одной из комнат он увидел принадлежавшую ему картину. Приняв решение покинуть страну, он должен был действовать быстро. Тогда он жил в другом городе и, вынужденный скрывать свое намерение эмигрировать, не мог выдать себя, распределяя среди друзей свои вещи. Накануне отъезда он положил ключи в конверт и отослал брату. Затем из-за границы позвонил ему и попросил взять из квартиры все, что ему приглянется, прежде чем государство это конфискует. Позднее, обосновавшись в Дании, счастливый тем, что начинает новую жизнь, он не испытывал ни малейшего желания узнать, что брат сумел спасти и как этим распорядился.
Он долго всматривался в картину: бедная рабочая окраина, изображенная с той дерзкой цветовой фантазией, что напоминала фовистов начала века, Дерена, например. При всем том картина была далека от подражания; если бы ее выставили в 1905 году на парижском Осеннем салоне наряду с другими полотнами фовистов, все были бы поражены ее своеобычием, заинтригованы загадочным ароматом пришелицы из неведомого далека. На самом деле картина была написана в 1955 году, в период, когда доктрина социалистического искусства неукоснительно требовала реализма: автор, истовый модернист, предпочитал писать так, как писали тогда во всем мире, то есть в абстрактной манере, но в то же время хотел выставляться; поэтому он должен был найти ту чудотворную точку, в которой императивы идеологов пересекались с его творческими пристрастиями; хибары, вызывавшие в памяти сцены из жизни рабочих, были данью идеологам, краски, истово нереалистические,– подарком самому себе.
Йозеф посетил мастерскую художника в шестидесятые годы, когда официальная доктрина уже утрачивала силу и художник обрел свободу делать почти все, что хотел. Наивно искренний, Йозеф предпочел новым работам это старое полотно; и живописец, питавший к своему пролетарскому фовизму симпатию, смешанную со снисхождением, подарил ему полотно без всякого сожаления; он даже взял кисть и рядом с подписью начертал ему, Йозефу, посвящение.
– Ты хорошо знал этого живописца, – заметил брат.
– Да. Я спас его пуделя.
– Ты заедешь повидать его?
– Нет.
Вскоре после 1989 года Йозеф в Дании получил пачку фотографий новых картин художника, написанных в условиях уже полной свободы: они были неотличимы от миллионов других картин, создаваемых по всей планете; художник мог поздравить себя с двойной победой: он был абсолютно свободен и абсолютно похож на всех прочих.
– Тебе по-прежнему нравится эта картина? – спросил брат.
– Да. Она по-прежнему очень красива.
Брат кивком указал на жену: – Кати очень любит ее. Что ни день она останавливается перед ней. – Потом добавил: – Тотчас после отъезда ты попросил меня отдать картину отцу. Он повесил ее над столом своего кабинета в больнице. Он знал, как она нравилась Кати, и перед смертью завещал ее ей.– И после недолгой паузы: – Ты даже не представляешь себе. Мы пережили ужасные годы.
Глядя на невестку, Йозеф вспомнил, что никогда не любил ее. Его давняя антипатия (она щедро воздавала ему тем же) теперь казалась ему глупой и досадной. Невестка стояла, неотрывно глядя на картину, лицо ее выражало горестное бессилие, и Йозеф сочувственно сказал брату: – Я знаю.
Брат принялся описывать историю семьи, долгую агонию отца, болезнь Кати, неудачное замужество дочери, потом козни против него в больнице, где его положение было сильно подорвано эмиграцией Йозефа.
Последнее замечание было произнесено без укоризны, но Йозеф не сомневался, что брат и невестка с неприязнью говорили о нем, возмущенные тем малым числом доводов, какими Йозеф мог бы оправдать свою эмиграцию, на их взгляд, конечно, безответственную: родственникам эмигрантов режим не сулил легкой жизни.
18
В столовой было накрыто к обеду. Разговор оживился, брат и невестка хотели рассказать ему обо всем, что произошло за годы его отсутствия. Десятилетия витали над тарелками, и вдруг невестка обрушилась на него: – Да и ты одно время был фанатиком. Как ты говорил о Церкви! Мы все боялись тебя.
Замечание удивило его. «Боялись меня?» Невестка настаивала на своем. Он посмотрел на нее: на ее лице, еще несколько мгновений назад казавшемся неузнаваемым, проступали прежние черты.
Сказать, что они боялись его, было и впрямь нелепостью, воспоминания невестки могли касаться только его гимназических лет, когда ему было от шестнадцати до девятнадцати. Вполне возможно, что он тогда высмеивал верующих, но эти слова не имели ничего общего с воинствующим атеизмом режима и относились исключительно к родным Йозефа, не пропускавшим ни одной воскресной мессы и тем самым толкавшим его на всяческие провокации. Аттестат зрелости он получил в 1951-м, три года спустя после революции, и, движимый все той же тягой к провокациям, решил изучать ветеринарию: лечить больных, служить человечеству было предметом гордости семьи (врачом был еще его дед), и ему хотелось объявить всем, что людям он предпочитает коров. Но никто не восхитился и не возмутился его бунтарством; ветеринария в социальном плане считалась менее престижной, и его выбор был истолкован как отсутствие честолюбия, как его согласие занять в семье второе место после брата.
Сейчас он сбивчиво пытался объяснить (им и себе) свою юношескую психологию, но его слова с трудом слетали с уст, ибо обращенная к нему застывшая усмешка невестки выражала неизменное неприятие всего того, что он говорил. Он понял, что ничего поделать не может; что это почти закон: те, кому своя жизнь представляется крушением, начинают охоту на виновных. А Йозеф был виновен вдвойне: как юноша, дурно говоривший о Боге, и как взрослый, уехавший в эмиграцию. Он утратил желание объяснять что бы то ни было, и его брат, тонкий дипломат, свернул разговор на другую тему.
Его брат: студентом второго курса медицинского факультета он в 1948 году был исключен из университета по причине буржуазного происхождения; чтобы сохранить надежду вернуться позднее к занятиям и стать, как отец, хирургом, он всячески демонстрировал свое сочувствие коммунизму и в конце концов, истерзав душу, вступил в партию и состоял в ней вплоть до 1989 года. Пути двух братьев разошлись: поначалу отстраненный от занятий, затем вынужденный отречься от своих убеждений, старший испытывал чувство (и всегда будет его испытывать), что он жертва; в ветеринарной школе, менее востребованной, менее подконтрольной, младший не обязан был изображать свою преданность режиму: в глазах брата он выглядел (и всегда будет выглядеть) счастливчиком, способным выкрутиться из любой ситуации; дезертиром.
В августе 1968 года русская армия захватила страну; целую неделю улицы всех городов вопили от негодования. Никогда страна не была до такой степени отечеством, чехи – до такой степени чехами. Опьяненный ненавистью, Йозеф был готов броситься на танки. Затем руководители государства были арестованы, под конвоем препровождены в Москву и принуждены заключить наскоро состряпанный компромисс, и чехи, по-прежнему негодуя, разошлись по домам. Каких-нибудь четырнадцать месяцев спустя, в пятьдесят вторую годовщину русской Октябрьской революции, навязанной Чехии в качестве праздника, Йозеф сел в машину и, выехав из города, где помещался его кабинет, отправился навестить семью в другой конец страны. Прибыв туда, он сбросил газ; было любопытно, сколько окон будет увешано красными флагами, бывшими в тот год разгрома не более чем знаком повиновения. Флагов оказалось больше, чем он ожидал: возможно, те, кто вывесил их, поступали вопреки своим убеждениям, из осторожности, охваченные смутным чувством страха, однако действовали они по собственной воле, ибо никто не принуждал их, никто не угрожал им. Он остановился перед родным домом. На третьем этаже, где жил его брат, сиял огромный, ужасающе красный флаг. Не выходя из машины, он долгую минуту рассматривал этот флаг; потом тронулся с места. На возвратном пути он решил покинуть страну. Не потому, что не мог жить здесь. Коров и здесь он мог бы преспокойно лечить. Но он был один, разведен, без детей, свободен. Он подумал, что у него всего лишь одна жизнь и что он хочет прожить ее в другом месте.






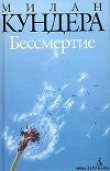

![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)