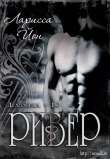Текст книги "Мертвые львы"
Автор книги: Мик Геррон
Жанр:
Зарубежные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Часть первая
Черные лебеди
2
Теперь, когда на Олдерсгейт-стрит, в лондонском боро Финсбери, завершились дорожные работы, здесь стало гораздо спокойнее; пикник тут по-прежнему не устроишь, но улица больше не напоминает место недавнего ДТП. Пульс всего района нормализовался, и, хотя уровень шума все еще зашкаливает, в нем больше не слышно мерного стука отбойных молотков, зато иногда звучат обрывки уличных мелодий: поют автомобили, свистят такси, а местные жители с удивлением взирают на безостановочно текущий поток машин. Было время, когда предусмотрительные люди брали с собой обед, отправляясь на автобусе за несколько кварталов, в дальний конец улицы, а сейчас приходилось ждать по полчаса, чтобы эту самую улицу перейти.
Наверное, это типичный пример того, как городские джунгли берут свое, а если хорошенько приглядеться, в любых джунглях отыщутся звери. Однажды здесь видели лису, средь бела дня трусившую из Уайт-Лайон-Корта к жилкомплексу «Барбикан», где среди замысловатых клумб и причудливых фонтанов можно отыскать и птиц, и крыс. Там, где над водой нависают ветви деревьев и кустов, прячутся лягушки. В сумерках появляются летучие мыши. Поэтому никого не удивит, если вдруг с одной из башен «Барбикана» спрыгнет кошка, замрет на брусчатке прямо перед нами и посмотрит сразу во все стороны, не поворачивая головы, как умеют только кошки. Сиамка. Светлая, короткошерстая, узкоглазая, стройная и гибкая, способная, как все кошки, протискиваться в любую щелку, будь то чуть приотворенная дверь или почти закрытое окно. Замирает она лишь на миг. И тут же убегает.
Эта кошка неуемна, как слухи или сплетни; она пересекает пешеходный виадук, спускается по лестнице к станции метро и выбирается на тротуар. Любой другой кот помедлил бы, переходя дорогу, но наша кошка, полагаясь исключительно на свои чутье, слух и скорость, оказывается на противоположной стороне прежде, чем водитель фургона успевает нажать на тормоза. А кошка исчезает. Вроде бы. Водитель сердито зыркает в окно, но видит только черную дверь в грязной нише между газетной лавочкой и китайским ресторанчиком; облезлая древняя краска основательно заляпана дорожной грязью, на ступеньке стоит пожелтевшая от времени молочная бутылка. Кошки и след простыл.
Разумеется, она просквозила на задний двор. В Слау-башню не попадают с парадного входа; вместо этого ее узники сворачивают в темный проулок, после чего оказываются в замызганном дворике с плесневелыми, осклизшими стенами, перед дверью, которая по утрам обычно требует доброго пинка, потому что покоробилась от сырости, холода или внезапной жары. Но ловким лапкам нашей кошки не требуется никаких дополнительных усилий; она в мгновение ока проскальзывает в дверь и поднимается по крутому лестничному пролету к паре кабинетов.
Здесь, на втором этаже – первый этаж занимают соседи: китайский ресторанчик «Новая империя» и газетная лавочка, ежегодно меняющая название, – трудится Родерик Хо в своем кабинете, превращенном в джунгли электромонтажные; по углам угнездились сломанные клавиатуры, петли ярких проводов свисают, как кишки, выпущенные из мониторов со снятыми задними панелями. Серые стеллажи завалены руководствами по программному обеспечению, мотками кабеля и обувными коробками, полными металлических деталей странной формы, а рядом с рабочим столом Хо раскачивается картонная башня из любимого строительного материала нердов: коробок из-под пиццы. В общем, много всего.
Но когда наша кошка просовывает голову в дверь, то видит только Хо. Кабинет целиком и полностью в его единоличном распоряжении, и Хо это нравится, потому что он питает неприязнь к другим людям, однако ему никогда не приходит в голову, что другие люди могут питать неприязнь к нему. Луиза Гай не раз высказывала предположение, что у Хо ярко выраженное расстройство аутического спектра, на что Мин Харпер привычно отвечал, что в дополнение к этому у Хо еще и мудозвонство зашкаливает. Заметь Хо присутствие нашей кошки, то немедленно швырнул бы в нее банкой из-под колы и очень расстроился бы, что не попал. Однако Родерику Хо в голову не приходит еще и то, что ему гораздо лучше удается попадать в неподвижные мишени. Он почти всегда метко зашвыривает пустые банки в мусорную корзину, что стоит в противоположном углу кабинета, но редко когда видит дальше своего носа.
Итак, наша кошка, целая и невредимая, удаляется инспектировать соседний кабинет. В нем два новичка, недавно сосланные в Слау-башню: один белый, один черный, один женского пола, другой – мужского; они здесь так недавно, что их имен пока не знают; оба удивлены незваной гостьей. Кошка здесь завсегдатай? Еще один, так сказать, хромой конь? Тоже из слабаков? Или это проверка? Они обеспокоенно переглядываются, объединенные недолгим смятением, но наша кошка выскальзывает в коридор и взбирается на следующую лестничную площадку, к очередным двум кабинетам.
В первом сидят Мин Харпер и Луиза Гай, и если бы Мин Харпер и Луиза Гай были повнимательнее и заметили кошку, то смутили бы ее донельзя. Луиза опустилась бы на колени, подхватила кошку на руки и прижала ее к своей впечатляющей груди – тут мы забредаем в сферу интересов Мина: грудь, которую не назовешь ни слишком маленькой, ни слишком большой, грудь в самый раз; а сам Мин, если бы он на миг отвлекся от Луизиных сисек, по-мужски сгреб бы кошку за шкирку, а кошка склонила бы голову, чтобы обменяться с ним понимающим взглядом, оценивая кошачьи качества друг друга – не пушистость и мягкость, а ночную грацию, умение ходить в темноте и хищные повадки, таящиеся в дневной кошачьей жизни.
И Мин, и Луиза пожалели бы, что нет молока, но ни один бы за ним не отправился, – они просто дали бы понять, что им не чужды такие понятия, как «доброта» и «молоко». Так что перед уходом из их кабинета наша кошка пометила бы коврик у порога, и совершенно заслуженно.
И прошествовала бы в кабинет Ривера Картрайта. Хотя она пробралась бы туда так же неприметно, как и во все остальные помещения, ее бы это не спасло. Ривер Картрайт, русоволосый парень с бледной кожей и маленькой родинкой над верхней губой, немедленно оторвался бы от своего занятия – изучения документов, разглядывания компьютерного экрана или еще чего-то подобного, что не требует активных действий и, возможно, объясняет дух раздраженности, отравляющий здешнюю атмосферу, – и смотрел бы кошке прямо в глаза до тех пор, пока она не отвела бы взгляд, смущенная таким пристальным вниманием. Картрайту не пришла бы в голову мысль о молоке; вместо этого он занялся бы анализированием возможных кошачьих действий и размышлениями о том, мимо скольких дверей она проскользнула, прежде чем добралась до него, равно как и о том, что вообще привело ее в Слау-башню и какие ею движут мотивы. Но пока бы он обо всем этом размышлял, наша кошка так же неприметно удалилась бы и отправилась к последнему лестничному маршу, в поисках менее взыскательного приема.
Памятуя об этом, она обнаружила бы первый из двух оставшихся кабинетов – более гостеприимное место, куда можно войти, потому что здесь трудится Кэтрин Стэндиш, а Кэтрин Стэндиш знает, как обращаться с кошками. Кэтрин Стэндиш игнорирует кошек. Кошки – либо прихлебатели, либо заместители, а Кэтрин Стэндиш не терпит ни тех ни других. Обзавестись кошкой означает первый шаг к обзаведению двумя кошками, а для одинокой женщины, которой до пятидесяти рукой подать, владение двумя кошками равнозначно объявлению о том, что жизнь кончена. В жизни Кэтрин Стэндиш было достаточно жутких моментов, но она их все пережила, каждый по отдельности, и не собиралась сдаваться. Так что наша кошка может расположиться здесь поудобнее, но как бы она ни выказывала свою нежную привязанность, как бы ни вилась гибкой тенью у ног Кэтрин, угощения ей не дождаться: ни сардинок, заботливо промокнутых бумажной салфеткой, ни сметаны или сливок на блюдечке. А поскольку ни один уважающий себя кот не может существовать без поклонения и обожания, наша кошка с достоинством покинет кабинет и направится к соседней двери…
…к логову Джексона Лэма, с наклонным потолком и с окном за опущенной шторкой, где единственный свет исходит от настольной лампы, водруженной на стопку телефонных справочников. В спертом воздухе зависла обонятельная мечта любой собаки: еда навынос, запрещенное в помещении курево, выпущенные из кишечника газы и выдохшееся пиво, но разбираться во всем этом нет времени, потому что Джексон Лэм, несмотря на свои внушительные размеры, двигается с удивительной быстротой, точнее – может, если ему того захочется. В один миг он схватил бы нашу кошку за горло, поднял шторку, распахнул окно и вышвырнул бедняжку на дорогу, где она, кошка, несомненно приземлилась бы на все четыре лапы, как подтверждают и наука, и слухи, и равным же образом несомненно оказалась бы перед движущимся транспортным средством, поскольку об уличном движении на Олдерсгейт-стрит уже упоминалось ранее. Глухой удар и протяжный скрежет тормозов, возможно, донеслись бы до верхних этажей, но к тому времени Лэм уже закрыл бы окно и сидел бы на своем стуле, плотно смежив веки и переплетя на пузе пальцы-сосиски.
Но к счастью для нашей кошки, она воображаемая, иначе жестокий конец был бы неминуем. И опять-таки к счастью, в то самое утро происходит невозможное, и Джексон Лэм не дремлет за своим столом, не шастает по кухне, тыря съестное у подчиненных, и не снует вверх-вниз по лестнице со свойственной ему способностью двигаться бесшумно, как призрак, которой он пользуется по желанию. Лэм не стучит в пол, то есть в потолок кабинета Ривера Картрайта, исключительно для того, чтобы замерить, сколько времени понадобится Картрайту для появления перед начальником, и не игнорирует Кэтрин Стэндиш, когда она приносит очередной затребованный им отчет, до такой степени бесполезный и никому не нужный, что сам Лэм о нем забыл. Иными словами, его здесь нет.
И никто в Слау-башне не знал, где он.
А Джексон Лэм был в Оксфорде, где ему пришла в голову совершенно новая идея, которую надо бы донести до пиджачников в Риджентс-Парке. Новая идея Лэма заключалась в следующем: вместо того чтобы посылать новичков в укромные уголки на границе с Уэльсом, где за немалые бюджетные деньги обучают противостоять допросу с пристрастием, их следует отправлять на железнодорожную станцию в Оксфорде для непосредственного знакомства с поведением тамошнего персонала. Потому что подготовка, которую проходят все до единого работники станции, начисто отбивает у них желание разглашать какую-либо информацию.
– Вы здесь работаете?
– Сэр?
– Вечером прошлого вторника была ваша смена?
– Номер горячей линии указан на всех наших объявлениях, сэр. Если у вас есть претензии…
– У меня нет претензий, – сказал Лэм. – Я просто хочу знать, были ли вы на службе в прошлый вторник, вечером.
– А зачем вы это хотите знать, сэр?
Лэм уже трижды натыкался на стену молчания. Четвертым опрашиваемым был коротышка с зачесанными назад волосами и седыми усами, которые иногда сами собой подергивались. Он напоминал хорька в мундире. Лэм с удовольствием сейчас схватил бы его за задние лапы и щелкнул им, как кнутом, но поблизости ошивался полицейский.
– Предположим, что это важно.
Разумеется, у Лэма было служебное удостоверение, выданное на агентурный псевдоним, но совсем не обязательно быть рыбаком, чтобы знать, что лучше не швырять камни в тот пруд, куда собираешься закидывать удочку. Если бы кто-нибудь позвонил по номеру, указанному в удостоверении, то звонок сразу же аукнулся бы в Риджентс-Парке. А Лэм не хотел, чтобы пиджачники начали спрашивать, чем таким ему вздумалось заняться, потому что и сам не был уверен, чем ему вздумалось заняться, а уж этой информацией он и подавно не собирался делиться.
– Очень важно, – добавил он, постукивая по лацкану.
Из внутреннего кармашка торчал хорошо заметный краешек бумажника, из которого высовывалась хорошо заметная купюра номиналом в двадцать фунтов.
– А!
– Полагаю, это означает «да».
– Вы же понимаете, сэр, нам приходится держаться настороже. В смысле, в отношении расспросов на крупных транспортных узлах.
Что ж, примем к сведению, подумал Лэм, что на данном транспортном узле террористы столкнутся с самым яростным отпором. До тех пор, пока не помашут банкнотами.
– В прошлый вторник, – сказал он, – сообщение на линии по какой-то причине было нарушено.
Станционный служащий тут же замотал головой:
– Только не у нас, сэр. У нас все было в порядке.
– Все было в порядке, только поезда не ходили.
– Здесь ходили. Задержка произошла в другом месте.
– Понятно. – Лэм уже очень давно не поддерживал такой продолжительной беседы, обходясь без бранных слов. Его подчиненные, слабаки, наверняка поразились бы, за исключением новичков, которые заподозрили бы какой-то подвох. – Вне зависимости от того, в чем заключалась причина задержки, пассажиров доставили сюда автобусами, из Рединга. Потому что поезда не ходили.
Хорек напряженно сдвинул брови и, углядев лазейку, которая может положить конец этим расспросам, немного ускорился с ответами.
– Совершенно верно, сэр. Доставили автобусами.
– А откуда пришли автобусы?
– В данном конкретном случае, сэр, по-моему, они пришли из Рединга.
Ну естественно. Джексон Лэм вздохнул и полез за сигаретами.
– Здесь курить запрещено, сэр.
Лэм заложил сигарету за ухо.
– Когда следующий поезд на Рединг?
– Через пять минут, сэр.
Лэм прокряхтел что-то вроде благодарности и повернул к турникетам.
– Сэр?
Лэм оглянулся.
Не сводя глаз с Лэмова лацкана, хорек потер большим и указательным пальцем, имитируя шелест.
– Что?
– Я думал, вы хотите…
– Дать вам кое-что?
– Да.
– Что ж, даю вам хороший совет. – Лэм коснулся указательным пальцем носа. – Если у вас есть претензия, номер горячей линии указан на всех объявлениях.
Потом он вышел на платформу и стал ждать поезда.
Тем временем на Олдерсгейт-стрит два новых слабака в кабинете на втором этаже оценивали друг друга. Оба прибыли прошлым месяцем, в течение пары недель друг от друга; обоих изгнали из Риджентс-Парка, то есть из места, считающегося средоточием моральных и духовных ценностей Конторы. Общеизвестно, что Слау-башня (не настоящее название здания, у которого не было настоящего названия) служила своего рода отстойником: перевод сюда был временным, потому что те, кого переводили, вскоре, как правило, увольнялись по собственному желанию. В этом и заключалась цель перевода: над головами провинившихся зажигался указатель с надписью «ВЫХОД». Их самих называли слабаками, хромыми конями, клячами. «Слау-башня» – «слабаки». Игра слов основывалась на такой давней шутке, что причину ее возникновения уже почти забыли.
Эти двое – сейчас уже можно назвать их по именам: Маркус Лонгридж и Ширли Дандер – знали друг о друге в своих прошлых ипостасях, но, поскольку Риджентс-Парк предпочитал строгие разграничения, сотрудники департамента Операций и сотрудники департамента Связи, как разные виды рыб, держались в разных стаях. Поэтому сейчас, как свойственно всем новичкам, они с одинаковым подозрением приглядывались и друг к другу, и к местным старожилам. Однако же мир Конторы относительно невелик, и любые слухи успевали облететь его дважды, прежде чем рассеивался дым очередного крушения. Итак, Маркус Лонгридж (около сорока пяти, чернокожий, рожденный на юге Лондона, в семье выходцев с Карибских островов) знал, как именно Ширли Дандер вылетела из департамента Связи, а Дандер, которой было двадцать с небольшим, смахивающая на уроженку Средиземноморья (прабабушка-шотландка, по соседству лагерь военнопленных, интернированный итальянец, получивший увольнительную на день), слыхала о том, что Лонгридж после нервного срыва посещал обязательные консультации штатного психолога, но ни тот ни другая не обсуждали друг с другом ни это, ни что-либо еще. Их дни были заняты повседневной рутиной офисного сосуществования и всевозрастающим осознанием безнадежности своего положения.
Первый шаг сделал Маркус, произнеся одно-единственное слово:
– Так.
Близился полдень. Лондонская погода страдала шизоидными приступами: внезапные солнечные лучи освещали замызганные окна; внезапные порывы дождя не могли отмыть стекла.
– Что «так»?
– Так вот.
Ширли Дандер ждала, когда перезагрузится ее компьютер. В очередной раз. Программа распознавания лиц сравнивала кадры с камер наружного наблюдения, сделанные во время демонстраций и митингов протеста, с фотороботами подозреваемых джихадистов, точнее, тех джихадистов, о существовании которых подозревали; джихадистов с прозвищами и всем прочим, сведения о которых, возможно, основывались лишь на слухах, полученных в результате некомпетентно проведенной разведывательной работы. Программа, устаревшая на два года, была все же значительно новее самого́ компьютера, который болезненно воспринимал все то, что от него требовали, и дал об этом знать уже трижды за сегодняшнее утро.
Не отрывая глаз от экрана, Ширли сказала:
– Ты со мной заигрываешь или как?
– Смелости не хватит.
– Потому что это было бы неразумно.
– Наслышан.
– Вот так-то.
Еще с минуту ничего не происходило. Ширли чувствовала, как тикают ее наручные часы; чувствовала через столешницу, как компьютер пытается вернуться к жизни. Внизу послышались шаги двоих. Харпер и Гай. Интересно, куда они, подумала Ширли.
– Теперь, когда мы установили, что я с тобой не заигрываю, можно поговорить?
– О чем?
– О чем угодно.
Она мрачно посмотрела на него.
Маркус Лонгридж пожал плечами:
– Нравится тебе это или нет, но мы с тобой в одном кабинете. Хуже не станет, если сказать что-то, кроме «закрой дверь».
– Я никогда не говорила тебе «закрой дверь».
– Ну или что-то в этом роде.
– Вообще-то, мне нравится, когда она открыта. Тогда нет ощущения, что сидишь в тюремной камере.
– Отлично, – сказал Маркус. – Видишь, вот мы и начали разговор. Ты сколько в тюрьме отсидела?
– Знаешь, у меня нет настроения. О'кей?
Он пожал плечами:
– О’кей. Но до конца рабочего дня осталось шесть с чем-то часов. И двадцать лет до пенсии. Если хочешь, можно провести это время в молчании, но тогда один из нас сойдет с ума, а другой станет психом.
Он склонился над клавиатурой.
Внизу хлопнула дверь. Экран компьютера Ширли вспыхнул синевой и, поразмыслив, снова отключился. После попытки завязать разговор отсутствие общения звучало пожарной сиреной. Часы Ширли вибрировали. Ничего не поделаешь, придется сказать.
– За себя говори.
– О чем?
– Двадцать лет до пенсии.
– Ну да.
– А мне до пенсии лет сорок.
Маркус кивнул. На его лице ничего не отразилось, но внутренне он ликовал.
Он умел распознавать начало.
В Рединге Джексон Лэм отыскал начальника вокзала и с видом рассеянного профессора обратился к нему. Глядя на Лэма, нетрудно было поверить в то, что он занимается научной работой: усыпанные перхотью плечи, зеленый джемпер в пятнах еды, пронесенной мимо рта, обмахрившиеся манжеты, торчащие из рукавов плаща, редкие русые волосы, зачесанные назад со лба. Лишний вес он явно приобрел, просиживая штаны в библиотеках, щетина на щеках свидетельствовала о лени, а не о следовании моде. Он чем-то напоминал Тимоти Сполла[2]2
Тимоти Леонард Сполл (р. 1957) – популярный британский киноактер, известный, в частности, по роли Питера Петтигрю в цикле фильмов о Гарри Поттере, а также сыгравший заглавную роль в фильме «Уильям Тернер» (2014).
[Закрыть], только с плохими зубами.
Начальник вокзала объяснил ему, как пройти в автобусный парк, и через десять минут Лэм снова выступал в амплуа рассеянного профессора, на этот раз с ноткой скорби.
– Мой брат, – сказал он.
– Ох… Мои соболезнования.
Лэм смиренно отмахнулся.
– Нет-нет, это ужасно. Я вам сочувствую.
– Мы много лет не общались.
– Ну, от этого еще хуже.
Лэм, не имевший своего мнения на этот счет, согласно покивал:
– Да, да, конечно.
С затуманившимся взглядом он словно бы припоминал воображаемый эпизод из детства, когда братья, исполненные абсолютной братской любви, еще не догадывались, что неумолимое время вобьет между ними клин и что, повзрослев, они прекратят общение, и все это для одного из них оборвется в автобусе, в оксфордской ночи, где его настигнет…
– Сердечный приступ?
Не в силах вымолвить ни слова, Лэм кивнул.
Начальник автобусного парка сокрушенно покачал головой. Того и гляди, пойдет дурная слава – пассажир умер в автобусе. С другой стороны, компания за это не в ответе. Вдобавок на трупе не обнаружили билета.
– Мне хотелось бы…
– Ну конечно…
– А в каком автобусе это произошло? Он сейчас в парке?
На открытой стоянке было четыре автобуса, еще два стояли в гараже, и начальник парка точно знал, какой из них невольно стал катафалком, – тот, что был припаркован в десяти метрах от них.
– Мне хотелось бы в нем посидеть, – сказал Лэм. – На его месте… понимаете ли.
– Не совсем…
– Я не то чтобы верю в жизненную силу, – объяснил Лэм дрогнувшим голосом, – но и не то чтобы не верю в нее… не поймите меня превратно.
– Да-да, конечно.
– Если вы не возражаете, я просто посижу чуть-чуть там, где он сидел, когда… когда скончался…
Не в силах продолжать, он обратил взгляд на кирпичную ограду и на офисное здание за ней. К реке летела пара казарок, печальными криками оттеняя скорбь Лэма.
Во всяком случае, так показалось начальнику автобусного парка.
– Вон тот, – сказал он. – В нем все и случилось.
Лэм оторвался от созерцания небес и окинул начальника благодарным невинным взглядом.
Ширли Дандер потарабанила по капризному монитору кончиком карандаша и, не добившись никакой реакции, положила карандаш на стол. Карандаш стукнул о столешницу, а Дандер коротко, шумно выдохнула, выпятив губы.
– Что?
– В каком смысле «смелости не хватает»? – спросила она.
– Не понял.
– Я спросила, ты со мной заигрываешь или как, а ты сказал «смелости не хватает».
– Ну, до меня дошел слух, – ответил Маркус Лонгридж.
Еще бы, подумала она. Слух до всех дошел.
Ширли Дандер, ростом с метр шестьдесят, была кареглазой, с оливково-смуглой кожей и пухлыми неулыбчивыми губами, широкой в плечах и в бедрах. В одежде она предпочитала черный цвет: черные джинсы, черные футболки, черные кроссовки. Однажды в ее присутствии какой-то мудак, известный своей сексуальной некомпетентностью, заявил, что привлекательности в ней столько же, сколько в чугунной колесоотбойной тумбе. В день, когда объявили о ее переводе в Слау-башню, Дандер остриглась под бокс и с тех пор еженедельно подновляла прическу.
Вне всякого сомнения, людей к ней тянуло, в частности одного начальника подразделения Конторского департамента Связи, который неотступно преследовал ее, невзирая на то что у нее был постоянный партнер. Начальник подразделения начал оставлять записки на ее столе и в любое время дня и ночи звонил домой ей и ее партнеру. Естественно, учитывая место работы начальника, эти звонки было невозможно ни отследить, ни зарегистрировать. Столь же естественно, как и то, что, учитывая место работы Дандер, она без труда их отследила.
Разумеется, существовали надлежащие правила и инструкции; процедура подачи и рассмотрения жалоб предполагала скрупулезное протоколирование случаев «неподобающего поведения» и свидетельств «неуважительного отношения»; все это не производило особого впечатления на работников Риджентс-Парка, в программу испытательного срока которых входил обязательный восьминедельный курс боевой подготовки. Однажды означенный начальник позвонил Ширли шесть раз за одну ночь, а потом подошел к ней в столовой и осведомился, хорошо ли ей спалось. Ширли Дандер вырубила его одним ударом.
Возможно, это сошло бы ей с рук, но она вздернула его на ноги и врезала еще раз.
«Трудности», – постановил отдел кадров. Ясно было, что Ширли Дандер испытывает определенные трудности.
Пока она все это вспоминала, Маркус говорил:
– Ну да, все слышали. Говорят, ты его чуть ли не к потолку отфутболила.
– Только в первый раз.
– Тебе еще повезло, что не уволили.
– Точно знаешь?
– Понял, не дурак. Но устраивать драку в Центре оперативного управления… Ребят увольняли и за меньшее.
– Ребят – возможно, – сказала она. – А вот уволить девчонку за то, что она врезала мудаку, который ей проходу не дает, – стыд и позор. Особенно если «девчонка» собирается подать в суд за сексуальные домогательства. – (Кавычки вокруг «девчонки» слышались так ясно, будто она сказала «цитирую».) – Вдобавок у меня было преимущество.
– Какое?
Она обеими ногами оттолкнулась от стола, и стул взвизгнул, резко проехав по полу.
– А тебе зачем?
– Просто так.
– Для просто так ты слишком любопытный.
– Ну а какой же разговор без любопытства?
Она пристально посмотрела на него. Для своего возраста он выглядел неплохо; левое, чуть приспущенное веко придавало ему настороженный вид, будто он все время оценивал все вокруг. Волосы длиннее, чем у нее, но ненамного; аккуратно подстриженная бородка и усы, тщательно выбранная одежда. Сегодня он был в глаженых джинсах и белой рубашке с воротником-стойкой под серым пиджаком; черно-лиловый шарф от Николь Фархи висел на вешалке. Дандер все это заметила не потому, что ей было интересно, а потому, что собирала информацию. Обручального кольца он не носил, но это еще ни о чем не говорило. К тому же все либо в разводе, либо несчастны.
– Ладно, – сказала она. – Но если ты меня подкалываешь, то на своей шкуре испытаешь силу моего удара.
Он вскинул руки, сдаваясь, но не совсем в шутку.
– Эй, я просто хочу установить товарищеские отношения. Ты же понимаешь, мы с тобой – новички.
– Так ведь остальные вроде бы не выступают единым фронтом. Ну, за исключением Харпера и Гай.
– А им оно необязательно, – сказал Маркус. – Они тут на постоянном местожительстве. – Он пробежался пальцами по клавиатуре, отпихнул ее и сдвинул стул в сторону. – Что ты о них думаешь?
– О коллективе в целом?
– Можно об отдельных личностях. Мы же не на семинаре.
– Тогда с кого начнем?
– Начнем с Лэма, – сказал Маркус Лонгридж.
Лэм сидел на заднем сиденье автобуса, на том самом, где умер человек, и глядел на бетонную подъездную площадку, изрезанную трещинами, и на деревянные ворота, за которыми виднелся центр Рединга. Лэм, давний столичный житель, не мог смотреть на это без содрогания.
Впрочем, сейчас он сосредоточенно сидел, притворно погрузившись в воспоминания о том, кого назвал своим братом, то есть о Дикки Боу[3]3
Dickie bow (англ.) – разговорное название галстука-бабочки.
[Закрыть]: имя слишком дурацкое для агентурного псевдонима и слишком нарочитое для реальных паспортных данных. Дикки был в Берлине тогда же, когда там работал Лэм, но за давностью лет черты его лица стерлись из Лэмовой памяти. Вспоминалось только что-то гладкое и остромордое, будто крыса, но Дикки Боу и был уличной крысой, с легкостью пробиравшейся в самые укромные щелки. В этом и заключалось его умение выживать. Впрочем, на этот раз оно не помогло.
(«Инфаркт миокарда» – гласило заключение патологоанатома. Неудивительный диагноз для Дикки Боу, человека, который много пил, много курил и ел много жирного и жареного. Не самое приятное чтение для Лэма, поскольку перечислялись и его собственные пристрастия.)
Он вытянул руку и провел пальцем по спинке сиденья впереди. Поверхность по большей части гладкая; оплавленный след от сигареты, явно древний; ободранный уголок – явно потертость, а не попытка накорябать предсмертное послание… Боу работал на Контору давным-давно и даже тогда был лишь одним из громадной армии тех, кого, в общем-то, в командный шатер не допускали. Как гласила старая Конторская присказка, на уличных крыс можно положиться, потому что всякий раз, как кто-то из них стрясет денег с противника, тут же прибегает к тебе в надежде, что ты предложишь больше.
Никакого кодекса братской чести не существовало. Если бы Дикки Боу умер оттого, что под ним воспламенился матрас, Лэм и глазом не моргнув пронесся бы по пяти ступеням горя: отрицание, гнев, торг, равнодушие, завтрак. Но Боу умер на заднем сиденье автобуса, без билета в кармане. Невзирая на пьянство, сигареты и жирную пищу, заключение патологоанатома не могло объяснить, почему Боу уехал из Лондона черт знает куда, вместо того чтобы отрабатывать смену в порнолавке в Сохо.
Лэм встал, провел рукой по багажной полке над головой и ничего не обнаружил. А если бы что и обнаружил, то оставлено это было бы не Дикки Боу, ведь прошло уже шесть дней. Потом он снова сел и вгляделся в резиновую прокладку окна, пытаясь найти царапины, – может, и глупо, но игра по московским правилам предполагает, что все твои сообщения прочитываются. Поэтому, если требовалось дать срочную весточку, это делали иными способами. Однако же в данном случае царапина на оконной прокладке весточкой не являлась.
В салоне раздалось неуверенное вежливое покашливание.
– Кхм, я не…
Лэм скорбно воздел очи.
– Простите, что помешал. Нет-нет, я ни в коем случае вас не тороплю, но хотелось бы знать, как долго…
– Минуточку, – сказал Лэм.
На самом деле ему понадобилось куда меньше времени. Он как раз втиснул ладонь между подушками сиденья, наткнувшись на иссохший комок жевательной резинки, намертво впечатавшийся в ткань, раскрошенное печенье, скрепку, монетку (такую маленькую, что ее не стоило выуживать) и краешек чего-то твердого, скользнувшего дальше под сиденье, так что Лэму пришлось сунуть руку глубже, и рукав плаща задрался чуть ли не до локтя. Наконец пальцы нащупали и ухватили гладкий пластмассовый коробок. Высвобождая сокровище, Лэм до крови расцарапал запястье, но даже не заметил этого. Все его внимание сконцентрировалось на призе – старом дешевеньком мобильном телефоне.
– Лэм… ну что Лэм. Лэм точно такой, как о нем говорят.
– То есть?
– Жирный стервец.
– С прошлым.
– Жирный стервец-долгожитель. Хуже не бывает. Сидит у себя наверху и всех нас обсирает. Как будто ему приятно руководить отделом, в котором одни…
– Лузеры.
– Ты хочешь сказать, что я – лузер?
– Так ведь мы оба здесь оказались.
О работе забыли. Маркус Лонгридж, обозвав Ширли Дандер лузером, одарил ее лучезарной улыбкой. Дандер помедлила, пытаясь разобраться, что происходит. Никому не верь, решила она, когда впервые попала в Слау-башню. Стрижка под бокс была частью этой заповеди. Никому не верь. А тут вдруг ни с того ни с сего Ширли едва не разоткровенничалась с Маркусом – просто потому, что сидела с ним в одном кабинете. И чего он лыбится? Думает, что ведет себя по-дружески? «Так, вздохни поглубже, – велела она себе, – только в уме. Чтобы он не заметил».
В этом и заключалась работа сотрудников департамента Связи: разузнай все, что можешь, но ничего не выдавай.
– Поживем – увидим, – сказала она. – И все-таки что ты о нем думаешь?
– Ну, он руководит своим отделом.
– Тоже мне, отдел. Богадельня. – Она шлепнула ладонью по компьютеру. – Для начала, этой рухляди место в музее. Вот с этой дрянью мы должны ловить злоумышленников? Проще выйти на Оксфорд-стрит с опросным листом и донимать прохожих: «Простите, сэр, вы, случайно, не террорист?»