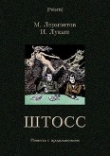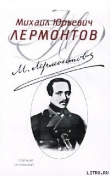Текст книги "Призраки
Повесть с продолжением"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Князь Индостанский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
«Князь Индостанский»
ПРИЗРАКИ

Предисловие издателя
Еще во временя своего студенчества я познакомился с князем Индостанским и вскоре близко сошелся с ним, привлеченный необыкновенною оригинальностью склада и направления его ума и характера. Впоследствии, как это часто бывает с людьми, мы, смотря по обстоятельствам и настроению минуты, то все более и более отдалялись один от другого, иногда совершенно теряя друг друга из вида, то опять сближались и некоторое время жили общими духовными интересами. Однако же, за все время нашего продолжительного знакомства между нами никогда не возникало ни тени какого-нибудь недоразумения. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что я настолько узнал его, насколько можно было узнать этого странного, вероятно, самому себе непонятного человека.
Он был среднего роста, очень широкоплеч, очень крепко сложен и отличался удивительной силой. Черты его красивого лица носили ясный след восточного происхождения.
Я был, может быть, единственным человеком, с которым он бывал иногда откровенен; всех других людей он чуждался с каким-то врожденным страхом; в особенности же, боялся он женщин: они внушали ему, казалось, какой-то физиологический ужас.
Он блистательно окончил курс университета, потом очень много путешествовал по всему земному шару, никогда не переставая знакомиться с произведениями человеческого гения, во всех его проявлениях, во все времена и у всех народов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его философские и эстетические воззрения скоро достигли чрезвычайной, исключительной широты. И однако же, его духовная сила и зрелость не проявляли себя ни в чем внешнем. Он оставался всегда каким-то загадочным, тревожным, часто противоречивым, парадоксальным, скитальцем не связанным ни с кем и ни с чем никаким практическим интересом, что было для него тем легче, что он был очень богат.
Я часто спрашивал себя, почему это происходит, и не мог найти ясного ответа. Я догадывался только, что его нежелание проявить себя в действительности, боязнь этой действительности, стояла в какой-то таинственной, глубокой и тем более неотразимой связи с проникавшей все его существо мистической потребностью. И чем дольше он жил, тем страстнее и страстнее становилось его стремление в парадоксальный мир мистицизма и тем глубже и глубже становилось его отчуждение от действительности, от людей, в особенности от женщин.
В самое последнее время он сделался убежденным, страстным последователем спиритизма. Я с опасением замечал, что настроение, цикл дум и чувств этой точки зрения – захватывают его с неотразимою, прямо опасною силою, и попробовал было свести его с этого пути, но скоро должен был убедиться в том, что мои усилия, при полной бесполезности, только раздражали его и отдаляли от меня…
Таков быль князь Индостанский.
В один из длинных зимних вечеров, когда бледная заря тихо угасала на западе, а на востоке уже выплывала большая, полная луна, между тем как мороз все крепчал и крепчал, князь Индостанский заехал ко мне. Скоро на столе появился самовар, и, при мягком свете лампы, снабженной матовым колпаком, мы принялись пить чай. Сначала разговор не клеился, но когда он случайно напал на в высшей степени интересный психологический вопрос, касающийся процесса творчества, мы оба сразу как бы встрепенулись.
Речь зашла, именно, о сотрудничестве при создании художественных произведений.
Я поспешно высказался об этом способе творчества с презрительной насмешкой.
– Писать так, – сказал я, – могут только люди, которые неспособны понять, что художественное произведение есть органическое целое, созданное единым вдохновением единого духа… Эти господа, напротив, убеждены, что можно создать истинно-художественное произведение механическим собиранием подробностей, вроде того, как повар приготовляет винегрет или окрошку. Тогда, конечно, будет безразлично, пишет ли произведение один, два или десять человек, лишь бы между ними состоялось грубое соглашение относительно самой фабулы и характеров действующих лиц, причем характеры эти обрисовываются самыми топорными выражениями, вроде: «человек горячий, злой, флегматический, добрый…» А иногда так и еще лучше: скажут про человека, что он «южанин», и довольно. Это уж география какая-то. Новейшие французы-реалисты в этом отношении достигли особенно блестящих результатов… И удивительно, как это публика не замечает того, что произведения этого рода преисполнены противоречий и несообразностей – именно от того, что они писаны разными лицами! Ведь, это так ясно! С первых же слов так и пахнёт деланностью от этих произведений!..
– Положим, – закончил я, перебивая сам себя: – таких противоречий и несообразностей не оберешься даже и в произведениях, писанных одним и тем же лицом…
Князь Индостанский внимательно слушал меня, глядя на меня своим неподвижным, загадочным взглядом; я продолжал:
– Все эти «сотрудники», именно, люди бездарные… Поразительна их неспособность понимать тонкие черты и оттенки. Что-то базарное, фабричное чувствуется в них. Это не больше, как попытки подделать настоящее художественное произведение, как подделывают олеографию под картину, писанную масляными красками художником, – да сбыть поскорее свой дрянной товар на Толкучем рынке литературы..
Я замолчал, и тогда начал говорить князь Индостанский.
– Я с величайшим удовольствием подпишусь обеими руками под каждым из всех сказанных тобою слов, и однако же я настаиваю на том, что возможно и истинное творчество в сотрудничестве.
Я с любопытством смотрел на него: зная его самобытный образ мыслей, я с нетерпением и удовольствием ожидал от него какого-нибудь нового, замечательного парадокса.
– Каким образом? – сказал я, вызывая его на объяснение.
– Я того мнения, – ответил князь Индостанский: что всякое истинно-художественное произведение не есть произвольный вымысел художника, хотя бы и очень разумно и последовательно составленный. Я того мнения, что каждое истинно-художественное произведение есть только снимок с действительной, реальной, самостоятельно, вне воображения художника существующей идеи. А если так, то почему бы два различные художника не могли увидеть и описать одну и ту же идею, как два различных зоолога могут изучить и описать одно и то же животное?
Я невольно задумался, размышляя так: «Этот парадокс, – есть ли он самый крайний материализм или самый крайний идеализм? С одной стороны, идее, несомненно, есть нечто абсолютно духовное, но с другой стороны, она существует, по этому взгляду, независимо, как вещь, res[1]1
Вещь, реальность (лат.). – Прим. ред.
[Закрыть], и потому реальна и может быть изучаема, как, например, – действительное животное. Конечно, крайние противоположности стоят часто ближе друг к другу, чем мы это думаем обыкновенно, – противоположности сходятся. Притом, абсолютная победа идеализма над материализмом – не состоит ли именно в полном признании всего положительного содержания материализма, во всем его объеме, то есть, в признании всех его законных требований, причем и обнаружится его ограниченность и произойдет переход в противоположное…».
– Укажи мне, однако, хотя один пример такого истинного сотрудничества, – сказал я вслух.
– Таких примеров много, – ответил князь Индостанский, защищая свою мысль. – Но, по странному совпадению, которого я не могу считать случайным, разговор этот зашел как раз для меня кстати. Дело в том, что я принес с собою написанное мною окончание известного отрывка повести Лермонтова, – отрывка, начинающегося словами: «У графини В… был музыкальный вечер» – и прерывающегося на словах: «Он решился». Я утверждаю, что я видел – внутренним чувством – ту же действительную идею, на которую смотрел и Лермонтов, когда писал свой отрывок. Если ты расположен удалить мне не более получаса своего внимания, то я прочту тебе сейчас свое окончание, а ты потом скажешь мне о нем свое мнение. Ты заметишь, конечно, что окончание это писано не Лермонтовым, – как это и естественно…
При этих словах князь Индостанский добродушно усмехнулся.
– Различие это должно отнести на счет особенностей авторов. Но что и Лермонтов, и я – описываем один и тот же реальный факт, в этом, я уверен, ты не усомнишься…
– Ты заинтересовываешь меня в высшей степени, – сказал я.
– В таком случае, – отвечал князь Индостанский, – я попрошу у тебя сочинения Лермонтова: необходимо возобновить этот отрывок в твоей памяти…
Я принес книгу, князь Индостанский нашел отрывок, придвинул к себе лампу и начал читать. Прочтя последние слова отрывка: «Он решился» – князь Индостанский вынул из бокового кармана своего пиджака рукопись и начал читать то, что помещено после этого предисловия…
Я прослушал весь рассказ от слова до слова, совершенно поддавшись его обаянию. Несмотря на необузданную призрачность и как бы безумие рассказа, я чувствовал, что в нем заключается такая правда, которая, раз только коснувшись души, уже никогда не может забыться….
Разговор не клеился. Я чувствовал как бы какую-то эстетическую полноту в душе, – полноту, при которой не хочется говорить. И замечательно, что я уже не вспоминал больше того повода, по которому был прочитан этот рассказ: я думал о самом рассказе.
– Ты должен издать этот рассказ, – сказал я наконец, после долгого молчания.
– Ни в каком случае, – отвечал спокойно и твердо князь Индостанский.
– Отчего?
– Оставим этот разговор.
Вскоре после этого вечера князь Индостанский уехал за границу, и я уже никогда не видал его больше с тех пор, потому что он, немного времени спустя, погиб ужасною смертью: во время переезда из Марселя в Аячио, он, в припадке безумия, бросился за борт парохода в море и утонул.
Когда прошло первое потрясение, которое я испытал по получении страшного известия, я вспомнил последний, проведенный вместе с ним вечер, вспомнил прочитанный им рассказ, и мне стало невыразимо жаль этого рассказа, так как я не надеялся спасти его от уничтожения. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что я обрадовался, как ребенок игрушке, когда, почти год спустя, родственники князя Индостанского, во исполнение его воли, выраженной им в найденной после его смерти записке, переслали ко мне все его рукописи, в которых, кроме рассказа, который мне так понравился, я нашел и еще несколько рассказов и повестей, которые все были проникнуты одним и тем же, если позволено так выразиться, мистически-материалистическим миросозерцанием.
Когда я прочел все эти повести и рассказы, они показались мне в высшей степени замечательными, если, быть может, и не сами по себе, то, по крайней мере, как «психологические факты» души их автора, который мог бы служить характерным представителем того типа «мистика», для которого «мистицизм» не есть надуманная теория, а единственно возможное настроение души, которым он живет на свой риск и страх, направляясь иногда по совершенно ложным путям.
Печатаю на первый раз только один рассказ из всех полученных мною повестей и рассказов, в надежде со временем издать их все. Считаю это своевременным, ввиду того интереса к «оккультизму», который так неожиданно ожил вновь в нашем образованном обществе за последнее время.
Издатель
Призраки
Окончание повести М. Ю. Лермонтова, начинающейся словами: «У графини В… был музыкальный вечер» – и прерывающейся на словах: «Он решился».
Он знал, он чувствовал, что призраки эти являются ему недаром, что тут кроется какая-то страшная тайна, которой он пока не в силах был постигнуть: он догадывался, что никогда не выиграет призрачной женщины за деньги, как никогда не завладеет ею силою. Он понимал все это и потому решился спросить у старика прямо и настойчиво, какою ценой можно купить у него призрачную женщину… Временами он боролся еще, однако, с охватившею его страстью: ему хотелось как бы разрешить в ясных, холодных, сознательных мыслях тот иррациональный элемент, который имел такое безусловное значение во всем, что с ним теперь происходило. И это противоречие, эта борьба только еще больше волновала его, доводя порою до бешенства, но нисколько не ослабляя, а скорее даже возбуждая его решимость…
Весь следующий затем день был он в чрезвычайном волнении. Какая-то злобная радость исполняла трепетом все существо его; он ходил по комнате, беспрестанно останавливаясь и усмехаясь вызывающей, дерзкой улыбкой; порой смеялся он даже вслух и произносил:
– Тем лучше!.. Я это знал давно!..
Чем ближе подвигался день к вечеру, тем волнение его становилось все сильнее, и в сумерки он трепетал всем телом, будто в страшнейшем ознобе, и был почти в бреду…
Приближался урочный час…
Вдруг дверь в спальню отворилась, и в нее степенно вошел Никита с подносом, на котором погромыхивал чайный прибор. Поставив его на стол и принеся затем самовар, Никита не вышел из комнаты: стоя на одном месте и переминаясь с ноги на ногу, он тяжело вздыхал. Лугин обратил на него наконец свое внимание.
– Что же ты стоишь? – сказал он: – убирайся вон! Да прими самовар: я не буду пить чай…
Никита все стоял, вздыхая.
– Чего ж ты стоишь?
– Уедемте отсюда, батюшка-барин! – сказал наконец Никита решительно.
– Это что еще?
– А то, что здесь…
Никита оглянулся, содрогаясь…
– Нечисто здесь, – решился он, наконец, сказать.
– Что нечисто? Пол не чист? Стены? Так ты убирай хорошенько комнаты, вот и будет чисто.
– Он тут живет, батюшка-барин, – таинственно сказал Никита.
Лугин вздрогнул. Он подошел к Никите вплоть, взял его за плечи и с жадностью спросил его:
– Ты разве что-нибудь заметил?
– Как же не заметить-то, батюшка-барин. Кто же это туфлями-то хлопает, да кашляет, да вздыхает, как не он?
– Ты это слышал? Слышал?
– Да как же не слыхать-то, батюшка-барин? Такого страху натерпелся, что сохрани Господи всякого!
– Так это я не в бреду был?
– Какое там в бреду!.. Уедемте, батюшка-барин! Пожалейте вы хоть себя-то! Посмотрите: на кого вы похожи стали? Ведь вы совсем больные-с! Уедемте-с! Пропади он пропадом этот патрет-с!
– Какой портрет? – встрепенулся Лугин.
– Ох, Господи! Да неужли ж это вы, батюшка-барин, и впрямь ничего не заметили? Вот этот самый патрет-с, – ответил Никита, нехотя кивнув на него головой и дико на него косясь.
– Что же ты в нем заметил?
– А что он пустой бывает-с!
– Как пустой?
– Так, – пустой-с! Как двенадцать часов пробьет, так он пустой-с.
– Ты лжешь, болван!
– Помилуйте, батюшка-барин: как же мне лгать-с?
– Дурак! Ведь, этот старик не живой! Ведь, он нарисован только!
– А кто ж его знает-с!
– Как кто ж его знает! Я знаю, ты знаешь! Пощупай: он нарисован на полотне и только. Как же он может уйти с полотна?!
– Не могу знать-с! Только что уходит-с. И белая эта уходит-с.
– Какая белая?
– А вон, что у него за плечами стоит-с, – ответил Никита почти шепотом и дрожа всем телом, как в лихорадке.
Лугин взглянул на портрет, – действительно: за плечами у старика, из сероватого фона явственно выделялась светлая фигура, и это была она, несомненно она! Как мог он до сих пор не заметить ее?
Он вздрогнул.
– Ступай, ложись спать! – сказал он строго Никите.
– Уедемте, батюшка-барин, – начал было опять умоляющим голосом Никита, но Лугин крикнул на него, топнув:
– Пошел вон, осел!
И Никита удалился, тяжело вздыхая, а Лугин, по обычаю, запер за ним дверь в переднюю.
Лугин в волнении ходил по комнате взад и вперед.
«Итак, – думал он: – теперь нет никакого сомнения: это не бред мой, это настоящие призраки! Удивительно! Непостижимо! Я никогда не сомневался в возможности таинственного, чудесного, но этого я не мог ожидать! И какая же связь между портретом, то есть, механическим сочетанием, красок и призраком? И что это: настоящие, живые призраки или только одна видимость? Недаром я всегда так верил в чудесную силу искусства вообще и в особенности-живописи, – верил, что художник не только подражает, но и творит: ведь, если так, то почему бы ему не создать живого существа, – если механизм, техника искусства будут побеждены им абсолютно? А в этом портрете они побеждены абсолютно, хотя он и очень плохо нарисован…».
С этой последней мыслью Лугин взглянул на портрет, и с широко открытыми глазами отступил шаг назад: на сером фоне полотна его фигур не было…
До этого мгновения Лугин, казалось, ничего не видел и не слышал, погруженный в свои полусознанные, непостижимые видения и озарения; теперь он вдруг сосредоточился весь и упорно, неподвижно уставился на дверь в гостиную… Там все было тихо…
Нетерпение изобразилось вдруг на лице Лугина, и он раздражительно крикнул:
– Я вас жду, милостивый государь!
Голос его гулко и дико отозвался в гостиной и замер. И вот, дверь гостиной начала вдруг тихо и беззвучно отворяться; послышался обычный, как бы надтреснутый кашель и шлепанье туфель. Лугин вскочил. В мрачной, как гроб, бездне гостиной показалась мертвенная фигура старика, с редкими, тонкими, как пух, седыми волосами, с бледным, худым лицом, с резко выдающимся носом мертвеца и с полузакрытыми, стеклянными, бесцельно-неподвижными глазами. Он был, казалось, в состоянии глубокого гипноза. Точно какая-то чуждая сила тяготела над ним, не позволяя ему ни думать, ни чувствовать, ни двигаться произвольно, – превращая его в манекен.
Лугин не обратил на него никакого внимания и смотрел дальше, в глубь гостиной. Там появилась белая фигура призрачной женщины. Голова ее была склонена, но глаза с мольбою были подняты на Лугина, как на спасителя; слезы дрожали в них. Лугин бросился к дивному призраку с простертыми руками, но старик безжизненно, как часовой, которому запрещено глядеть в сторону, заступил ему дорогу. Точно холодная змея проползла по телу Лугина, когда он коснулся руки старика. Он содрогнулся от отвращения, отступил шаг назад и молча стал смотреть на старика испытующим взглядом. Потом он вдруг громко расхохотался и сказал:
– Прошу вас к столу, милостивый государь!
И старик пошел к столу, приседая. Это была странная походка! Все движения ее были точно умышленны и в то же время безучастны: Лугин видел, что тут был какой-то чисто механический секрет, без выполнения которого невозможно было то, что происходило теперь. Старик подошел к столу, сел в кресло и достал из-за пазухи карты. До этого мгновения он еще не смотрел на Лугина, упорно уставившись своим странным взглядом вдаль. Теперь он медленно, как бы нехотя обратил взор свой на Лугина… Лугин взглянул на него тоже, и, когда взоры их встретились, он в ужасе содрогнулся. Этот бесцельно-неподвижный, стеклянный взгляд старика был страшен. В нем была какая-то непостижимая, страшно-объективная проницательность. Казалось, точно душа этого существа вышла через этот мертвенный взгляд во внешний мир, так что ей не нужно уже было пользоваться этими глазами, смотреть через них, для того, чтобы видеть: она видела все и так. И вдруг, на одно только короткое мгновение, вспыхнула в них какая-то страшно-подозрительная злоба. Лугин смутился и опустил глаза.
Призрак тяжело вздохнул, содрогаясь всем телом, как это делают гипнотики, когда им дунут в лицо и они напрасно усиливаются пробудиться. Когда затем Лугин снова поднял свои взоры, то увидал, что фигура призрака вся как бы волнуется и колеблется, беспрерывно изменяя свою величину и очертания. Случалось ли читателю видеть изменения цвета кожи хамелеона? В каждое данное мгновение вы не можете уловить этого изменения, и, тем не менее оно совершается у вас на глазах быстро и видимо. Так изменялась и фигура призрака. Затем, очертания стали становиться все определеннее, и скоро из колеблющейся массы восстановился прежний призрак, но выражение гипноза совершенно исчезло теперь: он улыбался, и лицо его приняло отпечаток обнаруженной и законфузившейся низости и подлости, только глаза оставались все еще мало подвижными. Лугин смотрел на него в оцепененном изумлении с тем чувством, с каким мы смотрим на новый, непонятный нам физический опыт.
– Нельзя ли оставить эти отвратительные механические секреты! – сказал он потом. – Довольно того, что люди не могут обойтись без них, чтобы жить!
Но вдруг почувствовал он новый прилив злобной радости.
– Вы разгадали меня, милостивый государь! Я видел это по вашему взгляду. Это в другое время, месяц тому назад, было бы для меня невыносимым оскорблением, но теперь – теперь мне это все равно, я даже рад этому. Вы разгадали меня, вы разгадали мою душу… Тем хуже для вас!
И он расхохотался злобно.
– Кроме мрака, отчаяния и зла вы ничего не найдете в душе моей! Я сам – понимаете ли вы это? – я сам ненавижу свою душу и проклинаю ее! Берите ее, если она вам нужна!
– Взял бы, – коротко ответил призрак, и Лугин содрогнулся от этого сиплого, как бы надтреснутого голоса. Читателю случалось, вероятно, слышать этот голос у умирающих. Однако же, Лугин тотчас оправился и сказал:
– Она вам сродни, милостивый государь, – моя душа!.. Только напрасно вы думаете, – бешено продолжал он, – что меня можно обольщать, что меня можно заманивать, как ребенка игрушками! Знайте: я иду в погибель, но иду сам, сознательно, ни во что не веря, так же, как и вы!..
Призрак все улыбался своей неестественной, заискивающей улыбкой.
– Вы думаете, милостивый государь, – злобно продолжал Лугин, – что я верю в этот призрак?
Он показал рукою в ту сторону, где стояла призрачная женщина, но, в то же время, отвратил лицо свое, будто боясь даже случайно увидеть се.
– Вы думаете, милостивый государь, я не понимаю, что это только призрак, мечта, сонь, бред, вдохновение? В нем ничего нет существенного Это обман, это ложь, это только облик, только форма без содержания, это – не настоящее существо! Он исчезнет, как дым, как туман, при первом прикосновении!..
Призрак все улыбался.
– Но что мне до этого? – продолжал Лугин все страстнее и страстнее, со взглядом, исступленно прикованным к призраку. – Что мне до этого? Разве и весь мир не призрак? Разве я сам не призрак? Не мимолетное виденье? Через мгновение, быть может, разорвется мое сердце, – оно же так страшно сильно и неровно бьется! – и где тогда вы будете искать меня? Не верю в вечное, не верю в бесконечное, не верю в существенное!
Что-то сверкнуло в глазах призрака. Лугин засмеялся.
– Эти мысли, как я вижу, по вкусу вам, милостивый государь! Тем лучше! Вам, конечно, понравится также, если я скажу теперь, что верю только в мгновенное наслаждение – безумное и преступное?
При этих словах Лугина, в стеклянных глазах старика, снова сверкнула вдруг точно молния, сознательная, подозрительная злоба. Но Лугин не заметил этого взгляда и продолжал:
– Этот ваш залог – это не душа, это – призрак… Но, ведь, он может дать мне мгновенное наслаждение – безумное и преступное? Может?
– Может.
– Знаю, что может! Я не знаю, демон ли вы, милостивый государь, или душа умершего человека… Я думаю, последнее вернее, потому что вот здесь, на стене, висит ваш портрет, – по временам исчезающий. Но это мне все равно! И демон – призрак, и душа умершего – призрак: нынче она видима, как привидение, завтра она – ветер, облако, молния… Все призрак!
Он засмеялся.
– Я отлично понимаю, милостивый государь, – воскликнул он снова: – что я никогда не выиграю у вас этого призрака, играя с вами на деньги. Это обстоятельство, между прочим, не делает чести вашим правилам – ха, ха, ха! Но не в том теперь дело! Я понимаю также очень хорошо, что не могу завладеть залогом вашим и насильственно, механически: пусть я схвачу его, – он исчезнет, вот и все! Но вы – как бы то ни было! – вы, конечно, можете его мне отдать! Итак: чего хотите вы взамен этого призрака?
– Это душа, и я могу только проиграть ее.
– Что же я должен поставить на карту, чтобы шансы выигрыша и проигрыша стали для меня равны?
– Душу.
– Какую душу?
– Вашу.
Лугин вздрогнул. Снова точно что-то влажное и холодное скользнуло по нем. Но он сейчас же оправился и сказал, злобно смеясь:
– Я вам сказал уже, что я только призрак, только ряд преходящих явлений!
Новое выражение явилось в лице призрака: он остановил на Лугине свой неподвижный взгляд, который принял едва уловимое выражение презрительной насмешки. Таким взглядом смотрят, слушая самоуверенную болтовню глупцов.
– Что-с? – сказал призрак тихо.
– Опять «Штос»? – воскликнул Лугин вздрогнув, но, возвращаясь к своим мыслям, он продолжал:
– Ха! Из-за этого нельзя много спорить! Только, как же это сделать? Покорнейше прошу вас, милостивый государь, оставить эту комедию и ответить мне категорически на вопрос: что должен я делать?
Призрак помолчал и потом еще более тихим, заискивающим голосом, в котором слышалась и насмешка, сказал опять:
– Что-с?
– Перестанете ли вы повторять это «Штос»?! – бешено воскликнул Лугин, вздрогнув, и, вспомнив, как он уже не однажды вынимал трепещущей рукою из колоды карту против своей воли, он вскричал:
– Не думаете ли вы, милостивый государь, что я во власти чуждых мне сил?
– Что-с?
– Я перестану говорить с вами, милостивый государь, если вы еще раз осмелитесь сказать мне «Штос»! – все более раздражаясь, воскликнул Лугин.
Призрак молчал.
– На каком основании уверены вы, что я во всяком случай захочу выиграть ваш залог, то есть, этот призрак? – сказал потом Лугин.
– Душу, – поправил старик.
– Может быть, и душу! – с каким-то замиранием сказал Лугин. – Но вот, вы сказали мне, что я должен поставить на карту свою душу. Это нелепость, которая может иметь только аллегорический смысл. Или это опять какой-нибудь отвратительный, механический секрет? Но допустим, что я согласился и поставил душу свою на карту – ха, ха, ха! Что же тогда?
Снова с мгновенною силою сверкнула в глазах призрака молния неумолимой, подозрительной злобы, и он сказал своим надтреснутым голосом:
– Тогда случай решит, выиграете ли вы мой залог.
– Но разве случай может иметь какое-нибудь значение в вопросах нравственных?
Призрак опять остановил на Лугине свой презрительно-насмешливый взгляд.
– Если я выиграю ваш залог, тогда я не потеряю уже моей души? – спросил Лугин.
Призрак молчал.
– Говори же, демон! – бешено воскликнул Лугин. – Ты знаешь, что я во всяком случае потеряю душу свою! Но какой же во всем этом смысл?
Призрак не отвечал опять: он будто ждал того мгновения, когда окончится весь этот ненужный вздор и начнется настоящее.
– А что если я не буду играть с вами, милостивый государь? – в исступлении закричал Лугин.
– Вы никогда не обнимете ее в таком случае…
Тут Лугин, не в силах противиться долее своему желанию, тихо обратил свои взоры в сторону призрачной женщины. Она стояла, как олицетворение покорности, сложив вытянутые бессильно руки. Слезы стояли на чудных глазах ее. Она, казалось, стыдилась взглянуть на Лугина. Казалось, она сама считала себя безвозвратно погибшим существом, которому уже нельзя надеяться на избавление, а остается только – страдать – вечно – без конца…
Вдруг неодолимое чувство бесконечной, страстной и нежной любви к этому прекрасному, отверженному, женственному существу исполнило его; в исступлении бросился он перед ней на колени и, простирая руки, чтобы обнять ее ноги, воскликнул:
– Божество мое – жизнь – святыня – люблю тебя!
Но едва он коснулся ее, или, лучше сказать, того места, где она была видима, как оба призрака, и женщина, и старик, – мгновенно исчезли, а Лугин с воплем отчаяния упал на пол и погрузился в глубокий обморок.
Несколько дней после этого пролежал он в постели. Страшная тоска томила его, тоска о призрачной женщине, которую полюбил он – он чувствовал это – какою-то непостижимою, огненною любовью.
Он, именно, точно весь горел в огне, объятый и исполненный воспоминанием об этом дивном, падшем и погибшем существе, и не призраке, а душе – он теперь в это свято верил. Он верил свято также и в то, что он призван спасти эту душу, хотя бы самому ему пришлось погибнуть. О, он готов был погибнуть – ведь он уж и так давно погиб! – лишь бы только раз обнять ее и поцеловать, не как призрак, а как душу! Но что было ему делать? Вот, в прошлый раз он решился сделать все, чтобы овладеть этой душой. И старик потребовал, чтобы он поставил на карту душу свою. Это было смешно, похоже на старинные басни, в которые он не верил. Он бы исполнил это шутя! Но вот, какой-то странный, неудержимый порыв огненной любви испортил все. И с этих пор привидения не являлись. Каждый вечер ждал их Лугин с непреоборимым нетерпением, но их не было…
И в первый раз в жизни изведал он теперь все муки безнадежной любви. Теперь он искал уже не мгновенного наслаждения – «безумного и преступного», без веры; теперь он стремился к призрачной женщине, как к безусловной и единственной возможности своей жизни. Это была душа! Он знал, он чувствовал это! Это была душа, которую он страстно, безумно любил всепоглощающей любовью. И это была душа погибшая, страстная, отданная во власть каких-то темных, злых сил. И он знал, он чувствовал, что только он, только он один может и должен спасти ее из рук этого проклятого старика. Невыразимое чувство сострадания влекло его к этой женщине.
«Отдать душу! Пусть берет ее, если только я буду вечно вместе с нею! Но что же он нейдет? И в каком состоянии теперь она?»
И страстное желание видеть, видеть ее исполняло все существо его мучительным нетерпением…
Он всегда верил в таинственное, но он не верил никогда в возможность безусловной, бесповоротной, губительной любви. Теперь любовь отомстила ему за себя, и теперь он готов был поверить в душу, в бессмертие…
Он ждал середы. Она пришла. До двух часов ночи просидел Лугин перед портретом, вглядываясь в туманную фигуру за плечами старика: краски и оставались мертвыми красками…
Дни шли за днями: призраки не являлись. Где было искать их? Что сделать, чтобы они явились? Чего бы не отдал теперь Лугин, чтобы еще раз, один только раз увидать ее, упасть к ее ногам и сказать:
«Люблю тебя – безумно!».
Жизнь без этой призрачной женщины стала теперь до такой степени бесцельна, мертва, что сделалась невыносимой для Лугина, и он решился на самоубийство.
Он вошел в первую попавшуюся ему аптеку и спросил там морфину.
Аптекарь улыбнулся и сказал:
– Мы не имеем права отпускать этого лекарства без рецепта.
– Лекарства? Да, это хорошее лекарство, – сказал Лугин, странно глядя прямо в глаза аптекарю, но, содрогнувшись, прибавил: – Есть однако ж, как кажется, болезни, от которых даже оно не может излечить. Во всяком случае вы мне его отпустите.
Аптекарь улыбнулся еще более, точно хотел сказать: «видишь, как мы понимаем друг друга!» – и отпустил «лекарства».
Взяв сверточек в руки, Лугин сказал резко:
– Если вы, милостивый государь, смотрите на меня таким взглядом, то вам не следовало бы продавать мне этого лекарства!
Аптекарь, казалось, был удивлен таким замечанием.
Придя домой, Лугин вылил все содержимое склянки в рюмку, поставил ее на стол и сел перед нею в кресло…