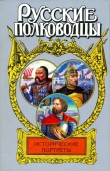Текст книги "Рос и я"
Автор книги: Михаил Берг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
2
Конечно, этот первый и несовершенный опус любопытен прежде всего как этнографический этюд «эпохи военного коммунизма», можно сказать, зарисовка с натуры, так, впрочем, и системой психоаналитических симптомов, проступающих сквозь его незамысловатую подоплеку. Хотя не менее интересно его ретроспективное сравнение с куда более поздним высказыванием поэта, дословно воспроизводимым Афиногеновым: «Настоящему писателю нечего сказать. У него есть манера речи» (это, несомненно, рифмуется с известным утверждением Пушкина: «То, о чем говорит художник, никогда не является главным»[2]2
Ряд можно было продолжить, предложив вниманию читателя не менее известную цитату другого классика: «Мне всегда хотелось написать книгу ни о чем», – этот ряд действительно бесконечен. (Прим. авт.)
[Закрыть]). Но не менее любопытны черты влияния стиля Щедрина, которые мы можем без труда отыскать в этой трехстраничной картинке с выставки, – Щедрина, любимого, по признанию многих, писателя нашего героя. Крэнстон уверяет, что они были не только знакомы, но и приходились друг другу дальними родственниками по линии Салтыковых, потомков выехавшего в начале XIII века из Пруссии в Новгород Михаила Прушанина или Прушанича. Славная семья. Ни в одной фамилии не было столько бояр, а потом генерал-фельдмаршалов. Один из Салтыковых, Михаил Глебович, бывший во время междуцарствия главным деятелем польской партии, в 1611-м отъехал с сыновьями в Литву, потомки его, откинув великорусское окончание своей фамилии, стали называться Солтыками, и многие из них, заняв достойное место в ряду польских магнатов, прославились в XVIII веке как ярые ненавистники России.
Мать Михаила Евграфовича, известная Салтычиха (и впоследствии жена Аракчеева), отличалась неукротимым темпераментом светской львицы и характером отчаянной пифии-прорицательницы. Ее несчастья начались со смертью второго мужа, престарелого секунд-майора, безвыездно проживавшего в своем имении под Яузой, и с лицемерного сватовства молодого капитан-исправника, который сначала побаловался с юной вдовой, а затем обманул ее, обвенчавшись с дочкой уездного предводителя. Мы бы назвали ее состояние сексуальной неуравновешенностью. Сперва сорвалось тщательно, хотя и истерично подготовленное ею покушение – она собрала специальную шайку из своих крепостных, которые должны были столкнуть в воду с моста коляску, в коей молодые – жестокий изменщик со своей красивой кралей – следовали в поместье батюшки новобрачной (усатый исправник навел ужас, непредвиденно выйдя из коляски за две сажени до моста, якобы собираясь проверить настил, – и шайка крепостных в панике разбежалась). Тогда молодая вдова – ей было в то время двадцать с небольшим – и открывает счет своим кровавым преступлениям. Сухой перечень делает их тривиальными. Все сто двадцать семь пунктов обвинения, подписанного впоследствии ею – по неграмотности она поставила крест, – похожи, как близнецы. Она мучила и убивала только молодых девиц и баб, начиная с тех, кто уже испытал радость первой менструации, и кончая успевшими родить не более одного ребенка, то есть возраст ее жертв колебался от 11 до 22 лет. Предпочтение она отдавала женам и невестам своих подручных, составлявших, в свою очередь, ее обширный и разношерстный гарем. Ее возбуждал коктейль спермы с кровью. Описания ее садистских соитий, как, впрочем, и способы пыток, нудны и однообразны, особенно при бросающемся в глаза желании поразить изощренностью и оригинальностью. Каждый раз очередной несчастной жертве ставилось в упрек одно из двух: плохое мытье полов или небрежная стирка белья. Других претензий не предъявлялось. Просчет в составе мыльного раствора приводил к появлению раскаленных каминных щипцов, разных иезуитских приспособлений и банальных скалок. Иногда мало что уже понимающей жертве давали возможность исправиться. Если была зима, то раздетую донага несчастную загоняли в ледяную воду по шею, а после того, как та начинала захлебываться, давали шанс вымыть полы еще раз, исправив этим предыдущую оплошность. Таким образом трое из ее подручных потеряли двух жен, один – четырех. Жалобщики выслеживались и наказывались. Коррумпированная судебная власть пила с нашей вдовой чай на веранде. Конец ее карьере положили случайное стечение обстоятельств и начатые Екатериной-освободительницей реверансы прогрессивной партии. Адвокат вдовы пытался придать процессу скандально политический характер, делая акцент не на ее маниакальном темпераменте, а выделяя идейную убежденность. Защита сводила все к тому, что вдова была шокирована обманувшим ее капитан-исправником, с которым она не разделяла его коммунистических настроений. Капитан был выдвиженцем, она – ретроградкой, инцидент свели к противоборству идей. Именно это обстоятельство спасло ее от четвертования; почти двадцать лет следствия закончились пожизненным одиночным заключением. Сначала монастырская яма, затем тюремный каземат, где вдова сидела, прикованная цепью за шею и левую ногу, а после того, как она умудрилась зачать и родить от караульного татарина, – каменный мешок, позволивший ей, однако, пережить императрицу, справив здесь свое девяностолетие.
Всю жизнь Михаил Евграфович не мог избавиться от безотчетного чувства вины, мучимый инверсированным эдиповым комплексом на материнской подкладке. Его женские типы оказывались своенравны, жестоки, лукавы. Он ненавидел женский пол не только метафизически, но и грамматически. Женские окончания были ему отвратительны. В невесты он выбрал красивую и глупенькую девицу с уступчивым характером и хорошим приданым. Она была наивна и легкомысленна, читала исключительно французские романы, была спокойна, уравновешенна, после замужества звала его Мишель, хотя радостное слово «дура» не выходило из обихода домашнего обращения. Это была очень красивая брюнетка, с серыми глазами, с правильными чертами лица и изящными манерами; сохранив моложавость до старости, она всеми силами старалась сберечь и красоту: спала только на спине, чтобы не появились морщины на лице, мыла волосы дикой рябиной, ела только молодое мясо и склонялась к самому истовому суеверию: гадая на картах, вынимала из колоды всю пиковую масть. Вынужденный эмигрировать после начатой против него Чернышевским кампании Михаил Евграфович был обвинен «неистовым Николаем» в том, что, переправив по почте начальству полученную им в частном письме прокламацию «Великорус № 1 и 2», подвел под монастырь соратника Чернышевского графа Обручева, да и не только его. Тогда-то он и подвергся общественному остракизму, приведшему его в Баден-Баден, где адаптироваться так и не удалось. Я русский, писал наш протагонист в одном из своих знаменитых писем на родину, и не могу выносить этой немецкой чистоты, хочешь плюнуть на улице и боишься, так как все кажется, что за тобой бегает немец с тряпочкой и, как только ты плюнешь, сейчас начнет вытирать. Да-с… Ого, он потянул спутника за рукав, кивая на скамейку, возле которой они проходили, посмотрите, не правда ли, как этот субъект похож на х… в шляпе. К изумлению обоих, субъект радостно заулыбался, в ответ привставая и кланяясь. Сударь, вы не можете себе представить, как приятно слышать звуки родного языка на чужбине.
Чужбина, жалейка, барыня, ворон. Век вековать – на дубу куковать. Сидит ворон на суку и дудит в свою жалейку. Нам бы, скажем, скорби, печали. И чинарь – enfant terrible, озорной, вольный юнец. Собирались, припоминаем, по субботам. Фисгармония стояла между окон. За стеной сморщенный старичок играл на цитре и пел песенку собственного сочинения. Чай Высоцкого, папиросы «Дюбек». Сударь, угостите папиросочкой? Нет, только не здесь, только не вам, садитесь на мой роскошный диван. Руку мою в руку твою, вокруг себя беду я зажгу. Но – пока не поздно – раздвинем декорации и угостим читателя пыльной картиной степи, водокачки за окном, дремучего однообразия, полупустынного полустанка и заезженным шаблоном встречи синего пульмановского вагона, к которому подкатили красную ковровую дорожку, угощая ею начальство. Походная фуражка с изогнутыми – на прусский манер – краями, золотой эфес шашки с георгиевским темляком, одутловатое лицо. На перроне скучающая пишбарышня с розовым бантом, носильщик с чемоданами, почтовый служащий с сургучной печатью в руке. Перед вокзалом – лужа, напоминающая трехгорбого верблюда. Кабак и колониальная лавка, где можно приобрести мраморную бумагу для оклейки книг, слабительный александрийский лист, кайенский перец, сальные свечи, лафит и мозель, аравийский кофе, липучку для мух. Прихрамывая, морщась от геморроя, ругая его почечуем, не глядя на вытянувшихся в струнку по бокам, мечтая о перине и горячем чае. Два часа тряской езды и – двор, грунтовые сараи со шпанскими вишнями и бергамотами, в парниках дозревают дыни, в теплицах – ананасы. Мечты о любви. Муки ревности. Он, недоступный для понимания подчиненных, привязался к жене одного из своих чиновников и попросту купил ее у мужа, отправив последнего в командировку в дальнюю губернию, из которой тот не вернулся. И вот теперь она? Где? Почему? Роза, моя Роза! Все русские любят Розу. Какой русский не любит Розы. Шепелявя. Не выговаривая «д» и «з». Роза и я. Роза моя. Фразистые ляжки, пухлый Тургенев. Сличая два экземпляра переводов Лао Цзы на немецком и на русском, он находит прелестнейшее развлечение, заметив, что в русском тексте слово «самка» соответствует понятию «вечно-женственного» в немецком. Это не отступление, не экивок. Проследовавшие по красной дорожке сапоги принадлежали человеку, имеющему самое непосредственное отношение к нашему герою, точнее, его отцу, Ивану Павловичу Ялдычеву. В его тетради мы и нашли это имя: взир зауми.
Стихи из «Коричневой тетради»
Ода
Визирь ярится. Кровь Эллады
И резво скачет и кипит.
Открылись грекам древни клады,
Трепещет в Стиксе лютый Питт.
И се – летит предерзко судно
И мещет громы обоюдно.
Сей Бейрон, Феба образец,
Притек – но недруг быстропарный,
Строптивый и неблагодарный
Взвел смерти на него резец.
Певец бессмертный и маститый,
Тебя Эллада днесь зовет
На месте тени знаменитой,
Пред коей Цербер здесь ревет.
Как здесь, ты будешь там сенатор,
Как здесь почтенный литератор,
Но новый лавр тебя ждет там,
Где от крови земля намокла;
Перикла лавр, лавр Фемистокла;
Лети туда, снегирь наш, сам.
Вам с Бейроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесть.
Он – лорд, граф – ты! Поэты оба!
Се, мнится, явно сходство есть —
Никак! Ты с верною супругой
Под бременем судьбы упругой
Живешь в любви – и наконец
Глубок он, но единобразен.
А ты глубок, игрив и разен —
А в шалостях ты впрямь певец.
А я, неведомый пиита,
В восторге новом воспою
Вослед пиита знаменита
Правдиву похвалу свою.
Молися кораблю бегущу,
Да Бейрону он узрит кущу,
И да блюдут твой мирный сон
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.
Совет
Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный.
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех – но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпиграммой.
И уходи вперед респираторной гаммой,
Туда-сюда раскачивай ладью,
Не удивляя, огорошить хама
И всю его разверстую семью,
Семью замками заперта печать,
Уста сургучные заклеены лениво,
Глагола проникающая стать
И женщины явление строптиво.
Не повторяй, рефрен им невдомек,
Но вновь явись, как постоянный срок.
Встреча
Здравствуйте, Настасья Филипповна!
Здрасьте, ответила я.
Что ж вы сидите под липами?
Где ж мне сидеть, у ручья?
Воду ль мне выпить забвения,
Птицей на ветку ли сесть
Иль вечноженственным мнением
Душам отдать свою весть?
Здравствуй, прекрасная, милая,
Что ж ты явилась опять
С прежней жестокою силою,
Как нам тебя величать?
Феней ли, Феникс, как хочется,
Роза, Мария иль Рос,
Иль Лорелея-наводчица:
Тут не ответ, а вопрос.
Роза ветров и попутчица,
Призрак иль тень я твоя,
Вечнозеленая спутница.
Здрасьте, скажу, вот и я.
3
По определению Зиммлера, стихи – это зеркало души. Дик Крэнстон утверждает, что «чудачества и даже тики как-то гармонично входили в облик нашего второго героя», и (продолжаем цитату) «не сомневаюсь, были необходимы для его творчества». С этим трудно согласиться, как со слишком банальной интерпретацией столь неординарной натуры, хотя и понятно стремление исследователя увидеть ассоциативную связь между физиологическими проявлениями писателя и его стилистическими приемами. Крэнстон утверждает, что одним из характерных нервных тиков, присущих поэту и, несомненно, специально им культивируемых, была привычка как-то странно втягивать воздух носом: них, них, пока не добивался отчетливого похрюкиванья. Г-н Краснов уверяет, что, по мнению окружающих, в этом, несомненно, было что-то деланное и нарочито позерское. Крэнстон, оспаривая это мнение, замечает, что, «несмотря на эти нервные подергиванья, он держался всегда абсолютно естественно и просто не мог быть иным, ибо обладал безошибочным вкусом, одинаково проявляющимся как в мелочах, так и в крупном, от одежды и манеры держаться до сложнейших вопросов мировоззрения или суждений о жизни и искусстве». Его, Ялдычева-младшего, характеризовала высокая степень джентльменства и не только внешней, но и внутренней благовоспитанности, которую он, конечно, почерпнул у своего отца, еще при старом режиме просидевшего рекордное число лет в Алексеевском равелине, переписываясь с Толстым и подсказав сюжет последней пьесы Чехову: двое ученых любят одну женщину, она сначала любит одного, потом изменяет ему, и он с горя уезжает на Дальний Север. Место действия 3-го акта – пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и в последний момент перед ним проносится серебристая тень любимой женщины.
Сюжет был автобиографичен. В юности отца поэта существовала романтическая история с одной девицей, которую его друг, также причастный «сенатскому каре», однако вместо каторги сосланный на Кавказ, увез с собой, но так и не получил повышения, ибо его любовница, унтер-офицерская дочь, застрелилась у него в палатке (хотя многие утверждали, что он сам убил ее из ревности после одного драматического выкидыша). Подробности были неизвестны. Если это было самоубийство, то у него имелся прецедент. Однажды эта офицерская дочь, страстно его любившая, уже чуть не лишила себя жизни при очередном припадке его ревнивых чувств. Такие вещи всегда передаются на расстоянии. И бесследно не проходят. Идея двойника, двойной любви овладела умом способного юноши, не отпустив с тех пор никогда. А так как мы еще длим прелюдию нашего повествования, то, возможно, лучшим представлением Ялдычева-младшего послужит один из поздних его рассказов, вполне характерный для его психоаналитической манеры. Приводим рассказ полностью, считая, что он выполнит предназначенную ему роль контрфорса.
Двойная тень
Утром 19 октября 1983 года граф Сиверс, собираясь в ресторацию на острова, вышел из своего особняка на Английской набережной, даже не подозревая, что больше сюда не вернется. Рассеянный дворецкий с забытой пуховкой в руке придержал дверцу коляски, пока Дмитрий Сергеич усаживался, махнул рукой, кучер что-то крякнул, кони рванулись и понесли. На Троицком мосту их догнал выстрел крепостной пушки, граф высунулся и увидел туман, серую осеннюю воду и покореженную решетку моста: ее выломал оранжевый «ягуар», очевидно не справившись с управлением, – сейчас его вытаскивали из воды три синеблузника в мокрых кепках, которым помогал молодцеватый квартальный. Дмитрий Сергеич откинулся на подушки, закрыл глаза и стал думать под топот копыт, как бы повел себя на его месте таинственный преступник, обчистивший сейф в квартире его приятеля, английского посланника мистера Дегарделли, а затем жестоко убивший его молодую служанку, которая, как догадался граф Сиверс по расстроенному лицу посланника, находилась с ним в интимной связи. Остановил бы тот коляску, чтобы помочь выудить из воды «ягуар», или проехал бы мимо, сделав вид, что не заметил, – конечно, проехал бы! А жаль. Граф Сиверс был молод, силен, увлекался спортом: боксировал и играл в лаун-теннис. В спине заныло от жажды пропущенного усилия, но он опять закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Ретроспективный узор преступления представлялся ему в виде затейливого орнамента, чем-то вроде импрессионистского лепного фриза, где комбинация неровностей составляла повтор, различимый только: 1) если лепнину уменьшить раз в десять и 2) рассматривать кусок орнамента в достаточной перспективе. При близком рассмотрении узор сливался в невнятицу. Одно противоречило другому. Версия мистера Дегарделли, что это дело рук мерзких большевиков, таким образом провоцирующих муниципалитет на необдуманные шаги, не выдерживала критики. Граф Сиверс не сомневался, что версия Дегарделли лишь аккомпанировала его тайной страсти, ибо для Сиверса было очевидно, что убитая молоденькая служанка была женой посланника, скрытно обвенчанная с ним во избежание огласки некоторых компрометирующих обстоятельств. По крайней мере, так считала она сама и намекнула Дмитрию Сергеичу, когда тот ненароком пытался притиснуть ее в дверях, рассеянно пройдясь по клавиатуре ее юных прелестей. На большевиков Дегарделли валил все: и скандал на пушном аукционе, и похищение внучки председателя Думы, за которую потребовали немалый выкуп, и неудачное покушение на самого графа Сиверса, случившееся три месяца назад. Теперь, умиротворенный мягким рессорным ходом, Дмитрий Сергеич представил себе причудливую картину этих событий несколько иначе, чем в июле, ибо симптомы следующих чередой происшествий проступили отчетливей, и драгоценный проблеск разгадки маячил, возможно, уже за ближайшим виражом. Что ж, пора. У поворота на Каменноостровский граф наклонился вперед, шепнул что-то кучеру, и, когда коляска, забирая вправо, наезжая двумя колесами на тротуар и как бы естественно замедляя ход, поравнялась с приоткрытыми воротами, граф перепрыгнул через дверцу, стремительно влетел в подворотню, боковым зрением успевая заметить стального цвета «dutsun», следующий в отдалении за ним, и резко рванувшую вперед коляску, прикрывавшую его отход. Подворотня, парадная, проходной двор, парадная, улица. Его сиреневое «volvo» стояло там, где он поставил его вчера. Рванул дверцу, сел, врубил зажигание, нажал на акселератор. Мотор угрожающе заворчал, его прижало к сиденью, машина набрала скорость, поворачивая и чуть не цепляясь за угол, он увидел в заднем зеркале пустынную мостовую и понесся, быстро переключая передачи, изломанными переулками. Он симулировал активность и страх, пульс бился, голова была ясная, чувствовал он себя превосходно. Мокрый, скользкий проспект пересек ему путь, загудели клаксоны, он проскользнул перед самым носом двух потоков машин, слыша, как скрипят тормоза и ошалело свистит городовой: не до того. Оторвался. Часа два теперь у него есть, а больше, возможно, и не потребуется. Осведомитель ждал графа в ресторации на островах, и теперь, когда он и его коляска раздвоились, он может отправиться вслед за ней, не боясь, что дезавуирует своего шпиона раньше времени.
Дмитрий Сергеич был не женат, в нем билась жилка авантюриста и азартного игрока, он был протагонистом аристократической идеи и ненавидел словесное жульничество. В порядке некоего парадокса он взялся не за свое дело, менее всего склонный изобличать преступников, а лишь заинтригованный собственной гипотезой будущего. Он родился за год до объявления Санкт-Петербурга вольным городом, и этот промежуток не давал ему покоя не потому, что он считал себя аристократом, более чем гражданином, а вследствие неясности собственного происхождения. Его отцу принадлежало газетное дело в Берлине, Цюрихе, две газеты в Омске, типография и журнал в Крыму и лишь одна бульварная газетка в Петербурге. Его мать попала в лапы еврейских террористов, которые лишили графа значительной части состояния и задумчивого детства; несмотря на полученный выкуп, мать была продана, по слухам, сначала в гарем персидского шаха, а после, когда через правительство Свободной Сибири был сделан запрос, оказалась перепроданной в какой-то латиноамериканский публичный дом, вслед за чем след ее терялся. Отец графа стал попивать, якшаться с отребьем и левыми элементами, а затем попытался передать все свои средства подпольной группе социал-революционеров, действующей в Красной России; и только вмешательство опекунского совета спасло Дмитрия Сергеича от унизительной нищеты. Старый граф был объявлен недееспособным, поселился сначала в Румынии, а затем тайно перебрался в Москву, где опять предпринял меры, чтобы встать на ноги, но, как сообщали газеты, «бывший газетный магнат, очевидно, переоценил свои силы» и теперь лишь «изредка появлялся на приемах», используемый в качестве консультанта, не более того.
Честно говоря, Дмитрий Сергеич подозревал его в склонности к мужеложеству. Он любил свою мать и жалел отца. Книжное дело не прельщало его, он жил на проценты, официально считаясь патроном двух крупных издательств, хотя не прочел за свою жизнь ни страницы, выпущенной им самим, ибо ненавидел прошлое, презирал настоящее и мечтал только о будущем. Он считал себя дилетантом-философом, равнодушно относился к своей и чужой смерти; известие, что его мать приняла магометанство и стала женой одного престарелого турецкого писателя, поселило в нем недоверие к любой религии за исключением буддизма, который он рассматривал как постскриптум человеческой истории, нимало не смущаясь его древностью. Граф был фаталист, стены его квартиры были увешаны увеличенными цветными изображениями мандал, висел портрет Юлиана-отступника; в юности он увлекался Юнгом и не сомневался в том, что чертеж человеческой судьбы напоминает негативную фотографию, и если подобрать соответствующий проявитель, то очертания проступят, пусть не до конца отчетливо, но по меньшей мере эскизно. Транскрипция судьбы – словесная арабеска; фраза может быть ключом, открывающим секретный замок. Он обожал разгадывать криптограммы и ненавидел политику, гордился своим классовым чувством, сетовал на то, что людей на Земле стало слишком много, когда-то любил эпатировать общество изысканными цитатами из Мальтуса и Ю Цина. Он не желал никому зла, только хотел, чтобы ему не мешали. Граф Дмитрий Сергеич Сиверс был сумасбродом, чудаком и филантропом. Он, утаивая это от прессы, помогал двум молодым репортерам, решившим вытащить из лап большевиков одного скрывающегося на острове в излучине Оки знаменитого философа, и одной девице-горбунье, каждое первое число отправляя ей в голубом конверте любовное послание и небольшой чек на предъявителя.
Его любовные истории были неуклюжи и быстро набили ему оскомину. В детстве он был полувлюблен в свою кузину с толстыми ляжками и очаровательным пушком на щеках, потом в свою тетку, которая приучила его к прерванному коитусуи, эксплуатировала оральные сношения, чтобы не допустить кровосмешения. Сначала он любил ее, потом ненавидел, затем стал уважать. Тетка жила почти рядом, через квартал, во дворце великого князя, будучи его любовницей, хотя после провозглашения Петербурга вольным городом титулы потеряли смысл, и почти вся знать перебралась в столицу Вольной Сибири Оренбург. Учась в университете, граф Сиверс написал работу о Гражданской войне, которую ретроспективно сравнивал с семейным адюльтером, после которого каждая сторона отдала предпочтение своему полу: Сибирь он окрашивал розовым лесбийским цветом, Красную Россию – голубым гомосексуальным, и лишь Петербург тонул у него в тумане фатальной неопределенности. Назвав хиреющую монархию старой лесбиянкой-мастурбаторшей, а большевиков – угрюмыми педерастами, он нажил себе врагов больше, чем можно было предположить, и был объявлен персоной нон грата по обе стороны границы. Сначала это его забавляло, потом бесило. Жить в городе-острове, в условиях непрекращающейся блокады, не имея ни профессии, ни потребности и необходимости зарабатывать себе на хлеб, и знать при этом полгорода в лицо – было утомительно. Беря уроки у чемпиона в легком весе, он освоил стремительные боковые удары и впоследствии, набрав с годами вес, продолжал поражать соперников бешеными свингами. Он был вынослив, как гончая, хорошо потел, ощущая от этого облегчение, и теперь, мчась на головокружительной скорости по шоссе, которое заглатывалось его машиной, как итальянские спагетти, чувствовал себя в возбуждении, напоминая беговую лошадь перед стартом. Он жаждал усилия, напряжения, противоборства, ему хотелось задушить угрюмого врага собственными руками, борясь с ним, как с женщиной, и его унижал холод револьвера под мышкой. Тот человек, которого он подозревал, по слухам, был поразительно похож на него: только выше ростом, крупнее, с шапкой лохматых курчавых волос, огромный верзила с садистскими наклонностями, несомненный женоненавистник, ибо убивал – и достаточно изощренно – только дам, распарывая им живот от паха до горла и запихивая им в рот их собственные кишки. По картотеке жандармерии он значился под именами Сильвестра Петрова, Саввы Никонова, месье Лагранжа. В том, что он наемный убийца, не сомневался только граф Дмитрий Сергеич. Остальные считали его заурядным маньяком-дилетантом, однако их можно было понять. Они не знали того, что знал граф Сиверс, однажды в течение получаса рассматривавший фотографические копии документов архива мистера Дегарделли, веером разложенные перед ним услужливым секретарем посланника. Затем пальцы собрали фотографии, раздумчиво потасовали их, как колоду карт, после чего вся пачка полетела в камин. Транскрипция фактов, проступавшая через подоплеку последнего обстоятельства, с фатальной очевидностью доказывала, что агентом большевиков был не кто иной, как сам мистер Дегарделли – английский посланник и лучший друг графа Сиверса. Быстрая перестановка в пространстве причудливой гипотезы привела почти к очевидному выводу: у магического треугольника должна быть третья сторона и третий угол. Кто он? Не един ли он в трех лицах? Не софизм ли утверждение, что любая фигура стремится к устойчивости и симметрии, и надо ли обладать чрезмерно испорченным воображением и изощренным умом, чтобы обнаружить превосходство цифры «три» перед «двойкой»? Цифра ненавидела цифру, буква букву, презирая в ней не что иное, как наружный вид. Когда эта мысль пришла в голову Сиверсу, он сначала обрадовался, затем опечалился. Ему не принадлежало ничто в этом мире, даже собственные мысли. Чтобы убедиться в этом, он еще ночью прошлепал босиком в библиотеку, чтобы найти там том Лукиана. Кажется, диалог «Суд гласных». Да, так и есть. Значит, он не больше, чем тень самого себя и двойник собственного преступления. Выхода не было. Пусть считают, что попал в западню и стал жертвой обстоятельств и собственной самонадеянности.
Сильвестра Петрова так и не найдут, зато у него будет совершенное алиби…
Накрапывал дождь, когда, мягко шурша шинами по деревянному настилу моста, он свернул на усыпанную гравием дорожку и, убедившись, что за ним нет хвоста, покатил по аллее, слыша, как ивовые ветки, издавая нежный звон, царапают его «vоlvo». Гуляющих почти не было. Еще три-четыре поворота, и машина уперлась в тупик. Он загнал ее поглубже в кусты, досадливо морщась от скрежета дерева по металлу. Затем распахнул дверцу и прислушался. Город шумел где-то там, отделенный от него зеленой зоной. Тишина, хруст веток и шелест листьев, возможно, от ветра, возможно, от осторожных шагов. Треугольник должен быть замкнут. Двойник должен существовать. Граф Сиверс вздохнул и стал снимать пиджак.
Через десять минут раздался негромкий выстрел. Эхо было сухим и коротким.