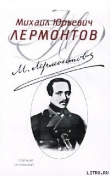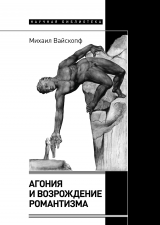
Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
Автор книги: Михаил Вайскопф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Случай, который повторился
Неучтенные источники Гоголя
Та обстоятельная работа по выявлению контекста и самих источников гоголевских произведений, которую ведут редакторы и комментаторы Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах, заслуживает, на мой взгляд, высокой оценки, и остается только уповать, что это издание каким-то чудом будет доведено до конца. При создании столь капитальных трудов неизбежны, однако, и досадные лакуны. Цель этих заметок – по возможности убавить их число.
Дебют и украинские повести
При обращении к гоголевскому дебюту кое-какие значимые дополнения стоит внести в генезис его поэмы «Ганц Кюхельгартен». Речь идет о том панегирике Германии, которым замыкается эпилог:
И с неразгаданным волненьем
Свою Германию пою.
Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!
Тебя обняв, как некий Гений,
Великий Гетте бережет,
И чудным строем песнопений
Свевает облако забот.
Возможно, эти строки были навеяны В. Филимоновым, точнее его ироническими, но одновременно весьма комплиментарными стихами о Германии, включенными в поэму «Дурацкий колпак» (1828):
О, как Германия мила!
Она, в дыму своем табачном,
В мечтаньи грозном, но не страшном,
Нам мир воздушный создала,
С земли на небо указала;
Она отчизна идеала,
Одушевленной красоты,
И эстетической управы,
И Шиллера, и Гете славы.
Она – приволие мечты[40]40
См. Филимонов В. С. Дурацкий колпак (1828) // Поэты 1820–1830-х гг. Л.: Сов. писатель, 1972. Т. 1. С. 151.
[Закрыть].
Другой пример относится к еще одному юношескому тексту Гоголя – диалогу «„Борис Годунов“. Поэма Пушкина», где ощутимо стилистическое воздействие Веневитинова, точнее переведенного им отрывка из «Фауста» («Московский вестник», 1827). У Гоголя, в частности, сказано:
И когда передо мною минувшее и серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии…
Ср. у Веневитинова:
Генезису «Страшной мести» посвящено немало изысканий. Но кажется, в фокус исследователей, отмечавших театральные, а именно оперные, впечатления в качестве возможных источников Гоголя, до сих пор не попадала опера А. Н. Верстовского «Пан Твердовский»[42]42
Упущение это выглядит тем более казусно, что Верстовский и сам обратился позднее к сюжету «Страшной мести», написав в 1840 году одноименную оперу. См. комментарий к «Страшной мести»: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 1. М.: Наука, ИМЛИ РАН, 2003. С. 816.
[Закрыть]. В 1828 году она с успехом шла в Москве, а в начале 1829-го – и в Петербурге; молодой С. Т. Аксаков написал на нее в 1828 году развернутую рецензию, где подробно пересказал и либретто М. Загоскина[43]43
Любитель русского театра (Аксаков С. Т.). Опера, Пан Твердовский // Атеней. 1828. Ч. 3. № 9. С. 226–232.
[Закрыть]. Читатель встретит там многие ключевые компоненты будущей гоголевской повести: страшный грешник, его чародейство, вызывание духов и весь готический антураж: дремучий лес, гробницы с пробуждающимися мертвецами, горящий замок над водой и т. д. Подобно гоголевскому колдуну, Твердовский бежит в ужасе от вызванных им демонических сил.
Комментаторы совершенно справедливо отметили в повести «возможную реминисценцию из стихотворения В. А. Жуковского „Подробный отчет о луне“ (1820). Ср.: „…неведомая сила / Вадима в третьем челноке / Стремила по Днепру-реке, / Над ним безоблачно сияло / В звездах величие небес; / Река, надводный темный лес, / Высокий берег – все дремало; / <…> / Он слышит: что-то тишину / Смутило; древний крест шатнулся, / И сонный ворон встрепенулся; / И кто-то бледной тенью встал“»[44]44
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 1. М.: Наука, ИМЛИ РАН, 2003. С. 823.
[Закрыть]. Напомним о соответствующем эпизоде у Гоголя:
Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. <…> Тихо поднял он руки вверх <…> Пошатнулся третий крест, вышел третий мертвец <…> страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца.
Несомненно, сюда будет уместно приобщить и балладу Жуковского «Вадим» (1817), предшествовавшую «Отчету»:
Еще одна сцена «Страшной мести» подсказана была преромантическим стихотворением П. А. Словцова «Древность» (журнал «Муза», 1796). Я имею в виду те гоголевские строки, где описано появление исполинского мертвеца в Карпатских горах:
Но кто середи ночи <…> едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? <…> Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его.
У Словцова читаем:
Интонационный и ситуативный строй созвучных пассажей в повести навеян был также И. И. Козловым (о котором Гоголь написал приблизительно в одно время с «Вечерами…» восторженную статью, оставшуюся тогда ненапечатанной). Образчиком для них послужили строфы из поэмы Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (1828):
Настала ночь. Горой крутою
Кто легкой тенью меж кустов,
Кто сходит позднею порою
На склон песчаных берегов?
Она… Зачем ей, одинокой,
Идти на Днепр в ночи глубокой?
Бушуют волны на реке,
Зарница блещет вдалеке,
И тучи месяц застилают[47]47
Козлов И. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 402–403.
[Закрыть]…
Ср. в «Страшной мести»: «Кто-то спускался с горы <…> Зачем и куда ему идти в эту пору?»; «Кто из казаков осмелился гулять <…> в то время, когда рассердился старый Днепр?», а также показ обезумевшей Катерины, скитающейся осенней ночью по берегу Днепра.
При изучении «Тараса Бульбы» также стоит, мне кажется, чаще обращаться к массовому романтизму – такие экскурсы сулят нам немало сюрпризов. В насквозь будничном, казалось бы, «Постоялом дворе» Степанова, вышедшем одновременно с «Тарасом Бульбой», дается такое же сравнение летящих коней со змеями, как то, что в «Мастерстве Гоголя» восхитило Андрея Белого, который усмотрел в этом гоголевском штрихе «чудо ракурса». Некоторые ритмические повторы повести – я имею в виду то место, где Тарас угощает запорожцев заветным вином под сакральные тосты – подсказаны были ему, видимо, повестью барона Е. Розена «Очистительная жертва»: «Выпьем, братцы, в честь этой славы! – И все повторили: Выпьем за славу, за храбрость русского воинства!!!»[48]48
См.: Розен Е. Ф. Очистительная жертва // Альциона на 1832-й год. СПб., 1832. С. 111. С. 31–112.
[Закрыть]
А знаменитый афоризм Андрия Бульбы «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша» можно было еще раньше найти у второстепенного писателя Лесовинского в повести «Человек не совсем обыкновенный»: «Ибо не там отчизна наша, где мы в первый раз узрели мир Божий, а там, где жила душа наша»[49]49
См.: Лесовинский. Человек не совсем обыкновенный // Телескоп. 1833. Т. 17. № 17. С. 67.
[Закрыть]. Сама же любовь Андрия к прекрасной полячке и связанное с ней эстетическое влечение героя к католичеству, инспирированное потрясшей его органной музыкой (вторая редакция, 1842), подхватывают комплекс мотивов, заданный в повести Е. Ган «Джеллаледин» (1838), где выведен молодой татарин, влюбившийся в русскую девушку. Впервые услышанная им русская песня – такая же томительная и влекущая, как та, что прозвучит в «Мертвых душах», – и «звуки инструментов» («Никогда подобная гармония не касалась его слуха») подталкивают ошеломленного героя к обращению в чужую веру – на сей раз в православие[50]50
См.: Ган Е. А. Джеллаледин // Библиотека для чтения. 1838. Т. XXX. № 1. С. 147.
[Закрыть].
Петербургский цикл и «Рим»
Сложнейшая многоуровневая семантика петербургского цикла взывает к внимательному изучению его интертекстуальных связей и контекста – как отдаленного, так и ближайшего, газетно-журнального. Только при такой методологической установке можно будет выявить степень гоголевской индивидуальности в трактовке тем и сюжетов, являвшихся общим достоянием эпохи. Скажем, картина демонического бала в «Невском проспекте» близка к соответствующим эпизодам из повести А. Тимофеева «Мой демон» (1833), герой которого тоже тщетно разыскивает возлюбленную на такой же ярмарке бесовской суеты. В разгар бала он подходит к карточному столу – и встречает «глубокое молчание, угрюмые, важные лица, неподвижные взоры»[51]51
Тимофеев А. В. Опыты // [соч.] Т. м. ф. а.: В 3 ч. Ч. 2. СПб.: Н. Глазунов, 1837. С. 70.
[Закрыть]. У Гоголя на балу изображены мрачные «тузы, погруженные в молчание».
В. Виноградов, проделавший ценнейшую работу по «ринологической» проблематике и контексту гоголевского «Носа», мог бы дополнить свои наблюдения еще одной пространной аналогией. Мы нашли ее в последнем томе «Постоялого двора» А. П. Степанова (начало 1835 года):
Носик – но кто смеет описывать этот член лица, изображенный с такою смелою гиперболою в песнях песней великого поэта древности и отверженный почти всеми поэтами настоящих времен? Кто займется, например, переносицею, изгибами, выгибами, ноздрями? Фуй! Фуй!.. О! это последнее считается даже предосудительным, смешным, отвратительным! Странная вещь! главная фигура на гербе человеческого состава, то есть на лице его, ускользает всегда из-под руки литератора портретиста, и только, только разве удостаивается всегдашней отметки в плакатных паспортах: нос прямой, а спросите-ка у Лаватера![52]52
См.: Степанов А. П. Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым: В 4 ч. Ч. 4. СПб.: тип. А. Смирдина, 1835. С. 91.
[Закрыть]
И т. д., и т. п. – настоящий гимн «члену лица», способный заворожить майора Ковалева. Но сюда можно присоединить и отрывок из кн. Вяземского – из его более раннего «Послания Башилову» (1828). Тут, к слову сказать, упомянута даже кондитерская – вроде той, куда позднее дважды заходит у Гоголя майор Ковалев «нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало»: сперва убедиться в утрате носа, а затем – самодовольно удостовериться в его счастливом возвращении. Ср. у Вяземского:
В повести князя В. Ф. Одоевского «Импровизатор» («Альциона на 1833 год»)[54]54
(Одоевский В. Ф). Подпись: ъ. ъ. й. Импровизатор. (Посв. В. И. Ланской) // Альциона на 1833-й год. СПб., 1833. С. 51–86.
[Закрыть] впервые у него выведен был персонаж по имени Сегелиель, который вскоре станет одним из прямых предшественников гоголевского антихриста-ростовщика в «Портрете». Подобно ему, он обладает непостижимым умением «разорять всех, кто имеет с ним дело, вместе со всеми членов их семей <…> родственниками и детьми их». И далее: «Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь, – тучи проходили мимо замка Сегелиелева и разражались над домами и житницами его неприятелей» (через пять лет у Одоевского, впрочем, появится и более привлекательный портрет одноименного персонажа).
В «Портрете» несчастья художника, поддавшегося дьявольскому соблазну, предваряются его размышлениями о необходимости душевно солидаризироваться с природой, сочувствовать ей:
Или если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности <…> какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека.
Символом такой бесчувственности, внушенной алчностью и легкомыслием, станет травестийное изображение Психеи, банализированной живописцем, который продал душу дьяволу. В другом месте повести коммерческой поделке противостоит «прекрасное, чистое как невеста» произведение художника, истово преданного искусству. Как видим, эта альтернативная картина ассоциируется с Мадонной.
Опять-таки возможным источником мог послужить здесь тот же «Импровизатор» (где, кстати, дан заодно близкий мотив оживающих графических изображений). Инфернальный Сегелиель в данном случае олицетворяет у Одоевского холодный и бездушный рационализм Просвещения. Само его имя, очевидно, подсказанное какими-то каббалистическими интересами автора, восходит к древнееврейским словам: сехель ли-эль – то есть «разум (или рассудок) мне Бог». Соответственно своей рассудочной сущности Сегелиель искушает поэта Киприяно, наделяя его аналитическим даром – дьявольским уменьем видеть «расчисленными» все силы природы: «Перед Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки». Взглянув на любимый им образ Мадонны, «он в творении художника видел лишь химическое брожение»; «Все в природе разлагалось перед ним, но ничто не соединялось в душе его <…> ничто в мире не сочувствовало ему»[55]55
Цит. по: Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: Сб. произведений / Сост. и автор коммент. А. А. Карпов; автор вступ. ст. В. В. Маркович. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 76–81.
[Закрыть].
Образ Аннунциаты в «Риме» во многом предопределен был общей тягой культуры 1830–1840-х годов к возрождению античных образов. Неудивительно, что в героине различимы черты итальянок Греча, Тимофеева, статуарных типажей Кукольника. Но воздействие массового романтизма на «Рим» идет и по другой линии. Скажем, Пеппе, неутомимый и вездесущий помощник князя, очевидно, представляет собой благодушную версию одного из действующих лиц романа П. Каменского «Искатель сильных ощущений». Это куда менее обаятельный, но столь же неугомонный и расторопный итальянец, слуга Педро, о котором его хозяин вспоминает так:
Педро был все, что хотите в Генуе: матрос, который первый на своем тартане привез известие о возвращении генуэзского экипажа из Перу в 93-м году; Педро в Неаполе был бы первым бандитом и за червонец прирезал бы хоть самого герцога, кого вам угодно; в Венеции лучшим торгашем, и перещеголял бы любого жида; Педро… но всего не перескажешь про Педро; жаль, что нет теперь у меня Педро![56]56
См. Каменский П. П. Искатель сильных ощущений // Соч. Каменского: В 3 ч. Ч. 1. СПб.: тип. А. Смирдина, 1839. С. 108–109.
[Закрыть]
«Не шей ты мне, матушка…»
Генезису «Записок сумасшедшего» традиционно уделялось много внимания[57]57
См., например: Золотусский И. П. «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела» // Поэзия прозы: Статьи о Гоголе. М.: Сов. писатель, 1987. С. 145–164 (автор поддержал и развил давние наблюдения В. Гиппиуса); Пумпянский Л. В. Гоголь // Классическая традиция: Собр. трудов по истории русской литературы. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 337–340; Fusso S. The Landscape of «Arabesques» // Essays on Gogol: Logos and the Russian Word / Ed. by S. Fusso, P. Meyer. Evanston (Illinois), 1992; Козлов А. Культурологическая аллюзия в «Записках сумасшедшего» // Н. В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия. Первые гоголевские чтения: Сб. докл. / Под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Кн. дом «Университет», 2002, С. 93–95. Ср.: Sergl A. Gogol’ s Opium: Genesis and Meaning of the Piskarev Sujet in «Nevskii Prospekt» // Wiener Slawistischer Almanach. 1997. Bd. 39. Р. 178–179.
[Закрыть]. И все же их текст заслуживает более широкого обращения к тогдашней русской словесности. Так, Гамбург, где по мнению Поприщина «обыкновенно делается луна», находит некоторые вещие соответствия в «Зимних карикатурах» Вяземского (1828):
Литературно-критическое суждение Поприщина касательно «очень приятного изображения бала, описанного курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут», возможно, было навеяно «Северной пчелой», поместившей в 1832 году анонимную и восторженную корреспонденцию из Курска – о тамошнем бале: «Я не в силах описать тебе ту роскошь, то великолепие, которые отражались в каждом предмете сего чрезвычайного бала <…> Тысячи, мириады прелестно расположенных разнородных огней <…> ослепляли зрение, поражали чувство!», и т. д.[59]59
(Б. п.). Письмо из Курска в столицу // Северная пчела. 1832. № 52.
[Закрыть]
Когда Поприщин сокрушается о том, что люди напрасно «воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет; он приносится ветром со стороны Каспийского моря», в этом рассуждении уловимы травестийные переклички с маститым натурфилософом романтической эпохи Г. Штеффенсом (Стеффенсом). В 1834 году, до создания гоголевской повести, М. Розберг в своих «Литературных листках», издававшихся как приложение к «Одесскому вестнику», опубликовал его пространную работу «О постепенном развитии природы», где встречаются не менее экстравагантные указания на прямую связь «между мозгом и подвижной атмосферою»; см. там же: «Всеобщий и необособленный мозг есть воздух»[60]60
См. Стеффенс (Г.). О постепенном развитии природы // Литературные листки, прибавление к «Одесскому вестнику» № 8, 9, 10, 11. Одесса, 1834. С. 73, 75.
[Закрыть]. (Иное дело – упомянутое Гоголем Каспийское море: в пиетистской традиции оно имело демонологические коннотации.)
С начала того же 1834 года в надеждинском «Телескопе» печаталась повесть В. Андросова «Случай, который может повториться» (отчасти примыкающая к жанру Kunstnovellen). Герой, поклонник искусств и мечтатель Александр Иванович, негодует на несовершенство мира, захваченного пошлой бесовщиной[61]61
Андросов В. Случай, который может повториться // Телескоп. 1834. Ч. 20. № 11. С. 140, 147.
[Закрыть]. Рехнувшись, он в сумасшедшем доме изрекает теории, по самобытности не уступающие будущим откровениям Аксентия Ивановича: «А знаете ли вы, что у женщин организация слуха иначе устроена, нежели у нас? <…> Да, у них ухо прямо соединяется с башмаком; у нас с мозгом; это небольшая разница»; «Ловкость в танцах требует больше ума, чем вся ваша ученость <…> Вы знаете, где орган смелости? – Разверните Шпурцгейма – возле ушей: есть прямая пропорция между длиною ушей и человеческим духом во всех его свойствах», и т. д.
У обоих безумцев, андросовского и гоголевского, имеется заветный идеал – утраченная деревенская Русь. Там, под звуки «простой песни» любящей матери, протекало когда-то детство тоскующего Александра. Поприщин же просто возвращается к своей загробной «матушке» в фантасмагорическом полете:
В последнем, предсмертном монологе андросовского страдальца его ностальгический порыв получит, как и у Поприщина с его «алжирским деем», трагически несуразное разрешение:
Впору напомнить, что «Не шей ты мне, матушка…» – это та самая песенка, которую будет насвистывать у Гоголя Хлестаков[64]64
Показательно, что некоторые отголоски андросовской повести – ее характерологические пассажи – ощутимы у Гоголя и в других сочинениях. Ср. хотя бы андросовские размышления о таинственной привычке почесывать в затылке как «движении, неизбежном у русского человека, когда он не знает, или не хочет, или считает недолжным выразиться прямо. Почесывая затылок, он как будто хочет угомонить поднятую мысль и, в то же время, с лукавым простодушием дает вам понять, что у него есть что-то на сердце, что он не высказал» (Телескоп. 1834. Ч. 20. № 9. С. 18–19) и у Гоголя в конце 10-й главы «Мертвых душ»: «Что означало это почесывание? и что вообще оно значит?» и т. д.
[Закрыть].
Между тем вслед за повестью Андросова в том же самом номере «Телескопа» шла анонимная переводная заметка о современных политических делах в Испании, точнее о борьбе за ее престол, – «Дон Карлос, инфант испанский». В свое время В. Л. Комарович, комментируя гоголевскую повесть, подметил, что мнение Поприщина – «Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король» – в общем соответствует позиции Дона Карлоса, как она излагалась еще в 1833 году в «Северной пчеле»[65]65
См. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 3. С. 703.
[Закрыть]. Но столь же правомерно было бы соотнести легитимистские взгляды Поприщина и с трактовкой испанских событий, представленной в «Телескопе». Допустимы и другие сопоставления. Так, поприщинская кухарка Мавра, узнав, что ее барин оказался испанским королем, перепугалась, поскольку, как полагает герой, «находилась в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства». Предубеждения Мавры подсказаны, быть может, все той же журнальной статьей, где говорилось:
Некоторые сравнивают характер принца с мрачным характером Филиппа II; но всякое суждение о нем, основанное на сем сходстве, будет также совершенно превратно. Если сходство сие и существует, не нужно забывать, что Дон Карлос обладает всеми… добродетелями[66]66
См. (Б. п.). Дон Карлос. Инфант испанский, с. 159–162 // Телескоп. 1834. Ч. 20. № 11. С. 160.
[Закрыть].
Критика и эссеистика
Николай Полевой, которого не жалует большинство гоголеведов, мог бы стать для них весьма ценной фигурой, причем в разных своих жанрах, – например, в комедийных зарисовках (ср. хотя бы гоголевскую «Тяжбу» с его драматической сценкой «Утро в кабинете знатного барина»[67]67
См. (Полевой Н.) Утро в кабинете знатного барина // Московский телеграф. 1830. Т. 33. № 10. С. 159–161.
[Закрыть]). С собственно романтическими взглядами Полевого во многом совпадают и эстетические установки Гоголя. Его сетования в «Арабесках»: «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным» сходятся с обличительными сентенциями Полевого в «Абадонне» (1834) или в критических эскападах последнего – хотя бы в рецензии на «Собрание стихотворений Ивана Козлова», где он порицает свет, который делает «каждое из честолюбий мелким»[68]68
Московский телеграф. 1833. Т. 50. № 11. С. 323.
[Закрыть].
Естественно, что эстетика Гоголя выказывает зависимость не только от русских, но и от западных сочинений. Одно из свидетельств тому – переводная статья Эдгара Кине «О состоянии искусств в Германии», вышедшая в самом начале 1833 года. Согласно Кине, язык живописи
стремится в высоту, вырывает себя по образцам величественных памятников готического зодчества, не ломаясь, не обрываясь нигде, он увенчивает себя при каждом слове украшениями и арабесками; вкореняется везде; всюду внедряется; всюду распускается на несметные листья; вяжется в снопы над своими колоннами; ползет; спускается; воздымается снова, не переводя духа, не останавливаясь нигде; и, когда таким образом создаст из себя памятник, весь из одного камня, почти из одной фразы, мысль исторгается из него, яркая и шумная, подобная звуку, извлекаемому из высоких сводов мрачного готического собора.
Специалист по Гоголю, конечно, сразу опознает здесь риторические узоры, которые повторятся в его статье «Об архитектуре нынешнего времени»[69]69
Другие влияния на нее идут со стороны Шатобриана, Гюго, Гофмана и Надеждина. См.: Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. С. 202; Вайскопф М. Влюбленный демиург… С. 280. Там же см. о влиянии Кине на статью Гоголя «О малороссийских песнях».
[Закрыть]. Однако сходство этим не исчерпывается. Продолжая свои размышления (внушенные Гердером), Кине переходит к восточным религиям – и тут его картины предвосхищают гоголевскую утопию соединения разновременных и разностильных памятников мировой архитектуры на вытянутом пространстве одной улицы. «Все сии младенчествующие религии, – пишет Кине, – наследующие друг другу через ряды столетий, образуют как бы бесконечную процессию, воспевающую устами народов единое „осанна!“ на безмерной базилике Азии». Изображены олицетворенные Индия, Персия, Вавилония, Бактра, Египет, Халдея, цепенеющие либо содрогающиеся в экстатических позах; а затем дан контрастный переход к Святой Земле:
Смотрите! сии блуждающие религии благословляют на Востоке праг, через который вступает в жизнь род человеческий. Умолкните, таинственные птицы, гнездящиеся на обелисках Нила! Умолкните, единороги Евфрата! Грядет Агнец Божий! Иудея, где он закаляется в жертву, сама оканчивает собой великое жертвоприношение младенчествующего мира <…> Ниневия и Вавилон, где ваши златотканые одежды, златошвейные нарамники?[70]70
Телескоп. 1833. Т. 13. № 1. С. 14–15.
[Закрыть]
Это, по сути, та же динамика, которую запечатлеет Гоголь в этюде «Жизнь», – все страны древнего мира в смирении растерянно поникают перед той, где родился Спаситель:
Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи. <…>
Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли…
Гоголевское «Завещание», открывавшее первую редакцию «Выбранных мест из переписки с друзьями», как отчасти и сама эта книга, в жанровом плане навеяны «Замогильными записками» Шатобриана (которые, к слову сказать, во Франции встретили столь же иронически враждебное к себе отношение, что и в России поучения Гоголя); а рассуждения о грядущих судьбах и предназначении русской поэзии напрашиваются на сопоставление с некоторыми текстами Ламартина, например с его «Путешествиями по Востоку» (где можно отыскать заодно и кое-какие приметы гоголевской Аннунциаты).
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» неожиданно просквозят также философские афоризмы Гейне, подсказанные тому «Критикой чистого разума» Канта, к философии которого в целом Гоголь не питал, правда, ни малейшего интереса. В 1832-м Иван Киреевский в своем «Европейце» опубликовал «Отрывки из письма Гейне о парижской картинной выставке 1831 года», где, в частности, говорилось:
В одной из статей «Выбранных мест…» – «Христианин идет вперед» – Гоголь, молчаливо используя именно это элементарное определение, полицейские свойства разума переносит на ум, а то, что Гейне называет «дурачествами», отождествляет уже со страстями:
Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть.
Дальнейшая иерархия интеллекта строится у Гоголя с оглядкой на христианскую антропологию, венчаемую премудростью: ум
находится в зависимости от душевных состояний <…> Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе как победой над страстьми <…> есть высшая еще способность; имя ей – мудрость, ее может дать нам один Христос <…> Тот, кто имеет уже и ум, и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней.
В данном случае допустима перекличка и с отзывом Н. Полевого на книгу А. Галича «Опыт науки изящного» (1826). Согласно Галичу в изложении Полевого, науки «принимает смысл, принимает разум, но творит один гений блага, или ум, облеченный в мудрость, или высший разум»[72]72
Полевой Н. А. Рецензия на книгу А. Галича «Опыт науки изящного» // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т. М.: Искусство, 1974. Т. 2. С. 352.
[Закрыть].
Пушкин глазами Гоголя
Все помнят ту интерпретацию, которую, по утверждению Гоголя, дал его творческому дару Пушкин:
Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей.
Трудно, конечно, оценить степень достоверности этой ссылки, но в любом случае заслуживает внимания ее удивительное сходство с характеристикой Людвига Тика, развернутой в работе йенского профессора О. Л. Б. Вольфа «Die schöne Literatur Europa’s in der neuesten Zeit». Соответствующий фрагмент содержится в обширном извлечении из этой монографии, напечатанном в «Телескопе»:
Самый отличительный характер Тика есть особенный взгляд на мир: взгляд, исполненный иронии, который представляет вещи такими, каковы они в самом деле, и заставляет нас верить, что поэт сам считает их очень хорошими; в самом же деле показывает предмет достигшим до последней точки своего развития только для того, чтобы тем ярче выставить глупость и пустоту явлений[73]73
Телескоп, 1833. Т. 15. № 12. С. 505. Ср. заодно заметки Гоголя к «Мертвым душам»: «Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота <…> Еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни».
[Закрыть].
Гоголевскую рецепцию Пушкина мне уже приходилось затрагивать в статье «„Зачем так звучно он поет?“ Гоголь и Белинский в борьбе с Пушкиным»[74]74
См. в моей книге Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
[Закрыть], где я пытался продемонстрировать определенную зависимость гоголевских суждений от позиции критика. В значительной мере оба они ориентировалась, однако, на общепринятые метафорические оценки подвижного и многоликого творчества Гете. Можно предположить, в частности, – хотя этот вопрос требует дополнительной проверки, – что В. Менцель из «Молодой Германии», экспансивно обруганный Белинским в известной публикации «Менцель – критик Гете»[75]75
Правда, Белинский со временем стал относиться к Гете куда менее почтительно. Подробнее см.: Сергиевский И. Гете в русской критике // Литературное наследство. Т. 4–6. М.: Жур. – газ. объединение, 1932. С. 728–739.
[Закрыть], при ее посредстве повлиял и на подход самого Белинского к Пушкину – и, косвенно, также на гоголевское отношение к нему.
В статье 1824 года «Разговор с Ф. В. Булгариным», напечатанной в «Мнемозине», динамический плюрализм немецкого классика Кюхельбекер возвел в его главное достоинство:
С дивною легкостью Гёте переносится из века в век, из одной части света в другую. В «Фаусте» и «Геце» он ударом волшебного жезла воскрешает XV век и Германию императоров Сигизмунда и Максимилиана; в «Германе и Доротее», в «Вильгельме Мейстере» мы видим наших современников и современников отцов наших, немцев столетий XIX и XVIII всех возрастов, званий и состояний; в «Римских элегиях», в «Венецианских эпиграммах», в путевых заметках об Италии встречаем попеременно современника Тибуллова, товарища Рафаэля и Бенвенуто Челлини…[76]76
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 466.
[Закрыть] – и т. д.
Позднее аналогичный взгляд перейдет и в знаменитое стихотворение Баратынского «На смерть Гете» (1833): «На все отозвался он сердцем своим, / Что просит у сердца ответа <…> / Все дух в нем питало: труды мертвецов, Искусств вдохновенных созданья, / Преданья, заветы минувших веков, / Цветущих времен упованья. / Мечтою по воле проникнуть он мог / И в нищую хату, и в царский чертог…»
В том же духе, в каком Кюхельбекер и Баратынский воспевали Гете, через много лет будет говорить и Гоголь о Пушкине в своей статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», включенной им в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек <…> все черты нашей природы в нем отозвались». Это тот же дар чуткости, что у Баратынского рисуется достоянием Гете: «На все отозвался он сердцем своим»[77]77
Симптоматично, кстати, что Гоголь, словно затушевывая генезис темы, отдает здесь подчеркнутое предпочтение Пушкину перед Гете: перелагая его «Фауста», Пушкин, говорит он, сумел «сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, – и дивишься, как метко она понята и как сосредоточена в одно ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете».
[Закрыть].
Напомним, что Гете, ввиду его пресловутой «всеядности» и безмятежно олимпийского спокойствия, в Германии называли Протеем. В России же по почину Гнедича это прозвище переносили, как известно, и на Пушкина. Однако в Германии протеизм Гете мог трактоваться и резко отрицательно – именно так относились к нему литераторы «Молодой Германии» и Гейне. Согласно этой враждебной интерпретации, Гете лишь равнодушно скользил по поверхности явлений, оставляя в стороне от поэзии собственную холодную личность и, так сказать, беспринципно меняя взгляды сообразно предмету описания – в разительном отличии от цельного и прямодушного Шиллера. Как раз такую дихотомию, только с привлечением вполне конкретной альтернативы, уже развертывал Генрих Гейне в своей «Романтической школе». Отрывок из нее под названием «О Гёте и Шиллере» появился в 1834 году в «Телескопе». Если Шиллер как поэт-творец, по Гейне, «уподобился Богу, Который творит по Своему подобию», то Гёте – безучастный пантеист, сосредоточенный только на своих темах. «Поэзия Гёте не побуждает к действию, как поэзия Шиллера». Ср. там же:
Его индифферентизм был также следствием пантеистического воззрения на мир. Если Бог во всем, – то не совершенно ли равно заниматься тем или другим, облаками или древними камнями, народными песнями или чучелами обезьян, людьми или комедиантами? Но Бог не в материи, как думали древние; Бог в успехе, в духе, в стремлении, как выражается Гегель. Сей Бог успеха, стремления, Бог духа, не терпит равнодушия. Гёте, как равнодушный пантеист, не думал о пользах человечества: он беспечно и спокойно играл в искусства, в анатомию, в систему цветов, в познание растений, в наблюдение облаков. Бог не в этом, а в движении, в действии; Бог живет и деет[78]78
Телескоп. 1834. Т. 34. № 3. С. 157.
[Закрыть].
Очень сходные взгляды на Пушкина высказывает и поздний Гоголь, разве что за вычетом пантеизма, хотя он и почитает его великой заслугой христианские чувства – на деле довольно сомнительные – и особенно превозносит его столь же условный монархизм («О лиризме наших поэтов», 1846; «О театре…», 1845). Тем не менее в своей как бы итоговой и одновременно программной статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» он вторит упомянутому пассажу Гейне:
Что ж было предметом его поэзии? Всё стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. <…> на всё, что ни есть в природе видимой и внешней. Всё становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, – его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра. <…> Ему ни до кого не было дела.
Здесь же он, как и Белинский, вменяет ему в вину именно отсутствие личности, застилаемой переливчатым маревом спонтанных ощущений. Это был идеальный поэт, поэт как таковой, одержимый только своим искусством. И Гоголь уже демонстративно сближает его с Гёте, «этим Протеем из поэтов, стремившимся обнять всё как в мире природы, так и в мире наук <…> подладиться ко всем временам и векам».
Все наши поэты <…> удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет <…> Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось бы откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу – и не мог. <…> Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтенье ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. <…> Ничего не хотел он сказать о своем времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он.
Но вместе с тем Гоголь неустанно восторгается поэтическим гением Пушкина. Это противоречие пронизывает все его оценки, контрастируя с профетическим утилитаризмом писателя. Если у Гейне «равнодушному пантеисту» Гете противопоставлялся Шиллер, то у Гоголя, в свою очередь, в противовес Пушкину намечается некий гипотетический образ грядущего, еще не явленного русского поэта, который будет занят делом самой жизни. И все же Пушкину нет и пока не предвидится достойной, общественно полезной замены.