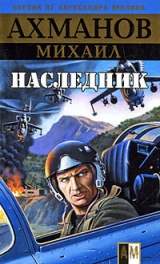
Текст книги "Наследник"
Автор книги: Михаил Ахманов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Пропали, значит… А как пропали, Алексей? Напились? В местные разборки влезли? В участок угодили? Из-за девиц поспорили? Или – сохрани аллах! – под статуей туран-баши мочились?
– Предположительно с кем-то встретились, могли получить информацию касательно нашего дела. Один из моих людей – тот, что с феррашами контактирует – сказал: такое впечатление, что похитители известны, однако стражи порядка бездействуют. А денег мы не жалели! – Помолчав, Каргин спросил: – Власти могли их схватить? Тайная полиция, третье отделение или что-то в этом роде?
– Тайной полиции тут пока что нет, соорганизоваться не успели в государственном масштабе, но схватить могут. У туран-баши свои стукачи и топтуны, есть такие и во многих министерствах и у каждой партии, а тут их пять: исламская, евразийская и конституционная – эти за президента, а коммунисты и национал-демократы как бы против. Так что есть кому хватать! Но с какой бы целью ни схватили, держать у себя не будут. Ни к чему! Других держальщиков полно.
– Кто они, эти держальщики? – спросил Перфильев, подавшись вперед и раздувая ноздри.
– Плов кушал, капитан? – поинтересовался Азер. – Всего в нем понамешано, рис, жир, лук, мясо, соль, перец, морковка тоже есть… Страна сейчас как этот плов: в городах одно, в горах другое, в степях третье, а на границе и вовсе четвертое с пятым. Взять хотя бы славного туран-башу… Это он в Армуте баша, в Прикаспийске и в десятке крупных городов, а в тех, что помельче, сидят уездные начальники-беи, и никто им не указ. В Фарабе и по всему правобережью Амударьи узбеки крепко окопались, оттуда ближе до Бухары и Самарканда, чем до Армута… в Куня-Ургенче – каракалпаки, в Бекдаше казахов полно, в Тахта-Базаре и Кушке – пуштунская диаспора… В горах – обычные бандиты и бандиты правоверные, Воины Аллаха, Львы Ислама, эмир Вали Габбасов, а ближе к Каспию – три чеченских лагеря… Еще, конечно, везде и всюду боевики наркомафии… И всех их охраняют наши погранцы: тысяча верст – рубеж с Персией, восемьсот – с Афганом.
– Это общая диспозиция, – произнес Каргин. – А что из нее вытекает в нашем конкретном случае?
– То, что людей твоих, если они живы, в городе прятать не будут. Зачем? Всякая ветвь туранской власти с бандитами связи имеет, им и отдадут похищенных, на них и свалят, если что откроется. Сам посуди: к чему министрам с депутатами руки пачкать, когда у каждого есть родичи в горах? Ну, не родичи, так верные сподвижники… Если пропавшие что-то узнали, то лучший выход схватить их в городе, а после отправить к тем же Воинам Аллаха и дать инструкции – в яму там или голову долой. Могли на это дело и чеченов нанять или тех, кто над чеченами стоит, арабов пришлых или турок…
– С Кости голову так просто не снимешь! – сказал Перфильев, потемнев лицом. – Костя, он…
– Подожди, Влад, не горячись, – Каргин прикоснулся к плечу приятеля. – Как вы думаете, Федор Ильич, могли их похитить ради выкупа?
Азер покачал головой.
– Сомневаюсь. Ты сказал, три дня прошло? Цену быстрей назначают, ведь от гор до города рукой подать. Всех делов – спуститься в Кизыл да позвонить… Впрочем, и спускаться не надо, у каждой шайки люди есть в Кизыле и окрестных деревнях. Позвонили бы феррашам, те вам заломили б вдвое, как обычно делается, и вопрос исчерпан. А раз не звонят…
Перфильев мрачнел на глазах, Каргин тоже. Бессильный гнев и тяжкие мысли томили его; он думал, что Костя Прохоров ко всякому привычен, и если сразу не убит, сбежит или дождется помощи. С Барышниковым все оборачивалось хуже. Пожилой человек, с больным сердцем… Гальперин сказал, два инфаркта перенес… много ли ему надо?..
– Что посоветуете, Федор Ильич? – Он с надеждой поглядел на полковника.
– Что посоветую, что посоветую… – Азер вцепился в нижнюю губу и вдруг гаркнул: – Гришка, карту тащи! И сестрам скажи, чтоб не хихикали за кустами, а прибирали со стола!
Не прошло и пяти минут, как приказ был исполнен, и карта легла на стол. Отличная карта, военная, со всеми деталями, склеенная из листов с грифом «совершенно секретно». Азер ткнул толстым пальцем в зеленое пятнышко, потом провел по двум коричневым полоскам, извилистой и попрямее:
– Луга Бахар… мы здесь… А это – главное шоссе из города в Кизыл и та дорога, где вы бейбарса Ибада встретили. Сориентировались, капитаны?
– Так точно, – произнес Каргин. Почесал в затылке и спросил: – Наших могли отдать кому-нибудь вроде Ибада?
– Нет. Слишком мелкое зверье, – приговорил полковник. – А вот эти уже покрупнее! Вот здесь, к востоку, в двух сотнях километров от Армута – Воины Аллаха, дюжину селений контролируют, связаны с исламской партией – собственно, ее боевики. Но Валька все-таки к городу ближе и всех в окрестности сильней. До Вальки от меня рукой подать, тут его лагерь, километрах в семидесяти, и дорога из города к нему хорошая, на джипе и грузовике можно добраться, даже бензовоз пройдет. В конце дороги – тоннель, и Валькины мюриды его охраняют…
– Валька? Кто он такой?
– Славный наш эмир Вали Габбасов, вождь Копетдага, так он себя именует. С кем повязан, в точности не знаю, но числится в наших краях бунтовщиком за первым номером. Не трогают, однако… – Азер задумчиво уставился в карту. – Три сотни стволов у мерзавца, укрепленный лагерь на старой военной базе за Кара-Сууком, оружия, жратвы, боеприпасов – до горла, а откуда берет и кто ему ворожит, неведомо. С наркомафией, конечно, повязан, иногда налетит на заставу, погранцы с ним бьются, а караван героинный идет без помех… Ну, отстегивают ему за это, еще людей в Кара-Сууке обирает, но все-таки триста бойцов, каждый поесть и выпить любит… Содержать надо! А на какие шиши?
Полковник сложил карту, подвинул ее Каргину.
– Бери, Алексей! У меня еще найдется. А что до совета… Если я прав, и в горы твоих увезли, то либо они у Вальки-эмира, либо у аллаховой братвы. Можно узнать поточнее, если за деньгами не постоишь. Как там ваше предприятие? Не бедное?
– Ну-у… – протянул Каргин, усвоивший за время контактов с Мэлори, что на такой вопрос нужно отвечать неопределенно.
– Сколько феррашам раздали? И какая им обещана награда? – уточнил вопрос Азер.
– Феррашам – тысяч десять баксов, а награда обещана…
– …двадцать пять, – подсказал Перфильев.
– Немного. По возможностям средней фирмы, с которой считаться не будут. – Полковник сделал паузу, взглянул на солнце. – Скоро два, ехать вам, пожалуй, надо… Вот что я вам, капитаны, скажу: для удачной рыбалки снасть нужна хорошая, леска крепкая, крючок острый, но главное – червяк! Жирный червяк, крупный, чтобы карась на него польстился! Если этакий червяк вам не по средствам, все равно пыль в глаза пустите, сделайте вид, что богаты без меры, что денег у вас мешки и сундуки.
– А смысл? – спросил Каргин.
– Смысл в соблазне и искушении, – усмехнулся Азер. – Представь, взяли твоих, отдали каким-то верблюжьим плевкам и приказали держать или зарезать. Заплатили, само собой, за услугу… И вдруг плевки узнают, что за похищенных можно миллион слупить! Или два. Живы они или мертвы, держат их в схроне или прикончтили, не важно; так и так сунутся к тебе, одежду пришлют или палец отрезанный – мол, у нас твои дружки, поторгуемся! Отдавать, конечно, не станут, но деньги попробуют выманить. Только денег должно быть много, чтобы моча в башку ударила и ручонки затряслись от алчности. Тогда о заказчиках своих забудут и засветиться рискнут, а как засветятся, я вам, ребята, помогу. Живой силой помогу и техникой. – Полковник выудил из халата авторучку, черкнул на обороте карты несколько цифр. – По этому номеру звоните, если до дела дойдет. Городской телефон, но мне сообщат в течение часа. Кстати, как ваши аппараты? Не на прослушке?
– Они защищены, шифраторы стоят, – сказал Каргин.
– Хороший у вас план, хитрый! – медленно протянул Перфильев, с уважением качая головой. – Я рад, Федор Ильич, что вы за три моря не уехали!
– Хитрость свойственна евреям, – усмехнулся Азер. – И потому еще один совет примите: не надо миллионный выкуп обещать, обещания – это слова. Продемонстрируйте, что вы богаты, и миллион для вас – тьфу! Тогда и клюнут.
– Уверены, Федор Ильич? – молвил Каргин.
– Уверен. Если у Габбасова они, братков аллаха или другой группировки, клев непременно будет. Не сомневайтесь!
Каргин, прищурившись, посмотрел на полковника. Лицо у Федора Ильича было безмятежным, на полных губах блуждала улыбка, и лишь в серых зрачках посверкивали искорки, будто соображал он, с какого фланга обойти противника и сделать ли это силами роты или послать ей в помощь пару вертушек и бронетехнику. Может быть, мелькнула мысль, что-то еще он знает, да не говорит? Что-то конкретное, какой-то факт, намек, соображение?
Опустив глаза, Каргин спросил:
– Могу я узнать, на чем основана ваша уверенность?
Азер вздохнул. Искорки в его зрачках погасли.
– На жизненном опыте, Алексей, только на жизненном опыте. Почему я знаю, что будет у вас поклевка? Потому, что не рыбу ловите, а шакалов. Шакал же по своей природе жаден.
* * *
Интермедия. Ксения
Впервые Ксения попала в церковь девять лет назад, когда ей еще одиннадцати не исполнилось. Не в церковь даже – в собор, стоявший в своем бело-голубом великолепии над спуском к Днепру, напротив самого большого в Смоленске книжного магазина. Магазин размещался в красивом старинном здании, чудом уцелевшем во время войны, но по сравнению с собором оно казалось небольшим и скромным. Собор взмывал ввысь, и над его покатой кровлей сверкали усыпанные золотыми звездами синие купола, точеные из темного дерева двери были массивны и в то же время изящны, высоко на стенах тянулся мозаичный фриз с ликами святых и ангелов, узкие закругленные окна напоминали бойницы в рыцарском замке. Они с мамой шагнули внутрь, купили свечки, зажгли их перед какой-то иконой, и мама сказала: вспомни отца и помолись о нем. Но как молиться Ксения не знала да и отца почти не помнила, и потому, раскрыв в изумлении рот, глазела на церковное убранство, на чудные потолочные росписи, на мелко крестившихся старушек и двух попов в длинных рясах, что-то делавших у дальней стены, сплошь заставленной иконами.
Прежде мать ее в храм не водила, боялась – воспитательницу детского сада могли и с работы погнать за посещение неподобающих мест. Впрочем, мама богомольной не была и ставила свечки три раза в год, в день рождения отца, в день его гибели и в день его святого Михаила. Отец у Ксении трудился водителем-дальнобойщиком, неплохо зарабатывал, но пил, и страсть к бутылке его подвела: где-то в Сибири, зимой, принял сто грамм для согрева и слетел с обледеневшей дороги. Вез в Красноярск тяжелые контейнеры со смоленского завода «Кентавр», они его и раздавили, и отца, и дядю Витю, его напарника. Но для одиннадцатилетней Ксюши это случилось так давно, что горя она не испытывала и не всегда могла показать на снимках из семейных альбомов кто тут ее папа.
После, сделавшись постарше, сама забегала в храм, когда там не было служения, но не молилась, не каялась в детских своих грехах, а глядела на многоцветные картины, на золоченый алтарь, на пол из гладкой каменной плитки, любовалась этим и соображала: вот бы здесь станцевать! Конечно, не испанский танец и не аргентинский, а что-нибудь медленное, торжественное, вроде старинного менуэта… Еще думала: жаль, что в православной церкви лишь поют, а не танцуют, как у индийцев…
Молиться она научилась в Ата-Армуте. Когда человек молод, красив, здоров, свободен и счастлив, у бога вроде нечего просить и жаловаться тоже не на что. К Господу приходят в беде, приходят больные, убогие, увечные, приходят те, кто потерял надежду на человеческую доброту и справедливость. Рабы приходят и рабыни, уставшие надеяться, и потому родилась вера в далеком-предалеком прошлом как вера обиженных и униженных, нищих и рабов. Ксения о том не знала, не учили такому в советской школе, но повторила этот путь.
В церковь, однако, она не ходила. Во-первых, это Кериму могло не понравиться, а во-вторых, где они, церкви, в Ата-Армуте? Где-то, наверное, есть, но жизнь Ксении текла вне этих сфер, между барами и ресторанами, гостиничными номерами и чужими квартирами, куда ее отправляли по вызову. Да и нужны ли поп и церковь, чтобы молиться? Тем более, что в самой молитве грех…
Молилась она о том, чтобы клиенты попались не слишком противные, чтобы не мучили и рассчитались по-честному, и чтобы Керим, змея подколодная, остался доволен и ее не бил. А если уж бил, то не очень сильно.
Говорят, что здесь бывала
Королева из Непала
И какой-то крупный лорд из Эдинбурга,
И отсюда много ближе
До Берлина и Парижа,
Чем из даже самого Санкт-Петербурга.
Владимир Высоцкий
Глава 6
Ата-Армут, 10 мая, вторая
половина дня
До города доехали быстро и без приключений, через Кизыл, по главной дороге. Решив отдохнуть перед пресс-конференцией, Каргин поднялся в номер, вытащил в лоджию кресло, сел и начал разглядывать с высоты Ата-Армут и синевшие на юге горы. Горы уже не казались чужими – все-таки попутешествовал он в них сегодня, на озеро полюбовался, на скалу Ак-Пчак и луга Бахор и встретился с местным населением. Двоих пощадил, троих угробил при содействии Перфильева… Неприятный эпизод, конечно, зато и другие встречи были, с людьми весьма достойными и даже героическими. Взять того же Нияза Бикташева, орденоносца! Орден Славы, орден Ленина, два Красных Знамени, Звезда… Сам Каргин похвастать орденом не мог, хотя медали имелись – за ранение в Никарагуа, за Кувейт и югославскую операцию. А в Легионе отличия его и вовсе обходили, ибо полковник Дювалье, командовавший их бригадой, полагал: если жив и цел легионер, то это лучше медали и ордена, а если убит, то и награды ему не нужны.
С двенадцатого этажа город был как на ладони: президентский дворец и Диван-ханэ на площади Независимости, здание Законодательного Курултая на площади Евразии, роскошные дома на Рустам-авеню, рестораны, отели и бары, рынки и мечети, три вокзала, два стадиона, южные кварталы новостроек и заводской район на севере. Большой город, красивый… Вокруг – горы и степи, за горами – Персия, за степями – бывшие братские народы, слева – Каспий, справа – Амударья… А между ними – Туран, сердце Азии!
Большая страна, богатая, щедрая. Нефть и залежи медно-никелевых руд, хлопок и фруктовые сады, виноград и рыбные промыслы, шелк и отары овец, мрамор и поделочный камень, яшма, родонит, нефрит… Плюс аргамаки знаменитой туранской породы, плюс целебные источники с курортами, плюс народные промыслы – ковроткачество, резьба по дереву и камню, изделия из кожи. Плюс природные красоты и всевозможные древности, что так влекут туристов – памятники ахеменидских времен, развалины городов, основанных Александром Македонским, могилы монгольских ханов, мечети и цитадели, которые строил еще хромой Тимур. Исторически и этнически Туран был связан с Персией, но и другие державы имели в нем интерес: тут проходил Великий Шелковый Путь из Китая, и самая короткая дорога из России в Индию тоже вела через Туран. Эта страна, лежавшая на перекрестке всех евразийских путей, часто воевала и подвергалась нашествиям то с юга, то с севера или с востока, но никогда не была униженной и покоренной до конца: приходил срок, и тут с равным успехом громили македонские фаланги, монгольскую конницу и персидских кизылбашей. За три тысячелетия Туран доказал, что взять его силой невозможно, однако, вступив в двадцатый век, сделавший планету маленькой, а все расстояния – близкими, Туран согласился не воевать, а породниться с соседями. Став частью огромной империи, он принял славян и узбеков, казахов и корейцев, татар и уйгуров, кавказцев, немцев, евреев и прибалтов, принял их и стал страной вполне современной, с аэропортами и железными дорогами, с заводами и рудниками, школами, театрами, музеями и остальными признаками цивилизации. Кое-что, само собой, не поощрялось – скажем, отправление культа и всякое внепартийное инакомыслие, зато была своя Академия Наук, женщины не носили паранджу, и басмачей в горах повыбили.
Однако эти времена расцвета, пусть ограниченного и относительного, канули в прошлое. Став независимой державой, Туран как будто покатился в древность, к эпохе ханов, беков и эмиров, коим цивилизация не чужда лишь по той причине, что придуманы ею всякие удобства и множество способов, как удержаться у власти. Главные были такими: во-первых – политика, во-вторых – деньги, в-третьих – танки. Все это было в руках Курбанова, секретаря ЦК компартии республики, хитрого лиса; и Саид Саидович, слегка открестившись от коммунистов и чуть подвинувшись к исламистам, стал по названию президентом, а по сути – ханом Среднеазиатской Республики Туран.
И была обещана Турану эпоха невиданного процветания, когда все флаги будут в гости к нам – но, предпочтительно, заокеанские.
Первым делом Саид Саидович вернул народу национальную гордость и достоинство, слегка ущемленные в коммунистические времена. На этом пути были переименованы города и веси, улицы и площади, затем восстановлено двести семнадцать мечетей, построено двадцать шесть президентских дворцов и всюду развешаны изображения туран-баши либо воздвигнуты статуи, чтобы утвердить в сознаниии масс кто есть Отец и Благодетель Народа. Кроме того Законодательное Собрание стало Курултаем, Совет Министров – Диван-ханэ, и члены их удостоились благородного эмирского титула, как заведено в цивилизованной Британии, где есть Палата Лордов, и где королева дарит выдающимся особам рыцарские шпоры. Затем прижали всяких инородцев, осуществили реформу воинских званий, судей превратили в кази, стражей порядка – в феррашей, врачей – в табибов, ввели национальную валюту таньга, указы президента стали называть фирманами, а знамя заменили бунчуком. Как во всякой уважающей себя стране учредили ордена: высший Президентский, орден Искандера для военных, орден Лапа Барса с подвесками и без, Звезду Эмира с виноградными листьями, орден Жемчужина Мудрости и Почетную Цепь. Далее туран-баша рассмотрел проект о национальном алфавите, предлагавший отказаться от кириллицы, пренебречь латиницей и перейти на арабское либо уйгурское письмо. Проект не отвергли, но отложили в долгий ящик, поскольку сам туран-баша владел лишь русским и туранским, и к тому же, говоря по чести, на туранском изъяснялся с большим напряжением. Зато другой проект, не столь известный и даже в некотором смысле тайный, был принят и реализован незамедлительно: всюду, где удавалось, в Диване и в корпусе эмиров-депутатов, на должности градоначальников и высших армейских чинов, в сферах свободного предпринимательства, культуры и науки были расставлены друзья и родичи туран-баши.
Вследствие этих перемен в Туране, растившем прежде хлопок, фрукты и овец, теперь росла когорта лихоимцев, лизоблюдов и бандитов. Издревле население страны включало клан людей воинственных и массу трудолюбивых: первые правили и грабили, вторые их кормили. Но с воцарением туран-баши баланс сил изменился, нарушенный третьим классом граждан с ярко выраженной евразийской ментальностью, сущность которой была такова: не работать, но жить богато. Друзья и родичи Курбанова, конечно, воровали, коррупция вздымалась словно на дрожжах, слой евразийцев ширился и стал, в конечном счете, надежной и преданной опорой президента. Народ, как обычно, безмолвствовал и реагировал на новые веяния не словом, но делом: инородцы утекали за рубеж, а местный этнос, коему деваться было некуда, шел в бандиты или тихо копошился на земле, разбойничал или возил в Россию курагу и груши, а заодно наркотики.
В силу указанных причин «все флаги» в Среднеазиатскую Республику отнюдь не спешили. Конечно, посольства великих держав здесь имелись, были также иностранные разведчики, сидела в корпунктах пара дюжин щелкоперов из газет Парижа, Нью-Йорка, Анкары, Пекина и Лондона, и вся эта шатия-братия принюхивалась к туранской нефти, туранской икре, туранской меди и никелю. Но только принюхивалась и не более; крупные политики, бизнесмены и финансисты, сильные мира сего, Туран вниманием не баловали и никаких активных телодвижений в сторону Ата-Армута не совершали. Даже российские власти, сколачивая СНГ и призывая крепить единство на постсоветском пространстве, звали к себе в Москву, а в Армут посылали третьего секретаря двенадцатого подотдела президентской администрации. Кроме него Армут посетил средней руки китаец, глава Синьцзян-Уйгурского автономного округа, наследная принцесса с острова Нукуноно и британский лорд, член Европарламента, обеспокоенный правами малых наций. Лорд желал осмотреть чеченские лагеря близ Каспия и убедиться, что дети и женщины в них не голодают, однако показательный лагерь с голодными детьми и женщинами устроить не успели, и миссию лорда спустили на тормозах. Он уехал очень недовольный. Туран-баша был тоже недоволен, ибо рассчитывал на безвозмездную помощь от европейских стран.
«Прав Мэлори – дыра, – размышлял Каргин, сидя в кресле и любуясь городом. – Теплая, красивая, изобильная дыра на обочине мировой политики и экономики… Должно быть, здесь это кое-кто понимает и думает, как бы внимание привлечь. Прославиться, в общем! Слава, впрочем, уже есть: был Великий Шелковый Путь, а сделался Большой Героинной Дорогой… Но не того разряда слава, гнусная известность, мерзкая! А вот ежели „Шмелей“ поставить на поток и торговать ими – ну, хотя бы в третьих странах – это уже кое-что. Капиталы потекут от тех же пакистанцев и арабов, большие люди заявятся, мошной трясти начнут, чтобы перекупить лицензию… А то, что краденое российское, им до лампочки!»
Он встал, облокотился на перила и бросил взгляд вниз. Четверть пятого, гости уже съезжаются, толпятся у подъезда… И много, черт побери! Кто-то солидный, на иномарке – кажется, на «БМВ», который лишь эмирам полагается… Два фургона телевизионщиков – вон, аппаратуру выгружают… Микроавтобусы, машины помельче и поскромней, на крышах и капотах – названия изданий: «Нью-Йорк Геральд», лондонская «Таймс», что-то на французском, но мелковато, не разглядеть, еще китайские иероглифы, турецкая вязь, «Известия» и «Аргументы и факты» – эти из Москвы… Ну и, конечно, местные: «Туран ватан», еженедельник коммунистов, «Туран гази», исламское издание, евразийский «Туран бишр» [25]25
Ватан – родина, отчизна (тюркск.);гази – воитель за веру (арабск.);бишр – радость, счастье (арабск.).
[Закрыть]и даже «Гарем», журнал сугубо для мужчин… «Этим-то что здесь надо?» – с недоумением подумал Каргин, потом вспомнил про банкет, кивнул и отправился в спальню, переодеваться.
Надел сорочку, светло-серый деловой костюм от Кардена, обул башмаки, повязал галстук, прицепил к нему булавку с бриллиантом в пять карат, свадебный дар Мэлори, поглядел в зеркало, прищурился и остался собой доволен. Кольнуло, правда, воспоминание о Бобе Паркере, племяннике старого Халлорана, погибшем на Иннисфри; в этой роскошной сбруе он был похож на Боба, чему не приходилось удивляться – все-таки родичи. И оба – президенты ХАК, один прошлый, другой настоящий, а значит, приходится соответствовать… Как поучал майор Толпыго: сапоги и бляхи должны сиять!
В дверь осторожно постучали.
– Входите! – крикнул Каргин и щелкнул по лацкану, сбивая пылинку.
Вошел Сергеев, изобразил лицом восторг при виде нарядного босса, затем сухо промолвил:
– Утром вы уехали, Алексей Николаевич, не смог доложиться. А у нас, однако, новости.
Каргин резко повернулся к нему.
– Слушаю.
– Официанта разыскали, который нашим в «Достыке» подавал. Не буду говорить, во что его адрес обошелся, но все же разыскали… Некий Фазли Юмашев, возраст – тридцать два, одинокий, живет на улице Гюзель тридцать четыре, в собственном домике, и третий день за порог ни ногой. Болен! В спину вступило или ниже… В общем, немного надорвался, таская подносы.
Глазки Сергеева вдруг заблестели, рот приоткрылся. Сейчас он походил на гончую, взявшую след.
– Дальше! – велел Каргин.
– Приехали к нему часиков в пять, расспрашивать стали, однако Юмашев ничего существенного не сообщил и даже деньгами не соблазнился. Но выглядел напуганным. Страх, Алексей Николаевич, такое состояние, которое я безошибочно различаю, так как лицезрел его долгие годы у всевозможных персон… Так что мы дождались ночного времени, влезли к Юмашеву в дом, и Балабин с ним немного поработал. Теперь Юмашев утверждает, что русских было не двое, а трое. Сначала наши пришли, затем, минут через десять, к ним подсел какой-то тип, явно знакомец Барышникова – чуть обниматься не принялись. Посидел немного, рюмку выпил, поел, поговорили, затем ушел. Наши оставались до восьми, ели, почти не пили и что-то обсуждали, но тихо.
– Почти не пили – это как? – спросил Каргин.
– На троих взяли двести коньяка, а потом, когда третий удалился, спросили коктейли с сухим мартини. Юмашев их из бара принес и сильно был взволнован, когда о коктейлях речь зашла. Ну, я велел Балабину снова его полечить… Тогда ситуация прояснилась: в баре у них трудится Зульфия Салихова, красотка хоть куда, и всем известно, что эта барышня чей-то осведомитель. Чей конкретно, Юмашев не знает, надо спрашивать у хозяина, но к советам Зульфии прислушиваются все. На этот раз она ему посоветовала исчезнуть и пару недель глаз не мозолить. Что Юмашев и сделал.
Каргин, нахмурившись, уставился в пол.
– Гальперин говорил мне, что Николаю Николаевичу звонили, как раз перед тем, как он в «Достык» собрался. Вы это знаете?
– Разумеется, я ведь каждого опросил. Дальше складываем два и два и получаем, что некий знакомец Барышникова назначил встречу в «Достыке», и была та встреча опасной и сугубо деловой. Деловой – потому что краткой, хоть повстречались старые приятели, а опасной… Ну, сами понимаете, он ведь недаром с собой Прохорова взял.
– Отличный вы специалист, подполковник Сергеев, – одобрительно сказал Каргин. Потом, вспомнив о тайнах Халлоранов и своих мытарствах на Иннисфри, добавил: – Прежде мне такого человека очень не хватало. Пожалуй, я вам оклад удвою, если найдете нашу пропажу.
Сергеев скромно потупил глазки.
– С моей стороны возражений нет, однако к делу, к делу… Теперь мы имеем возможность продолжить следствие по двум линиям: приятель Барышникова и очаровательная барменша Зульфия. Приятель намного важнее, и я постараюсь его отыскать, тем более, что словесный портрет получен, выбили из Юмашева во всех деталях и подробностях. А барменша… Мне не разорваться, Алексей Николаевич. Или отложим на день-другой, или пошлем кого-нибудь красивого и молодого, чтобы вступил в контакт и попытался обольстить. Славу или Дмитрия… лохи, конечно, но вдруг узнают что-то полезное.
– Сосредоточьтесь на приятеле, – распорядился Каргин, – и берите в помощь всех, кто вам понадобится. Ну и, конечно, деньги… А барменшей я сам займусь. Я ведь тоже красив и молод.
– Без сомнения, – сказал Сергеев, внезапно ухмыльнувшись. – И вы не лох.
– Это лесть или логическое умозаключение?
– Второе, шеф. Прорваться из русских капитанов спецназа в американские миллиардеры… Это, извините, не для веников!
– Улыбка судьбы, – пояснил Каргин. – Кстати, о миллиардах… Вы, помнится, говорили, что в сейфе у нас триста шестьдесят две тысячи?
– Уже тысяч на сорок поменьше, – откликнулся Сергеев. – Аренда конференц-зала, проектор, купленный Гальпериным, мои вчерашние расходы и остальное-прочее – один банкет на тридцать тысяч… Да, не меньше сорока штук ушло.
– Откройте сейф и выдайте Балабину двести тысяч. Пусть со своими ребятами снимет банковские обертки, перемешает купюры, помнет, свалит их в какую-нибудь большую, но легкую емкость, и доставит в конференц-зал к восемнадцати тридцати.
Сергеев даже глазом не моргнул.
– Детский надувной бассейн в качестве емкости подойдет?
– Вполне.
– Могу быть свободным?
– Да, подполковник.
Дверь за Сергеевым закрылась. Каргин прошелся по комнате, впол-голоса декламируя: «Продемонстрируйте, что вы богаты, и миллион для вас – тьфу… Продайте персам орудия…» Затем взглянул на часы, покинул номер и двинулся к лифту – с таким расчетом, чтобы появиться в зале ровно в семнадцать ноль-ноль.
Можно было бы не спешить, ведь боссы не опаздывают, а задерживаются. С другой стороны, точность – вежливость королей. Каргин к монархистам не относился, но это правило больше ему импонировало.
* * *
Зал был полон. Должно быть, здесь собралось не меньше сотни корреспондентов, журналистов, ведущих теле – и радиопрограмм, а при них – еще столько же помощников, ассистентов и прихлебателей, жаждущих проникнуть из этого зала в другой, где накрывали на столы, где громыхала посуда и соблазнительно позванивали хрустальные рюмки. Труженики пера сидели плотными рядами, поджимая друг друга, а слева и справа от них, в проходах, громоздились прожекторы и телекамеры, толпились операторы и режиссеры, змеились по полу черные кабели и слышалась ругань на десяти языках. В торце зала, на подиуме, за длинным столом расположились Генри Флинт, щеголявший в белоснежном костюме, Влад Перфильев, переводчик Максим Кань и юрист Рогов, которому предстояло вести собрание. На стене за их спинами висел огромный экран, а у отдельного деска с проектором и компьютером стоял в полной боевой готовности Гальперин.
Каргин прошел к столу через боковую дверь, остановился, дав возможность запечатлеть себя фото – и телекорреспондентам, затем сделал публике ручкой и сел посередине. Разноязыкий гомон постепенно стихал, вспышки блицев сделались редкими, но в зале ощутимо попахивало скандалом. Журналисты переглядывались, пересмеивались, а те, что потемпераментней, делали странные жесты, изображая что-то непотребное – может быть, кукиш по-турецки, а может, как принято у французов, рога против нечистой силы. Центром этого оживления являлся щекастый белобрысый субъект с носом-пуговкой, в гавайской рубашке и с сигарой в зубах.
– Кто такой? – спросил Каргин, косясь на белобрысого.
– Бак Флетчер из «Вашингтон пост», – шепотом ответил Рогов. – Говорят, та еще язва!
Затем юрист наклонился к микрофону и произнес:
– Дамы и господа, мы начинаем пресс-конференцию мистера Алекса Керка, президента «Халлоран Арминг Корпорейшн», прибывшего вчера в Ата-Армут. Прежде всего я собираюсь проинформировать вас, что данная корпорация представляет в Туране не только собственные интересы, но также, согласно договору между ХАК и «Росвооружением», уполномочена…
Он говорил ровным уверенным голосом, округлыми фразами, как и положено опытному юридическому поверенному, и Каргин, убедившись, что шепоток в зале стих окончательно, уже не прислушивался к словам юриста. Рядом с ним сидели Перфильев и Флинт, и их профессиональная беседа на корявом английском и столь же корявом русском была куда интереснее. Флинт пояснял Владу, как тренируют морпехов в Штатах: ползешь, мол, на карачках по грязи со стофунтовым снаряжением, а по пятам сержант, орет и башмаками в задницу пинает. Перфильев с усмешкой возражал, что это мелочи, и что в российской армии пинок по мягкой части есть мера поощрения, а если нужно наказать всерьез, то бьют по яйцам. Флинт, усмехаясь в свою очередь, любопытствовал: а не ведет ли этот варварский обычай к падению рождаемости? Ведь в мирное время первая задача солдата – воспроизводство населения.



