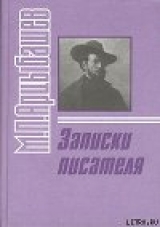
Текст книги "Записки писателя"
Автор книги: Михаил Арцыбашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
IX
По доводу одного частного письма
I
С тех пор как я начал свои «Заметки», я получаю много писем от читателей. Радуюсь этому, ибо хотя письма бывают самого разнообразного характера – и хвалебные, и ругательные, и насмешливые, и добрые, и злые, но все же они показывают, что мои «Записки» кого-то волнуют, кого-то радуют, кого-то трогают, кого-то озлобляют и, как бы ни было, не пропадают бесследно… А ведь для того и пишем, чтобы не бесследно.
Надо ведь принять во внимание, что у нас народ и деликатный, и ленивый: из десяти тысяч прочитавших, задумавшихся и даже искренно взволновавшихся разве что один решится непосредственно выразить писателю свою любовь или ненависть. А каждое такое выражение, пусть даже совсем неудачное, более характерный показатель настроения читательских масс, чем сотни страниц, написанных профессионалами-критиками, бескровными ремесленниками, принюхавшимися к литературе до самой полной нечувствительности к ней. У нас не принято говорить по поводу частных писем. Почему-то считается возможным реагировать на мнение всякого, кто почему-либо втерся в частную или журнальную редакцию, но кажется даже не совсем приличным печатно отозваться на частное обращение или письмо.
Вероятно, здесь кроется недоверие к писателю.
У нас вообще считается дурным тоном верить кому бы то ни было. Доверчивость у нас осмеивается как глупость, и мы охотно оправдываем мерзавца, обманувшего доверчивого человека, именно на том основании, что вольно же было ему дураку, верить! А писателю и вовсе никто никогда не верит! В каждой строчке его ищут лжи, лицемерия и погони за рекламой. И если писатель дерзает написать о чем-либо, то должен иметь оправдательные документы, указывать на газетные сообщения или на свидетелей со стороны. И тут, не входят в возможность и внутренний смысл события: раз это частное дело писателя и в газетах об этом ничего нет, значит – сам выдумал все для той же рекламы.
Это словечко-проклятие писательской жизни. Что бы ни сделал писатель, что бы ни написал, как бы ни толкала его на поступок жизнь, а на писание искреннее, терзающее чувство, – все равно! Реклама и реклама.
Мелкие душонки все мерят на свой аршин. И, если вся их собственная жизнь построена только на том, чтобы добиться положения и не быть хуже других, они не могут допустить, чтобы писатель мог действовать из других побуждений, мог действительно писать кровью своего сердца, в глубочайшей искренности стихийного порыва.
В этом смысле как апофеоз обывательской пошлости характерна фраза, сказанная Шпильгагеном о самом трагическом событии в жизни самого великого из писателей наших времен: о Толстом, по поводу его ухода из Ясной Поляны.
– Я не думаю все-таки, чтобы это было ради рекламы!
О, будьте вы трижды прокляты все!..
II
То письмо, о котором я хочу говорить, – злое письмо… Злое и характерное.
Нынче храбрость в большом ходу. Много развелось людей, преимущественно молодых, которых жизнь еще не осадила на их надлежащее и весьма скромное место и которым – черт не брат!
И это бы ничего, что черт не брат. Это даже хорошо, потому что смело. Но хороша бывает только та смелость, которая на сознании своей силы, а не на глупости основана.
Но так как смелость теперь в моде, то все стали ужасно храбры, чрезмерно храбры… везде, где только за это не грозит никакой неприятностью.
Писатель много лет служит своей идее, болеет ею, тоскует и страдает. Пусть он жестоко ошибается, пусть его искания сумбурны и часто впадает он в противоречия… пусть! Одна только глупость, бездарная золотая середина, сделавшая жизнь однообразным мертвым болотом, не истерична, не сумбурна, раз навсегда застрахована от ошибок, ибо живет по веками выработанному шаблону и никогда не противоречит себе, ибо нечему противоречить: мысль ее – азбука.
И вот эта-то золотая середина, идя за модой, стала нынче очень смела. Она, правда, не дерзит, она только нахальничает, но зато сколько апломба в ее нахальстве!
Ей все нипочем, она все знает, все понимает, ее ничем не удивишь и не обрадуешь! Всякое новое слово она встречает насмешкой и в лучшем случае одобрительно похлопывает по плечу.
Какой-нибудь маленький человек, великолепно, лучше всех знающий, что ничего не сделал, не имеет ни опыта, ни знаний, ни силы, ни хотя бы какой-нибудь мелочи, им самим созданной, считает себя вправе судить и с высоты своего непонятного величия разделывать всех и вся.
Сидит такой бескрылый птенец где-нибудь среди благоговейно внимающих ему наивных кур и с апломбом восклицает:
– Ерунду пишет! Сам себе противоречит! Я бы ему доказал!..
И не приходит ему в бедную храбрую голову, что, собственно, ему и доказывать нечего, потому что нет у него ни собственной мысли, ни своих слов.
Но, поощренный успехом в своем кружке, в своем муравейнике, он уже не в силах остановиться, хватается за перо, пишет письмо, несет в почтовый ящик и ухмыляется…
Оно, конечно, – Столыпину не напишешь, могут и в участок отвести, а писателю отчего не написать? Он стерпит, а не стерпит, так что он сделает? Тут храбрость обеспечена, тут порыв вполне безопасен.
III
Так вот. Злое и характерное письмо получил я. Почему оно характерно объясню ниже… Да не посетует автор (ведь писал же он писателю, в душу его вторгаясь), что письмо это я тут же и воспроизведу:
«Милостивый государь, г. Арцыбашев! В своем фельетоне „Эпидемия самоубийств“, в № 6-м „Итогов недели“, вы так сказали девушке на вопрос: стоит ли жить? „И я сказал ей, что жить надо тому, кто в самом факте жизни видит радость, а тем, кто не видит в ней ничего, тем и в самом деле лучше умереть“.
Вы же сами, по вашим словам в том же фельетоне, „видящий в ней (жизни) черную дыру“, почему-то не сделали надлежащего вывода для себя, а вывод этот такой: если вы видите в жизни (в самой жизни) черную дыру (то есть, другими словами, ничего в ней не видите), то вам и в самом деле лучше умереть.
А потому совершенно серьезно предлагаю вам покончить свою жизнь самоубийством. Это будет, во-первых, логично, а во-вторых, слово у вас не разойдется с делом.
Говорю все это на том основании, что глубоко верю в вашу искренность, честность и правдивость. Не могу же я предположить, что видеть в факте жизни черную дыру – значит „находить в жизни радость“ и наслаждение, а не скуку и горе, богатство переживаний, а не нищету и борьбу за кусок хлеба.
Г. Н. Михайлов».
IV
Милый человек! В том-то и дело, что не верит он ни чуточки; так-таки и не верит – ни в мою искренность, ни в правдивость. В том-то и дело, что говорит он совсем даже не «серьезно», а со смешком, с этаким злорадным смешком… Личико серьезное, а в уголке губ чертики – так и прыгают!
А вдруг я бы послушался, да и застрелился? Да, застрелившись, письмецо это на столе и оставил… серьезное, искреннее письмо? Что тогда? А то, что сначала душа в пятки бы ушла, а потом, когда опасность прошла, с большой даже гордостью по улицам ходил бы храбрый человек! Вот, мол, какой я герой!.. И в тайне души, хоть и страшно, а ведь одну минуточку ему очень этого хотелось!.. А если и не хотелось, то только потому, что уж очень был он уверен, что я не застрелюсь, да и цель письма вовсе не в том была, чтобы застрелиться, а просто уколоть хотелось.
И, увы, он прав: не застрелюсь. Если и застрелюсь когда-нибудь, то не по сему великодушному и остроумному предложению, а совсем по другим причинам.
По поводу же этого письма скажу следующее:
Остроты хороши, когда улавливают то, что есть, а не то, чего остряк просто так-таки и не понял и по-своему переделал. А в последнем случае очень даже комично и некстати выходит.
Автор письма не мог предположить, что та логика, которой он разит, ничего не уразумев из прочитанного, ровно ни к чему не приводит.
С самого начала он делает передержку, и передержку, очень характерную для нашего времени, когда все запутались в словах, перестали разуметь русский язык и понимать глубокое, истинное значение каждого слова.
Девица не спрашивала меня, стоит ли жить? – А «для чего жить?» Это глубокая разница.
Что жить не стоит, это она уже тогда решила, когда ко мне пошла. За последней соломинкой пошла, зная наверное, что соломинка не спасает. Там, где-то в глубине опустошенной души, перед страхом смерти, была у нее даже не надежда, а так, что-то такое совсем маленькое… Мне, мол, жить так скверно, так ужасно, что жить не стоит самой для себя… Но, может: быть, мне укажут что-нибудь, для чего можно перебороть себя, перенести ужас и безобразие собственной жизни. С тем и пошла, чтобы я указал ей тот светлый идеал, ту цель, ради которой можно было бы ей принести величайшую жертву – стерпеть свою жизнь нестерпимую.
И я, думающий, ошибочно или нет, но совершенно искренно, что нет такого идеала, нет такой цели, что жизнь человеческая уходит в смерть, как в черную дыру, сказал ей, что цели, принуждающей жить, нет, а жить можно тому, кто в том или ином занятии сам для себя видит приятное. И тут прибавил о том, что таким занимающим меня делом является для меня литература, ход собственной мысли.
Не посоветовал я ей кончать самоубийством, ибо, как писал я в той же статье, советовать самоубийства нельзя, а сказал только, что никто не может дать содержание душе опустошенной, и если жить нечем, то и остается только смерть.
А что касается черной дыры, то она есть конечная точка, обесценивающая смысл жизни, а не ее факт. Для того, кто философски признает конечную бессмыслицу жизни, является необходимостью признать эту бессмыслицу, в хаосе ее строить свою личную жизнь, а вовсе не пускать себе пулю в лоб. Последнее – есть дело вольного выбора.
Нельзя же человеку, приговоренному к смерти и твердо знающему, что на рассвете его повесят, вменять в обязанность разбить себе голову о стену. Это дело его, что ему больше нравится: быть повешенным наутро или с вечера расколошматить себе голову.
Автор письма не понял, что конечная цель моих мыслей есть только стремление разрушить бессмысленную веру в будущее, на которой строится вся жизнь, стремление заставить людей взглянуть правде в глаза и прийти к каким-нибудь новым выводам.
V
– Ну, что ж, – скажут мне, – автор письма не понял вас. Что же тут характерного?
А тон письма характерен. Это злое и бессмысленно злое отношение к писателю характерно для нашего времени.
Взгляните, как рабски падают ниц, когда писатель силою своего «я» вознесется горе, и с какой мстительной радостью пинают его ногами, когда он устанет и ослабеет. Взгляните, сквозь какой строй насмешек, брани и клеветы проходят они, только в том и виноватые, что Богом данные способности сделали их нужными именно этим самым пинающим, бранящим, подсиживающим и высмеивающим.
Если они не нужны – не читайте, пожалуйста! Ведь мы не через участок присылаем вам свои книги! А если читаете, если без нас обойтись не можете, что же вы злобствуете? Или вам просто нестерпимо ваше собственное бессилие и мстите вы за то, что без нас обойтись не можете?
Жалкие люди! Вы всю жизнь преследовали Толстого, пока он жил и учил вас, вы же взвыли вечную память, когда он умер! А у него, если бы он за гробом мог помнить, наверное, вечную память оставила бы именно та бессмысленно злорадная толпа, которая гораздо меньше вслушивалась в то, чему он учил, гораздо меньше занималась тем, что он писал, чем тем, как он жил, как впадал в противоречия, как падал и терялся в собственной жизни.
Ваше первое отношение к писателю: не ошибется ли он, не впадет ли в слабость или противоречие? До того хорошего, что даст он, – вам мало дела. Благодарность есть свойство великих душ! Получив, вы прячете и пользуетесь, как должным, а если не получите, – Боже мой, с каким свистом, злобой и хохотом станете плясать по упавшем.
Рабское и трусливое общество, дрожащее перед тенью городового, мстит за свою трусость и бессилие – тем, кто работает для него же.
И не вспомнит, что язык, на котором говорит оно, – выработан литературой; мысли, которыми думает оно, взяты из книг, идеи, которыми живет, – созданы книгой.
И не подумает о том, что те писатели, которые живут ныне, велики или малы они, все же работают над тем же, потом и кровью спаивая кирпичики огромного здания литературы и не давая ему осыпаться и одряхлеть, пока не приходит новый истинный зодчий.
И смеются, и издеваются, и радуются каждой ошибке, точно перед ними не труженики всем необходимого дела, а лютые враги!..
X
По поводу одного преступления
I
Теперь, пожалуй, уже несколько поздно писать о процессе той хористки, которая облила серной кислотой своего любовника-студента и его новую любовницу, свою соперницу.
Подобных преступлений совершается так много, что и внимание общества к ним притупилось: интересуются только до тех пор, пока суд не скажет– виновна или нет, а узнав в точности, что виновна или не виновна, мгновенно успокаиваются и с чистой совестью переходят к другим очередным делам.
Но вот именно в этом факте весьма слабого и временного интереса, в обыденности преступления и в таком напряженном внимании к приговору суда и заключается многое, что дает право не считать запоздалым откликнуться в любое время, хотя бы через год.
Однако напомню сущность дела, и притом так, как оно мне запомнилось, хотя, может быть, фактические неверности в изложении и попадутся.
Некий студент из так называемой белоподкладочной молодежи, проводящей свободное от занятий (если занятия вообще есть) время в кафешантанах за устрицами и шампанским, познакомился и сошелся с одной хористкой; Они все «сходятся» с хористками, певичками и вообще с проститутками всех сортов, ибо это совершенно входит в круг их жизни и понимания наслаждений. Да и чего вы хотите: деньги есть, более или менее приятное женское тело, особенно пикантно выглядящее с освещенных подмостков и в костюмах более чем вызывающих, тоже есть; тело это продается по цене весьма сходной, а мнение окружающих весьма не только снисходительно, но даже поощрительно. Отчего же при наличности всех этих обстоятельств и не позволить себе невинного и приятного развлечения.
Правда, из либеральных книжек, по Сонечке Мармеладовой, например, всякий студент, даже если у него сюртук на белой подкладке, шампанское и устрицы, превосходно знает, что живая душа у проститутки очень даже имеется. «Жертва общественного темперамента» тоже словечко трогательное и всем известное. Но знать о существовании живой души и дать себе отчет в том, что такое эта живая душа-вещи очень и очень разные. Первое из книжки, первое-готово, а для второго надо уже и собственную живую душу иметь, а не один сюртук на белой подкладке – хотя бы и студенческий сюртук.
А потому, за известную плату приглашая к себе на ночь эту живую душу, эту Сонечку, мы как-то совсем выпускаем из вида, что эта самая живая душа, раз она живая, ко всем живым чувствам очень и очень способна. А оттого и удивляешься, и даже досадливо удивляешься, если живая душа возьмет да вместо приятного и невинного времяпрепровождения обнаружит чувства, может быть, и очень присущие живой душе, но явно во вред невинности и приятности. Влюбится, например, ревновать начнет, и под вашим собственным студенческим сюртуком начнет искать тоже живую душу.
Тут, кстати, припоминается мне один очень любопытный анекдот. И не анекдот вовсе, а действительный случай с одним нашим известным писателем. Читатель простит мне это маленькое отступление, ибо оно не так уже бесполезно.
Этот известный писатель проездом в Питер остановился на денек в Харькове. В городе этом он не жил, знакомых не имел, а так как ехал он после долгого пребывания в лоне семьи и за письменным столом, то и задумал слегка развлечься. Именно вот так – невинно и приятно. Поехал в увеселительное заведение, спросил вина и прочего, что полагается, и кивнул, куда следует, перстом.
Там уже это дело налажено, и не прошло трех минут, как за столиком писателя появилась живая душа, с этакими приятными плечиками и с приятным вырезом в корсаже.
Звание писателя, конечно, звание вполне почтенное, человеку же свойственно не отказать себе в маленькой гордости, а потому нет ничего удивительного и очень простительно, что известный писатель не стал строго выдерживать инкогнито и открылся.
Что, собственно, было у него в голове, не знаю. Может быть, само собой ради эффекта с языка соскочило, может быть, захотелось от продажной живой души особого угождения, но только тот факт, что звание свое он обнаружил.
И, Боже мой, как он разочаровался!
И вовсе не потому, чтобы живая душа оказалась равнодушной к званию, совсем напротив! Живая душа преисполнилась полнейшим уважением. Только что за минуту перед тем болтала всякий легкомысленный вздор и, может быть, выпрашивала шампанского, а тут вдруг возьми да и заплачь. Думала, верно, что – если писатель, то уж живая душа несомненно. И начала рассказывать все: как дошла до такой жизни, как ей тяжело, как больно, как надоела пьяная, развратная жизнь, как хочется человеческого слова, как по ночам мучительно думает о пузырьке с уксусной эссенцией… словом, развернула перед писателем всю свою убогую, заплеванную, страдающую, отчаявшуюся душу живую.
Можно представить себе положение писателя: человек думал поразвлечься, человек, может быть, уже предвкушал и в аппетитнейший вырез, и на пухленькие плечики, и на прочие удобства скашивал глаза, и вдруг – на тебе!
И писатель возмутился. Странное дело! Кажется, довольно он за письменным столом пролил чернил и слез над жертвами общественного темперамента, а тут человеку развлечься захотелось, от мировой скорби отдохнуть захотелось, а вместо того опять трагедия! Кивнул писатель перстом и приказал подскочившему холую оную живую душу убрать.
– Нет ли у вас кого-нибудь повеселее!
Повеселее, конечно, нашлась. Живую душу убрали, а с писателем посадили еще более пухлые плечи и еще приятнейший вырез в корсаже.
Не знаю, наученный ли горьким опытом, скрыл на этот раз писатель свое почетное звание, или в самом деле за вырезом корсажа на этот раз ничего, кроме аппетитного тела, не оказалось, но только невинное и приятное наслаждение было вполне получено.
Вот и весь анекдот. Многим он покажется совсем не забавным и даже к делу не идущим, но не таким представляется мне.
Писатель все же имел твердость характера и сознание своего полного права, но у некоторых этих спасительных качеств не оказывается. И тогда получается очень неприятная история.
Такая самая история, какая получилась с жертвой недавнего процесса, студентом Р.
Хористка, с которой он сошелся единственно для собственного удовольствия, обнаружила качества, вовсе даже к положению своему не идущие. Вместо того чтобы по примеру своих товарок получить деньги и удалиться, она полюбила, удержала при себе, ревновала, удерживала от новых невинных и приятных развлечений.
И кончилась эта история тем, что, когда милому юноше прискучила живая душа и он нашел другую, «повеселее», оная живая душа взяла да и облила его, а заодно и ту, которая «повеселее», серной кислотой.
Ее судили, обвинили и закатили в каторгу.
А несчастного студента, ослепшего от кислоты, пожалело все русское общество. Все русское общество, но не я.
Я остаюсь при особом мнении.
II
Слушайте, господа хорошие, а не приходит вам в голову, что так ему и надо?
Ее судили, обвинили и закатили в каторгу. За черствость сердца и жестокость души, ибо ведь как-никак, а студент-то ослеп, и слепота – самое ужасное из несчастий. К тому же на суде показывали карточку этого миловидного юноши до катастрофы и его же после катастрофы – контраст разительный и ужасный.
Но каюсь, в силу черствости сердца или по каким иным причинам, меня совершенно не трогает и эта слепота, и эта трогательная миловидность, навеки утраченная.
Я знаю, я очень хорошо знаю, что Сонечки Мармеладовы так редки в своей среде, что чуть ли не в романах только они и попадаются. Я даже склонен утверждать, что только в романах. Ибо нельзя, гваздаясь в грязи, по какой бы причине туда ни попал, остаться чистым. Проституция, с ее пьянством, встречами с людьми только в самом скотском состоянии и в момент напряжения только самых животных инстинктов, с ее участками, бессмысленностью и грязью, – вовсе не та почва, на которой взрастают благоуханные цветы. Как человек, не имеющий наклонности верить в сентиментальные чудеса, я готов и вовсе отрицать Сонечку Мармеладову и заявить, что проститутка и есть проститутка-оскотинившееся, грязное, грубое, пьяное и жалкое существо. В ней ценны всем потребителям именно самые скотские качества – пустота душевная, цинизм, готовность идти на любую мерзость без малейшего протеста. И эти качества культивируются, утверждаются, расцветают махровым цветом. Где уж тут Сонечка!
Правда, это вовсе не исключает способности любить, ибо даже зарезавшие душ двадцать на своем веку каторжники способны любить не только свою семью, любовницу, но даже и какого-нибудь шелудивого щенка. Грязная душа не есть мертвая душа. Может быть, чрезмерно чистые души потому и чисты, что они мертвы. А самая грязная душа способна на своеобразную, конечно, уж не чистую любовь.
Поэтому меня нисколько не удивляет и то, что означенная хористка могла полюбить, и то, что в любви ее было скверного, ей, проститутке, присущего, что было обнаружено на суде и что лишило ее симпатий присяжных и привело к каторге.
Признаю и считаю неизбежным логически, что проститутка проявляла свою любовь в формах, вовсе не красивых. Любовь, как тяга к данному человеку, могла быть громадной, потребность в его ответной любви могла быть неистребимой до преступления. Но проститутка и есть проститутка, и любовь ее сопровождалась и ложью, и подлостью, и дешевым самолюбием. Ревность выражалась в формах отталкивающих, именно так, как могла выражать проститутка: в сценах, в пошлых скандалах, в преступлении. Огромная потребность любви ответной проявлялась в фактах прямо-таки ничтожных и пошлых: ее оскорбляло, что Рашевский пил с соперницей шампанское и ел устрицы. Еще бы! Ведь она до сих пор от людей только и видела хорошего, что шампанское и устрицы! Дальше этого не умела внять ее убогая, вытоптанная ногами потребителей душа.
И если любовь довела ее до преступления, то преступление, конечно же, должно было быть отвратительно жестоким… Когда с нею были жестоки, то ведь всегда отвратительно.
Все это я знаю, и потому, напротив, был бы поражен, если бы это оказалось не так, если бы ее любовь была возвышенна, ревность благородна, преступление красиво.
И потому отнюдь не собираюсь взывать к прощению, вопить о среде; о жертве общественного темперамента. Ее сослали на каторгу, что ж… С точки зрения общественной безопасности, она преступница и понесла кару заслуженную.
Но, увы, жертва ее преступления не вызывает во мне ни малейшего сочувствия. Напротив, я прямо говорю: так ему и надо.
Кто сеет ветер, пожнет бурю. Кто любит купаться в ядовитой грязи, тот пусть не плачет, если отравится.
Миловидные молодые люди, в черных смокингах, студенческих сюртуках и офицерских мундирах, жаждущие невинных развлечений, наполняющие кабаки, шантаны, дома свиданий и терпимости, заражающиеся там сифилисом, разносящие яд по своим и чужим спальням, кроме отвращения ничего не вызывают во мне.
Он ослеп, а тысячи других отделываются какой-нибудь «детской» болезнью… Да, ему выпал несчастный номер, но, идя «туда», покупая проституток, получая невинное и приятное развлечение, он должен был знать, что номера бывают и несчастливые.
Мы громко взываем, что проституция есть величайшее зло, мы вопием о несчастных жертвах общественного темперамента, мы плачем над судьбой Сонечки Мармеладовой, мы так жалостливы и великодушны.
Но мы же содержим публичные дома, мы веселой и легкомысленной толпой наполняем кафешантаны, мы толпимся по уборным актрис, мы таскаем им бриллианты, и цветы, и деньги, мы шляемся ночью по Невскому и поглощаем все новые и новые кадры малолетних проституток, платя подороже за невинность.
Одним словом, мы голыми руками, с приятным и веселым видом роемся в чумной дыре, а потом, когда чумная дыра вдруг дохнет нам на лицо тем, что в ней есть, – заразой и преступлением, – мы в ужасе вопием о несчастной жертве.
Надо быть последовательнее: если проституция так ужасна, если это наше преступление, то надо приветствовать, а не ужасаться и сентиментальничать, когда преступник понесет наказание.
Ведь у них, у этих проституток, нет никакой защиты; если ребенка выводят продавать, если над проституткой глумятся и использует ее в самых циничных выдумках, которых никто не смеет проявлять над своей женой, невестой или любовницей, если она, проститутка, вне закона, – то она имеет право мстить за себя сама.
И если не только этого студента Р., а всех поголовно посетителей публичных домов и кафешантанов изуродуют, ослепят и изувечат, я не почувствую ничего, кроме удовлетворения, ибо во мне, как во всяком человеке, живет бессознательная жажда справедливости.
И никакими жалкими словами, никакой слепотой, никакой миловидностью меня не подкупишь.








