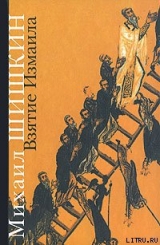
Текст книги "Взятие Измаила"
Автор книги: Михаил Шишкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Вы меня не убедили, – отрезал Д., задергивая шторы и закалывая их края булавкой. Он устал и хотел спать. Его бесило, хотя и не подавал виду, что этот молодой человек заполняет собой всю комнату – своим полудетским крикливым голосом, скрипом новых сапог, терпким одеколоном, желанием казаться умным, начитанным, талантливым, а главное, своей сиротской потребностью в ласке и любви.
– Все! Хватит! – захлопала в ладоши Маша и вскочила с забренчавшего дивана. – Хватит дурацких, скучных философий! Давайте танцевать! Слышите, я хочу танцевать! Женя, сыграй что-нибудь!
Д. покорно сел за рояль. С первыми аккордами кадрили Маша схватила за руки Юрьева и закружила его по комнате, смеясь звонко, весело и молодо.
– Осторожно, не опрокиньте самовар! – буркнул Д. Из-под рояля была видна его нога, нажимавшая на педаль, из дырки в носке торчал большой палец.
– Ха-ха-ха! Самовар! – хохотала Маша, верхняя пуговица ее блузки расстегнулась, юбка развевалась, волосы растрепались, под мышками проступили темные пятна. – Ха-ха-ха! Самовар!
«Господи, где я? – вдруг подумал Юрьев. – И кто я? И кто эти люди? И что я здесь делаю?»
И все никак не мог оторвать взгляда от розового пальца на педали под роялем.
Он вспомнил, как тащили из клуба этот рояль, как не хотел инструмент пролезать в узенькую дверь башни, как отпиливали ножки. Д. почему-то без конца повторял, будто оправдываясь:
– Все равно там его доломают.
Маша вдруг остановилась, вырвала свои руки и схватилась за голову.
– Господи, – прошептала она чуть слышно, – где я? Кто я?
Музыка оборвалась. Д. испуганно посмотрел на жену.
– Что с вами, Мария Дмитриевна? – подскочил Юрьев. – Вам дурно?
С минуту она оглядывалась, будто никого не узнавая. Потом ужас в глазах ее рассеялся.
– А, это вы, – вздохнула Маша и, взяв со стола «Вечерку», стала обмахиваться. – Ничего. Уже все прошло. Все хорошо.
В гостиной пробило десять. Юрьев принялся колоть орехи, вставляя их в створ двери. Д. уткнулся в свою земскую статистику. Маша, раскрасневшаяся после танца, умылась и прошла к шкафу взять чистое полотенце, встряхивая пальцами. Одна капля упала Д. на шею, он поежился, другая на страницу, превратив Ш в лиру.
Дверь визжала и крякала.
Маша снова села на расстроенный диван, подобрав под себя ноги, и сцарапывала с ногтей остатки лака, потом, изогнувшись стройным телом назад, взяла с комода ножницы, дамские, тонкие, кривоклювые.
– Боже, кому все это нужно? Кому? Зачем? – Д. вскочил и швырнул свои бумаги под стол, листы разлетелись с легким шелестом по всему полу. В комнате стало светлее. – Зачем, я вас спрашиваю! Я вру своему начальству, оно своему, те еще выше, и так снежным комом до самой Москвы! Им главное – отчитаться, а что здесь на самом деле творится, никого не интересует! Никого! Как мы живем? Чем мы дышим? Что мы едим? Да им там плевать!
– Ну, мне пора, – сказал Юрьев, собирая скорлупу с крышки рояля в горсть. – Пойду, пожалуй, а то дождь по дороге застанет. Идти-то без малого версты четыре.
Он подошел к окну. Уже совсем стемнело. В стекле забился мотылек. Юрьев осторожно поймал его и выпустил в ночь. Кончики пальцев от пыльцы стали скользкими.
– А звезды-то, звезды! – Юрьев втянул в себя свежий ветер. – И ночь такая пряная, лихая – вишь, нализалась луны.
Маша тоже встала, стряхнув с юбки обрезки ногтей.
– Я провожу вас.
– Ну что вы, Мария Дмитриевна, зачем? – сказал Юрьев, отдирая приставший к подошве сапога лист. Улыбнувшись, он добавил:
– Semper aliquid haeret[29]29
Всегда что-то прилипнет (лат.).
[Закрыть]. Вы устали. Вам завтра рано вставать.
– Нет-нет, ничего не говорите. Я хочу пройтись, подышать. Хотя бы до пруда.
– Что ж, – вздохнул Юрьев, подавая руку Д. – Давайте прощаться. Все-таки удивительно, как мало порядочных людей в России.
Рука была мягкая, сухая, будто Юрьев пожал тесто, обсыпанное мукой.
В полутемной прихожей он хотел подать Маше одеться и ждал, глядя, как она у зеркала пудрит нос, щеки, подбородок. Забывшись, она взяла пинцет, чтобы выдернуть несколько волосков у края губы, но, цапнув воздух, положила обратно.
– На лестнице у нас темно – лампочку все время вывинчивают, так что глядите под ноги! – предупредил Д., заводя будильник. Взгляд его упал на паутину в углу над вешалкой. «Внизу метешь, – подумал он, – а наверх и не посмотришь».
– Я пойду вперед, – сказал Юрьев Маше, надевая фуражку и натягивая перчатки. Он подумал, что надо бы на дорожку зайти в уборную, но вспомнил треснувший, желтый от ржавой воды унитаз, залитый пол, нечистый кружок, отбитый кафель на стенах, убогую картинку из «Огонька» и махнул рукой. – А вы держитесь за мое плечо!
– Там ступенька сгнила, не упадите! – сказала Маша, застегиваясь. Нижняя пуговица болталась, вот-вот отскочит. Маша оторвала ее и положила в карман, чтобы не потерялась.
Сапоги застучали коваными подметками по гулким ступенькам. Юрьеву показалось, что кто-то выскользнул у него из-под ног и шаркнул вниз.
– Крысы? – спросил он.
– Постучишь ночью по батарее ножницами, – сказала Маша, нащупывая в темноте его плечо, звездочка на колючем погоне уколола ладонь, – и вроде ничего, замолкают.
– Здесь небезопасно, – бросил вдогонку Д., собираясь закрыть за ними дверь. Он вглядывался в тьму лестницы с горящей спичкой в руке. – Встретятся неровен час пьяные, или беглые, или солдаты. Ради Бога, осторожно!
– А мы убежим, – рассмеялся Юрьев, надевая фуражку Маше на голову. – Ведь убежим, Мария Дмитриевна? Убежим?
Маша, ничего не ответив, взяла Юрьева под руку, они вышли из башни, перебрались по разбросанным кирпичам через лужу у дверей и зашагали по мягкой, пыльной дороге.
После долгого жаркого дня в воздухе было свежо, тянуло пряным ароматом с лугов. Пахло дождем и сеном.
– Если бы я был женщиной, – говорил Юрьев о Лермонтове, – то за один только поцелуй такого человека отдал бы всю жизнь. А все эти убогие Варечки Лопухины, Бухарины, Сушковы ждали, что он обязан вести себя как смертный, жениться, народить кучу обосранных детей. Знаете, вот наше училище не все любят, но оно особенное… И одно только присутствие в здании лермонтовского музея…
– Отчего вы вдруг замолчали? – спросила Маша, сорвав с вишни ветку и обмахиваясь от комаров – ей уже искусали ноги.
– Задумался о чем-то.
– О чем?
– Как странно все на этом свете.
– Что вы хотите этим сказать?
– Вот лет пятьдесят или сто назад какие прекрасные, умные, благородные люди жили на этой земле, как глубоко они умели чувствовать, как высоко умели страдать! Какая прекрасная была жизнь! А мы? А какой кошмар будет еще через пятьдесят или двести лет?
Дошли до водокачки, оттуда прошли к пруду. В березняке было темно, жутко, шевелили сныть ужи, тревожно кричала какая-то птица, будто точила ножницы. Юрьев замедлил шаг, прислушался.
– Это коростель.
На мосту Маша остановилась, облокотившись спиной на перила, и, придерживая рукой фуражку, опрокинула голову назад, отдала глаза звездам.
– Когда-то я могла по расположению созвездий определить время с точностью до четверти часа. А теперь все, все забыла. Вот Орион, вот Стрелец, а который час – не знаю.
Она сунула фуражку Юрьеву:
– Возьмите, а то упадет, и придется вам лезть к лягушкам. То-то будете хороши.
Маша забросила обе руки за голову, вынула шпильки, и ее волосы рассыпались по плечам телогрейки.
– Знаете, Слава, у меня в детстве была коробка с морской свинкой. Папа подарил. Мы закрывали ее на ночь, а чтобы свинка дышала, проделали в крышке сверху несколько дырочек. И вот мне казалось, что ночь – это когда землю накрывают такой огромной крышкой, а звезды – это те дырочки.
Юрьеву захотелось тоже рассказать что-нибудь о детстве, но он не знал, что и как. Отца у него вовсе не было. Никогда и никакого. Ему запомнилось, как он играл во дворе с другими мальчишками, и кто-то похвастался, что грузовик ему купил папка. Юрьев побежал домой и спросил:
– Где мой папка?
У мамы кто-то был, и она зашикала на него.
Мама, работница-ткачиха, отдавала сына на пятидневку. Когда дежурный воспитатель запирался на ночь в своей комнате, в палатах начиналась жизнь по своим, детским законам, жестоким и неизменным. Плевались друг в друга, прикрываясь простынями, пока они не становились мокрыми. Привязывали полотенцами к кровати и били. Один на один дрались редко, почти всегда наваливались гурьбой на кого-нибудь послабее. Кричать и звать на помощь было нельзя – затравили бы совсем. Приходили старшие, обшаривали тумбочки, забирали все, что находили, поэтому карандаши или конфеты, вообще всё нужно было прятать под матрас, но смотрели и под матрасами. Глупые проделки вызывали всеобщий восторг. Один раз спящему Юрьеву вставили в губы завернутый воронкой лист и помочились. Его вытошнило, и все кругом умирали от хохота. Его заставили убирать рвоту наволочкой. Потом все уже спали, а он в туалете отстирывал ее холодной водой, то и дело принюхиваясь, но она все еще пахла. По водосточной трубе мальчишки постарше залезали на второй этаж, где спали девочки. Онанировали открыто, бахвалясь, любили спускать младшим в ботинки и валенки. В уборной бумаги никогда не было, летом вытирались сорванными с кустов листьями, а зимой вырывали страницы из школьных тетрадей, но и это отбирали старшие. Все хотели дежурить на кухне, потому что тогда можно было что-нибудь своровать и съесть. Каждый вечер поварихи уходили домой с огромными сумками, набитыми мясом, рыбой, фруктами, а учащихся всегда кормили или кашей, или водянистым пюре с подгоревшей котлетой, а пить давали мутный компот из сухофруктов. После уроков директор иногда уводил кого-нибудь нашкодившего в туалет и там бил. Тот жаловался своим дружкам из местных, и тогда били директора, подкараулив его вечером у автобусной остановки.
Еще Юрьев хотел сказать, что у него никогда толком не было девушки, что он никогда еще никого по-настоящему не любил, а то, что было, скорее похоже на какое-то неловкое недоразумение, и вспоминать то седьмое ноября, кусок селедки, упавший на коленку новых брюк, пьяную подругу мамы, тоже ткачиху с фабрики, ее скользкий от пота, как намыленный, большой живот неприятно, стыдно и совсем не хочется.
В ванной из него вылетали в зеленую горячую воду детки-медузки, но хотелось любить по-настоящему, влюбиться так, чтобы забыть долг и совесть.
Один раз только было у Юрьева что-то напоминавшее юношескую, почти детскую влюбленность, но и там рассказывать особенно было нечего. Однажды мама забрала его прямо с уроков, и они поехали на вокзал. В кассовом зале были бесконечные очереди, и мама стала пробиваться к окошку, размахивая телеграммой, но другие люди, распаренные, злые, тоже тыкали ей в нос такие же телеграммы и отпихивали ее. Тогда они пошли прямо на перрон, к поезду, и мама долго говорила о чем-то с одной проводницей, потом с другой, но каждый раз отходила от них, ругаясь и сплевывая. Потом она подошла к какому-то проводнику, пузатому, с золотыми зубами, и долго шептала ему что-то в самое ухо, тот улыбался, сверкая коронками, будто ему щекотно, поглядывал на крышу вокзала, с которой солдаты из стройбата сдирали куски железа, на маму, на Юрьева, чесал в жирном затылке, в складках шеи и в конце концов кивнул, мол, проходите, что-нибудь придумаем. Мама и Юрьев разместились в купе проводников, он залез на верхнюю, третью полку, а мама с проводником, заперев дверь, достали колбасу, помидоры, водку, смотрели в окно, пили и разговаривали. Проводник рассказывал о какой-то Наде, которая работала телефонисткой на станции скорой помощи, принимала вызовы, но ушла оттуда, потому что не могла записывать каждый день в журнал, как груднички падают со стола на пол, когда их пеленают растяпы-мамаши. Надя влюбилась в женатого, у которого было двое детей, а тот влюбился в нее, но уйти к ней не мог из-за сыновей. Они с женой договорились, что будут хотя бы для детей, пока не подрастут, делать вид, что они все еще семья, а домой он и так приходил не каждый день, к этому дети привыкли, ведь знали, что их папа работает проводником и уезжает иногда, если долгий рейс, на неделю. Потом Надя заболела, и никто не мог понять, что с ней происходит, она стала худеть, сохнуть на глазах, передвигала ноги с трудом, а врачи никак не могли поставить диагноз, одни говорили, что волчанка, другие, что онкология, но никто ничего сделать не мог, и всем было понятно, что Надя умирает. Тогда его жена сказала, что Наде нужно родить ребеночка. «Детку вам нужно, – сказала она мужу, – детку. И все тогда будет хорошо, все будет славно. Детка успокоит, даст то, что никто не даст». И вот Надя забеременела, и все ее болезни как рукой сняло, стала поправляться, ожила, повеселела. Родила с кесаревым, но здоровенького. Проводник взял отпуск, чтобы помогать ей в первые недели, самые трудные. У Нади начался мастит, заразили в роддоме, но в остальном все было хорошо. Все удивлялись и радовались, потому что это было как чудо. Потом Надя сказала, что хочет пойти наконец в парикмахерскую. Он сидел с ребенком и ждал ее, а она попала под машину и умерла в больнице от множественных переломов, не приходя в сознание. Ребенка проводник взял себе, и вот теперь у них с женой трое детей. Мама Юрьева гладила проводника по ежику на жирной голове и смотрела в окно, там плыли по снежному горизонту огромные шары газового завода. На следующий день они приехали в Стерлитамак, где в деревянном доме рядом с новостройкой жили тетя Юрьева с дочкой и дедушка, вернее, жили только тетя с дочкой, потому что дедушка лежал в холодных сенях на столе. На его лице была салфетка, из-под нее торчала борода. Ногти были сиреневые. «Хорошо, здесь холодно, – сказала тетя Юрьева, вытирая пахнувшие селедкой руки о фартук, – и никакой заморозки не надо». Таша была Юрьеву ровесницей. Их отправили вместе принести воды, чтобы не мешались. Колодец был во дворе, нужно было долго качать, чтобы пошла вода. Юрьев и Таша качали по очереди, считая, и только на тридцатый качок в ведро потекла тонкая струйка. Останавливаться было нельзя, чтобы вода не ушла, и Юрьев весь взмок, пока набрали два ведра, и Таша тоже. Потом они пошли в парк, там все было в свежем снегу, и даже провода от снега провисали над головой тяжелые, толстые, как надутые пожарные рукава. От солнца тени деревьев были ярко-синими, и тень от дыхания на снегу тоже была синей, пока не исчезала. Снег был слипчив, и, забравшись в глухой конец парка, они стали бросаться снежками из-за кирпичного забора в прохожих. Снежки были мокрые, тяжелые, вперемешку с семенами липы. Одни прохожие растерянно оборачивались и сокрушенно отряхивались. Другие ругались и грозили во все стороны кулаком. Один военный заметил Ташу, у нее была вязаная шапочка с ярким красным помпоном, засмеялся, щурясь на солнце, швырнул снежком в их сторону и побежал дальше – с белой отметиной на спине шинели. Потом из окна соседнего дома кто-то стал на них кричать и грозить кулаком в форточку, которая, открываясь, сверкнула отраженным лучом, и Юрьев с Ташей бросились сломя голову по сугробам к выходу из парка. Потом она потащила его на стройку. Был выходной день, и рабочих не было. Дом стоял насквозь продетый лучами сквозь пустые, без рам, окна. Сторож грелся в вагончике. Никто не видел, как они вошли в заваленный ящиками с плиткой подъезд и стали подниматься по бесконечной лестнице, перешагивая через мятые белые ведра, черные рулоны, гнутые железные прутья. Все было заляпано краской, раствором, грязью. Сначала Юрьев считал этажи, но потом сбился и поднимался, думая уже только о том, как бы не отстать от Таши. Они ходили по темным коридорам, загроможденным досками, связками паркета, дверными коробками. В пустых, залитых солнцем комнатах со змеиными язычками проводки в потолке было эхо, и Таша принималась мяукать, а Юрьев лаять, и это было смешно, и они хохотали. Кое-где уже были вставлены рамы с мутными, забрызганными краской стеклами, но везде было холодно, промозгло, и изо рта шел пар. Юрьев и Таша открыли дверь на балкон, которого еще не было, а может, и не должно было быть. Где-то далеко внизу были крошечные дома с белыми, сверкавшими на солнце крышами, а совсем под ногами – дом Таши. Было видно, как открылась дверь, с крыльца сошла мама Юрьева, маленькая, меньше божьей коровки, и вылила ведро с помоями в сугроб, подставила другое ведро под трубу колодца и принялась качать воду. Таша вдруг схватила Юрьева за рукав и дернула, будто хотела спихнуть его вниз. Юрьев испугался, а Таша засмеялась. Тогда Юрьев схватил ее за рукав и дернул, будто хотел выпихнуть ее в дверь несуществующего балкона, и они оба засмеялись. Юрьев подумал, что так хорошо, как тогда, перед открытой дверью в многоэтажную пустоту, наполненную скрипом колодца, и в которую они с Ташей, раскрасневшиеся, с замерзшими пальцами и носами, пихали друг друга, умирая от хохота, ему никогда больше не было. И вот теперь он шел рядом с этой маленькой, ему по плечо, еще совсем не старой и, наверно, когда-то красивой женщиной, слушал, как она говорила ему о своем муже, которого не любила, и почему-то Юрьеву показалось, что когда все между ними произойдет, а произойдет как-то наверняка неловко, стыдливо, второпях, ему будет неприятно смотреть на нее. Она станет какой-то другой, несвежей, помятой, и он постарается побыстрей от нее избавиться, убежать, помыться. И Юрьев снова вспомнил тот зияющий балконный сквозняк, далекие крыши внизу, Ташу, у которой от мороза и смеха то и дело вытекала из носа изумрудная на солнце сопля, которую она вытирала своей мохнатой варежкой.
Маша говорила Юрьеву о Жене, о том, как им трудно вместе, потому что он добрый, умный, очень одаренный, однако при этом тяжелый, раздражительный, беспокойный, неуютный, но она все равно счастлива с ним. Потом опять принималась жаловаться на мужа, что он мелочен, капризен, придирчив, много ест, нечистоплотен. Иногда ей казалось, что Юрьев не слушает ее, думает о чем-то своем, но Маша почему-то не могла остановиться и рассказывала, как когда-то давно, вскоре после свадьбы они поехали на юг отдыхать и снимали комнату в Пицунде в большом деревянном доме в пяти шагах от моря, их комната была заставлена четырьмя кроватями, и кособокий, неуклюжий дом просто распирало от таких комнаток, заставленных продавленными панцирными койками. Хозяин был старый грузин, иссохший, наверно, чем-то больной, с тощими узловатыми ногами, покрытыми синими шишками. Его внук, скучавший на верхней террасе, болтая над Машей грязными босыми ногами, прицеливался из пластмассового пистолета в окно соседнего дома и говорил, что, когда вырастет, перебьет всех абхазов. «Но почему?» – спрашивала Маша. «Потому что это не люди», – отвечал мальчик. «А кто же они?» – недоумевала она, удивляясь, откуда в таком маленьком человечке уже столько злобы. «Абхазы», – говорил мальчик, стреляя заодно и в Машу. Каждый день они ходили на пляж и проводили там почти целый день, жарясь на солнце, а когда становилось невмоготу и казалось, что волосы вот-вот вспыхнут, лезли тушить себя в воду. Женя брал с собой толстую английскую книгу и два тома словаря и читал, закутав голову майкой, как бедуин, и надев черные очки. Чуть ли не из-за каждого слова он копался подолгу в словаре и что-то записывал в толстую тетрадь, потом, сморенный жарой, засыпал. В черных очках отражалась галька и время от времени чья-нибудь нога в резиновых шлепанцах. Отдыхающих было много, полотенца и одеяла расстилались плотно, почти впритык друг к другу. Над головой все время ходили. Пахло вареной кукурузой, которую продавали из ведер, прикрытых тряпкой. Обгрызенные кукурузные кочерыжки бросали просто на камни, и ими кормились тощие коровы и огромные, не меньше коров, свиньи, бродившие утром и вечером по пляжу. Очнувшись, Женя шел в воду, окунался у берега и снова принимался копаться в своих словарях. На солнце бумага быстро выгорала, и вечером становилось заметно, как пожелтели за день страницы. Маша видела, с какими ухмылками окружающие смотрели на Женю, и ей было неприятно, но старалась не обращать на них внимания. Иногда ей тоже хотелось побежать по раскаленным гладким камням к соснам и играть в волейбол с черными от загара, красивыми, мускулистыми молодыми людьми и стройными, легкими, ловкими девушками, потому что она в школе тоже когда-то хорошо играла в волейбол, или заплыть куда-нибудь далеко за буй, потому что она хорошо плавала и не понимала, как это можно утонуть – ее волна выпихивала, как шарик от пинг-понга, но Женя не играл в волейбол и не плавал, только плескался у берега, не заходя на глубину, и она оставалась лежать с ним, перебирая руками камушки, живые в воде и на глазах умиравшие на солнце, собирала в пучки длинные сухие иголки, падавшие с пицундских сосен, и глядела на ленивый знойный прибой, почти невидимый за безногими, бюстами, головами. Шум моря был едва слышен за гомоном, криками, музыкой из пляжной палатки, футбольным репортажем по радио. Еще на пляже через каждые двести метров стояли вразвалку кабинки для переодевания, в них густо пахло мочой и во все щели были заткнуты куски побуревшей ваты. Везде было много людей, и в доме, упиханном кроватями, и на пляже, выложенном телами, и на черноволосом рынке, где все толкались и нужно было крепко держать в кулаке кошелек, и в столовой, в которой спертый воздух звенел от мух и все наступали в разлитый по цементному полу борщ, и Маше казалось, что единственное человеческое во всем этом людном гаме – море, но только подальше от берега, где уже не было ни водных велосипедов, ни надувных матрасов, ни плавающих голов. Умывальник был на дворе, к нему вела дорожка, на которой валялись раздавленные ягоды, нападавшие с шелковицы, и гниющие абрикосы. От умывальника женщины ходили в уборную, неся перед собой кружку воды, и Маша тоже носила в кружке воду, идя мимо стола под виноградным навесом, где пили вино и водку мужчины, играли в нарды и смотрели на нее. Она отворачивалась и глядела за забор или на облака и горы, ей было отчего-то стыдно, хотя другие женщины, проходя мимо стола, смеялись, и шутили с мужчинами, и кричали что-нибудь озорное и веселое, делая вид, что сейчас выплеснут воду из кружки на них и обольют и стол, и нарды, и мужчины тоже смеялись, озорно и весело, и во всем этом не было ничего постыдного. В покосившейся уборной, сколоченной из сизых от времени и непогоды досок, пол скрипел, прогибался, и было страшно, что он вдруг треснет, а в неровно выпиленной дырке, совсем близко, может, на расстоянии руки, шевелилась жижа, это были какие-то белые черви, как разваренная вермишель. Один раз они ходили в Леселидзе за вином, им дали адрес одной абхазки, которую все называли старухой Изергиль. Пока старуха наливала в бутылки вино, ее сын, толстый, веселый, в наколках, угощал их хачапури и рассказывал, как накануне пьяный грузин на машине задавил ребенка. «Вот увидите, – сказал он, – придет день – и здесь ни одного грузина не останется. Ни одного!» В соседнюю комнату поселились две налитые голосистые харьковчанки, которые так обгорели в первый же день, что кожа с них сходила, как пленка. Они для того, наверно, и приехали на юг, чтобы каждый вечер с кем-нибудь совокупляться, и потом, в комнате, делились подробностями, хохоча и матерясь – сквозь тонкую перегородку все было слышно, и каждое слово, и как встряхивали с простынь песок, принесенный с пляжа, и как, намазываясь кремом, звонко шлепали друг дружку по ляжкам. Перед тем как заснуть, Маша прижималась к Жене, чувствуя под губами его соленую от морской воды кожу, и думала о том, какое счастье им было дано в жизни найти друг друга в этом помойном, засранном мире, где правят сперма и злоба.
– Да вам деток нужно, Мария Дмитриевна, – вдруг сказал Юрьев, – деток. И все тогда будет хорошо, все будет славно. Детки успокоят, дадут то, что никто не даст.
Маше захотелось рассказать о той зимней ночи, когда заболело, будто снова начались месячные, только, может, немножко сильнее, и вышло совсем немного крови, и это был их с Женей ребенок, и о том, как Женя понес на улицу то ведро с помоями, о враче, который подбрасывал в печь дрова и теми же руками, не сполоснув их, стал обследовать ее, полез пальцем, обмакнув его в вазелин, о том, что детей у нее не будет, не может быть, но подумала, что все равно этого не расскажешь, не объяснишь, да и зачем.
О том, что Д. лежит в городском саду на подорожниках рядом с затоптанной поколения назад клумбой, обливаясь кровью и взывая о помощи, сообщила бывшему помощнику прозектора М., каким-то образом встретив его на аллее, утонувшей в запахе ночных фиалок, значит, было достаточно поздно, потому что оркестр, в котором толстая труба ухала вкусно, ушел, отыграв свое, в казарму и солдаты уже построились к вечерней молитве, дивные слова которой теряются в розовеющем небе, мешаясь с шепотом листвы, ведь в этот тихий закатный час благодарят Господа за щи да кашу и просят дать им пожить еще немного все воины России, некая девица иудейского вероисповедания, что нередко случается в романах, проходившая свидетельницей по названному делу, черномазая, клювоносая, пугливая. Соня, назовем ее так, скрыв в интересах следствия истинное ее имя, ибо кто из нас знает свое истинное имя, если аз есьм сый, то и вы – сый, и она, и вот это пресс-папье с ручкой-яичком – тоже сый, показала на допросе, что знала Д. давно, уже несколько комариных лет и гриппозных зим, состоя с ним в должностных сношениях, исполняя обязанности заведующей библиотекой, в которой уже давно все разворовали, а то, что есть, изорвано, истрепано, изрисовано гениталиями, и она что могла спасти, спасла, перенеся к себе в комнатку, которую снимает в избушке на курьих ножках, где постель льдиста, а в окне бысть облак огнен распростерт. На вопрос, как она познакомилась с истекающим кровью и взывающим о помощи, свидетельница ответила, что не помнит, пытаясь, разумеется, отпереться запамятливостью и грузом прошедшего с той застуженной минуты времени.
– Да ничего особенного, честное слово! – промямлила Соня. – Холодно было, мороз, набросила на себя все что могла, сидела целый день в шубе, хотела чаю заварить, да кипятильник сломался.
Разочарование в зале – читаем дальше в скобках запись ремингтонистки. Вот если бы вы, голубушка, ехали на лошади и та, взбесившись, погнала бы, а он ее под уздцы, спасши вам череп и жизнь…
Да и Д. подумал однажды о том, вспоминая далекий день, когда шел мимо поваленного снегом забора с зарослями ржавой колючей проволоки, которая каждое лето цветет вьюнками и когда-нибудь принесет плоды, а другая часть забора, что ближе к шпалопропиточному заводу, уже два года в бегах, и в первый раз постучался к ней в библиотеку, что если он действительно лишь действующее лицо одного русского романа, то встреча героя и героини могла бы произойти как-то поромантичнее, что ли, где-нибудь, например, в банной мгле санпропускника в Карлаге, он, например, фельдшер, отвечающий за борьбу со вшами, в мокром, прилипшем к спине и животу халате, она – голая, прикрывает свои обвисшие тряпочки и свой никому не нужный бритый срам и говорит, потряхивая завшивленной головой, бормочет сквозь зубы, не надеясь быть услышанной: «Хоть волосы оставьте! Все отняли, мужа, сына, ничего больше нет – хоть это оставьте!», а фельдшер, отлепляя от спины и живота мокрую ткань, успокаивает: «Да зачем тебе волосы, дура, только морока – утром будут к нарам примерзать, придется отдирать по прядям, а так отрежем – и будет легко, свободно!» Или, например, он – красавец, обгоревший танкист, товарищи спасли его из подбитой машины на окраине Грозного, а она, допустим, ни рожи ни кожи, моет полы в госпитале Бурденко, и вот оба одинокие, потерянные, нелюбимые, она моет под его кроватью и смотрит на фотографию на тумбочке, каким он был до исполнения долга и каким уже никогда не будет, потому что глаза сгорели, и уши, и многое другое, одним словом, еще только петь может, вот лежит и поет, а она приходит послушать, потом они женятся, и она возит его в метро в кресле на колесиках, и он держит в руках ту фотографию и поет, денег собирают немного, но на жизнь хватает, во всяком случае больше, чем ее зарплата и его пенсия. Или еще что-нибудь в том же роде. И пусть это, конечно, ходульно, книжно, подумал Д., но все лучше кипятильника.
В комнате было стыло и темно, в углу у образов мерцала вишневая лампадка. Соня пыталась читать, и каждый раз приходилось снимать варежки, чтобы перевернуть страницу. «По сем взяли священника пустынника, – читала Соня, – инока схимника, Епифания старца и язык вырезали весь же; у руки отсекли четыре перста. И сперва говорил гугниво, по сем молил пречистую Богоматерь и показаны ему оба языка московский и здешний на воздухе: он же, один взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся во рте». Соня смотрела на заросшее инеем окно и вспоминала, как летом на пляже в Пицунде клала на книгу раскаленный на солнце голыш, чтобы ветер не листал страницы, а мимо ходили по намытой полоске песка, и следы сразу подсыхали по краям.
Она любила устроиться где-нибудь рядом с детьми и смотреть, как они носят из моря воду в полиэтиленовых мешочках, надувших щеки. Из дырявых пакетов прыскало во все стороны. Или играли в доктора: ложились по очереди на живот и ставили друг другу банки – клали на спину горячие камушки.
Однажды она бродила по гряде гальки, и был странный закат. Сверху все обложило, будто укатали асфальтом, а на локоть от горизонта свесилось солнце, опустив вниз ленивые тупые лучи – как вымя.
Безоблачно было только первые дни, а потом пошли парные курортные дожди, граница неба и моря то и дело таяла, горизонт расползался, и его скреплял собой, словно клепкой, далекий удильщик, сидевший на краю мола. К нему можно было идти долго-долго и вдруг увидеть, как выдернутая рыбешка взвилась пропеллером.
Дышать было хорошо, вольно, сладко от запахов мокрых дорожек, каких-то чудесных незнаемых южных цветов, дыма, тянувшего из шашлычных.
Иногда она ходила купаться ночью. Волны неторопливо разгребали гальку. Над ночным морем была луна, а море в лунках.
Один раз был шторм, и Соня никак не могла уйти с берега, стояла, пока совсем не промокла, и смотрела, как вот-вот сковырнет набережную, смоет прибрежные дома, сметет весь поселок, который и появился-то здесь, может быть, лишь в перерыве между двумя большими штормами.
Где-то, наверно, действительно слизнуло кусок берега, потому что пляж после шторма был завален, как длинной баррикадой, бревнами, деревьями, штакетником от забора, всевозможным мусором, а в прибое даже плясал, кувыркаясь, как мячик, розовый поросенок с раздувшимся телом.








