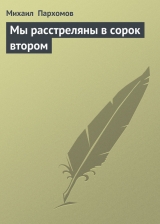
Текст книги "Мы расстреляны в сорок втором"
Автор книги: Михаил Пархомов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Два раза в день – утром и вечером – нам выдают мутную, тепловатую бурду. Случается, что каждому перепадает и по ломтю черствого хлеба. Это особенный хлеб. Мы его называем «золотым». Пекут его из высевок пополам с кукурузой. По крайней мере так уверяет Степан Мелимука, который до того, как стал рулевым, несколько лет проработал судовым коком.
Бурду нам варят из отрубей, в ней плавает картофельная шелуха. Повар наливает это варево в ржавые жестяные банки из-под консервов, в котелки, в глиняные миски и черепки. Эту посуду вместе с деревянными и алюминиевыми погнутыми ложками мы постоянно держим при себе.
Такой еды, конечно, едва хватает, чтобы не умереть с голоду. Если кому-нибудь посчастливится раздобыть морковку либо мерзлую луковицу, это для нас праздник. Но такое случается редко, и когда раздают лагерную похлебку, мы все набрасываемся на нее, по словам Леньки Балюка, «как шакалы». Едим стоя, на коленях, присев на корточки, согнувшись в три погибели и просто повалившись на солому. Лязгаем зубами, чавкаем, обсасываем голые кости. Надо же, в самом деле, задать работу зубам, которые шатаются и выпадают из красных, разбухших десен!
Первым, уву всегда, набрасывается на пищу сам Ленька Балюк. Еды ему постоянно не хватает, он мучается, и мы «подбрасываем» ему время от времени то пайку хлеба, то еще чего нибудь. Чаще других отдает Леньке свою порцию Сухарев. Сам он почти ничего не ест.
После обеда все как-то добреют. Лииа тускло озаряются слабым светом больных глаз. И появляется в этих глазах отсвет прошлого, далекого, потерянного безвозвратно, того, что кажется сегодня сказкой.
– Помните, какую яичницу с салом нам выставила чернобровая солдатка в Мышеловке? – говорит Сенечка. – Никогда не ел ничего вкуснее. Яичница аж шипела и сама просилась в рот.
– Положим, наш кок тоже готовил яичницу – закачаешься! – вспоминает Жора.
– Черт!.. А биточки?
– Да, чего-чего, а мяса хватало, – говорит Харитонов. – Сегодня свинина, завтра телятина. – И принимается напевать, перевирая слова:
Каким вином нас угощали!
Какую закусь подавали!
Уж я пила, пила, пила…
У Леньки Балюка от этой песни в животе возникает такая музыка, что он вскакивает. Не прошло и часа после обеда, а Ленька уже снова голоднее волка.
– Хоть бы ты помолчал, Курский соловей, – просит Ленька. – Очуметь можно.
– Так и быть. По просьбе почтеннейшей публики концерт отменяется,отвечает Харитонов и умолкает.
Но теперь уже сам Ленька не в силах сдержать нахлынувшие на него воспоминания.
– Боже, какой я был пижон, – говорит он, нарушая молчание. – Каждый день проходил мимо закусочных, мимо кондитерских. Так нет того чтобы зайти – вечно куда-то спешишь. Вот досада! Сколько отбивных я мог съесть и не съел. А пирожных! С заварным кремом, «наполеонов», корзиночек… И мороженого!
А по мне, так нет лучшей рыбы, чем колбаса, – говорит, не вытерпев, Сероштан. – Бывало мне жинка як нажарит… Домашнюю, свиную… Вот бы сейчас покуштувать.
– С французской булочг подхватывает Сенечка. Чтобы хрустела на зубах. А колбасу на сковородку…
– И то правда. С луком.
– Еще чего захотел!
– А я так даже против обыкновенного шницеля не возражаю, – говорит Жора. – На Константиновской была нарпитовская столовка, так там завсегда подавали на второе шницеля.
– А потом компотик…
– Или кисель. На третье.
Ленька прислушивается к голосам, болезненно морщится и говорит:
– Да замолчите, черти. Живот сводит. Вы когда-нибудь кончите варить воду или нет?
– А ты не слушай.
– Да ты ведь сам начал, Лень, а теперь кричишь.
– Ну, начал. Был такой грех. А теперь прошу…
– Добре…
«Повара» умолкают. Но ненадолго. Понизив голоса, перейдя на шуршаший шепот, они снова принимаются за свое. Причмокивают даже от удовольствия.
Ленька затыкает уши. Зарывается с головой в солому. А мне еще долго слышно, как Сенечка и Жора, перебивая друг друга, пекут, варят и жарят…
«Вот и еще один день прошел, – думаю я. – А сколько их осталось у нас, таких дней?»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Надеяться и верить
По лагерю разнеслась весть о том, что немцев расколотили под Москвой. Говорят, им здорово досталось. Наши будто бы окружили несколько немецких дивизий – с танками, с артиллерией, словом, со всеми потрохами, и не оставили камня на камне.
К нам в клуню это известие приносит вездесущий Сенечка. У него всюду друзья-приятели, есть знакомства даже по ту сторону проволоки, и он всегда обо всем узнает раньше других.
– Немцы бегут, – докладывает Сенечка шепотом, едва сдерживая радость.Ну, теперь они покатятся колбаской…
– Нагляделись на Москву в полевые бинокли, – говорит Семин. – Хватит.
Мы сидим голова к голове. Лица разглаживаются, светлеют. Победа! Мы впервые пробуем на зуб это слово, интересно, какой у него вкус? Смотрим друг на друга, подмигиваем, подталкиваем плечом. Победа? Ленька Балюк ложится ничком. Неужели победа? Жора расслабленно опускает длинные руки. Победа, братки, победа! У Васи Дидича лицо точно из теста – вот-вот расплывется. Победа, черт побери! Сероштан поднимается, расправляет могучие плечи, и кажется, что, перенеся ногу через лежащего Леньку, он зашагает куда глаза глядят, не обращая внимания на стены, на рвы, на реки, и будет шагать до тех пор, пока не дойдет до этой самой Победы и не возмется за нее своими волосатыми ручищами. Он должен пощупать, какая она, эта Победа, из какого материала она сделана, крепок ли он.
В этот день нам запрещают ежедневную прогулку. Немцы не появляются на территории лагеря. И это самый верный признак того, что им действительно не сладко пришлось под Москвой. И мы ухмыляемся, насмешливо поглядываем на кавалериста, которому уже не долго казаковать. А Харитонов, пройдясь мимо него этаким фертом, даже произносит, передразнивая:
– Ер-р-рунда!..
Хоть мы сами и не участвовали в разгроме немцев, но у нас такое чувство, словно в этой победе есть какая-то, пусть малая, крохотная, но толика и наших усилий. Мы сегодня впервые не замечаем, что бурда по обыкновению отдает жестью и ржавчиной.
– Перманент, ты что будешь делать, когда вернешься? – неожиданно спрашивает Харитонов.
– Я? Странный вопрос! – Сенечка смеется. – Заявлюсь в парикмахерскую, разложу на столике инструмент…
Сенечка заливается счастливым смехом и мечтательно закрывает глаза.
– А ты, Ленька?
– Не говори «гоп»… Дай раньше выбраться…– отвечает Ленька Балюк.
– Скорее бы!
– Там видно будет…– произносит Жора. На минуту он задумывается. В самом деле, что он будет делать, если вернется домой? Наденет набекрень капитанку и выйдет на Крешатик? Ну, а дальше что? Кажется, впервые Жора чувствует, что в его прежней веселой жизни была брешь, была какая-то пустота. Пожалуй, лучше всего ему остаться на сверхсрочную…
Только Сухарев молчит. Он, наверное, думает о Магде. Если Магда, которую он так любил, могла его предать, то кому же тогда верить? Я подсаживаюсь к Сухареву, чувствую его дыхание. Мне хочется ему сказать: «Да ты плюнь,. браток. Стоит ли так убиваться из-за какой-то шлюхи? Прав Сероштан: на свете не мало подлости. Но это не значит, что надо потерять веру в человека. Может быть, это самое важное, самое главное в жизни: надеяться и верить. Верить в человека! Вот в чем соль».
На этот раз мы просыпаемся среди ночи не от того, что ветер выдул из нас остатки живого тепла. Нас будит какой-то высокий рокот.
Мы прислушиваемся. Лица напряженно белеют в темноте. Хриплый, вибрирующий, протяжный звук тянется по небу. Затем слышны разрывы.
Где-то близко, совсем близко от нас бомбят самолеты. Тупые частые удары сотрясают землю.
– Наши, – говорит Семин, и у него блестят глаза. – Слышите? Это в районе Киева.
Я никогда не думал, что звуки бомбежки могут отозваться в моей душе музыкой. Это, должно быть, оттого, что раньше с самолетами и с бомбежкой у меня всегда связывалось представление о смерти. А сейчас самолеты несут на своих крыльях жизнь. Пусть они бомбят, пусть кромсают. Чем дольше будет длиться этот налет, тем лучше.
Откуда они прилетели, из-за Уральского хребта? Бомбардировщики дальнего действия? Нет, врешь, немец. Наша армия не разбита. Ленинград не пал. Наши дерутся. Может быть, под Ростовом. Может быть, на Перекопе. Они не только держатся на оборонительных рубежах, но, чувствуешь, немец, сами стали наносить удары.
– Скоро немцы запляшут, – говорит Харитонов и, заложив два пальца под язык, дерзко свистит.
– Соловей-разбойник заливается. Хоть бы ночью не мешал спать.
– Кто это огрызается?
Ворчит, как всегда, кочегар Коцюба. Пожалуй, он единственный из всех безучастен к тому, что сейчас происходит. Какие-то самолеты? Бомбят немцев? А ему, Коцюбе, какое дело до этого?
– Ладно, ты там помалкивай, – отвечает вместо Харитонова Ленька Балюк, которого разбирает злость. – Не понимаю, как можно думать только о своей шкуре.
Отношение Леньки Балюка к Коцюбе в свое время довольно точно определил Сенечка. «Ноль внимания, фунт презрения», – сказал Сенечка. И это соответствует истине. Ленька не умеет скрывать своих чувств. Ему противно, что Коцюба трусит. Есть же такие люди! Живут, как кроты, и даже умереть не могут по-человечески.
Вот и Коцюба тоже… Этот не станет выручать товарища. Он нарочно сторонится нас. Дескать, какой он матрос? Не по своей охоте он пошел на войну – забрали. Одним словом, паны дерутся, а у него, у Коцюбы, чуб трещит.
Ленька Балюк уже не раз ему говорил, чтобы взял себя в руки и стал человеком. А Коцюба отмалчивается. Ему хочется только одного: чтобы его, Коцюбу, не трогали. Пускай их там воюют. А его это не касается, его хата с краю. Он никак не может понять, что заварилась такая каша, в которую – хочешь не хочешь – а рано или поздно, но каждому придется встрять.
– Ничего, придет коза к возу, – обещает боцман.
– Только тогда поздно будет, – говорит Ленька и отворачивается от Коцюбы.
Пусть Коцюба ворчит. Наплевать. Мы словно бы не замечаем его. Начинаются пересуды, догадки. Самолетов никак не меньше десяти. А может, и все двадцать. Интересно, что они бомбят? Надо думать, что железнодорожный узел, склады и казармы. В таком случае не мешало бы им сбросить парочку-другую фугасок и на гостиницу «Палас», в которой обосновались немецкие офицеры.
Жора Мелешкин подсаживает Сенечку, и тот, ухватившись за стропила, разгребает солому, которой покрыта наша клуня. Долго смотрит на звездное небо. Потом, спрыгнув, божится, что самолеты, возвращаясь с бомбежки, сделали над нами круг. Один из них будто бы даже помахал крыльями.
– Ну, это тебе показалось, – говорит Харитонов.
– Чтобы мне провалиться на этом месте…– Сенечка колотит кулаком в грудь. – Чтобы у меня глаза повылазили…
– Верим, – останавливает его Семин. Он, конечно, понимает, что Сенечка врет. Но Семин знает и то, что это хорошая ложь, – Сенечка старается не для себя, для товарищей.
Самолеты уходят, но мы уже до утра не смыкаем глаз. Нам теперь не до сна. К нам возвратилась надежда.
Правда, заплатить за нее приходится дорогой ценой. На следующий день нас всех выстраивают. Но это не обычная утренняя поверка. Каждому десятому предлагают выйти из строя.
На свою беду десятым оказывается Коцюба.
Он стоит между мной и Ленькой. Я чувствую как у него подкаживаются ноги. Вот-вот он упадет. Ему, конечно, не вынести и пяти ударов. А то, что будут бить, это бесспорно. На этот счет ни у кого нет сомнений.
Вот тебе и «моя хата с краю»!
Но тут вместо Коцюбы рядом со мною оказывается Ленька. Он одного роста с Коцюбой. Я даже не заметил, как он поменялся с ним местами. Все произошло так неожиданно! И зачем Ленька это сделал? Охота было ему выручать этого дурака Коцюбу! Впрочем, он, пожалуй прав. Нельзя допустить, чтобы Коцюба расхныкался и опозорил всех нас.
– Молчи, – шепчет Ленька и выходит вперед.
Через час его приносят. Он весь в крови. Один глаз у него затек синим. К нему, как подбитый пес, подползает Коцюба. Он пытается что-то сказать, издавая булькающие водянистые звуки. но Ленька отворачивается к стене.
Ленька потерял много крови. Его знобит. Временами его лицо становится совсем белым, а временами зеленеет. Мы с Харитоновым не отходим от него.
Месяцы плена не притупили наших мыслей и чувств. Мы не стали равнодушными ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему. Ччо ж, человека можно лишить свободы. У него можно отнять здоровье, любовь, право на счастье. И только одного у него не выкрасть – надежды. А когда есть хоть капля надежды, человек еще не покорен.
Вот Жора Мелешкин. С некоторых пор он стал задумчив. Видимо, Жора размышляет о жизни. Раньше ему не часто приходилось задумываться. Он жил легко, беззаботно. И теперь, когда он морщит лоб, его лицо становится злым, сосредоточенным. Вот Борис Бляхер. Ему тошно не меньше, чем другим, и все-таки он находит в себе силы рассказывать о капитане Немо. Ну, а про Сенечку Тарасюка и говорить нечего. Перманент – в «своем репертуаре».
Но как мне облегчить страдания Леньки Балюка? В прошлый раз, когда до полусмерти избили меня, кто меня выходил, если не Ленька? А такое не забывается.
У меня сохранилась лишь одна вещь, которая мне дороже жизни. Это Тонина фотография. Сам удивляюсь, почему ее у меня не отобрали. Жухлая фотокарточка, которую я постоянно ношу под тельняшкой на груди, согревая ее своим теплом. Когда никто не видит, я вынимаю ее и долго-долго смотрю в подернутые поволокой Тонины глаза.
Случилось так, что я утаил эту фотографию даже от Леньки. Этого я не могу себе простить.
Мне совестно. Конечно, я не должен был так поступить. Надо было сразу же сказать Леньке, что у меня есть Тонина фотография. Я мог выдумать, будто украл ее у Тони, вот и все. Впрочем, и теперь еще не поздно…
Я нащупываю рукой фотографию. Цела. Наклоняюсь к Леньке и говорю:
– Слушай, я совсем забыл… Я должен сказать тебе одну вещь. Понимаешь, однажды, когда Тоня вышла из комнаты, я забрал у нее фотографию. Ту, что на стене висела возле тахты, помнишь? Вот она…
– Я знаю, – слабо отвечает Ленька.
– Как так?
– Да так, я видел…
– Так ты ее видел у меня и молчал? Но почему?
– Я думал, что Тоня подарила ее тебе. На память.
– Ну, вот еще!.. Ты ведь знаешь Тоню! Станет она дарить. – Я отвожу глаза и сую Леньке фотографию. – Бери, она такая же моя, как и твоя.
– Нет, – Ленька качает головой.
– Ленька, будь другом…
Не притрагиваясь к ней, Ленька смотрит на фотографию. Да, это Тоня. Она как живая. Насмешливые глаза, родинка на левой щеке… Он знал, что у меня хранится эта фотография, и молчал.
– А ну покажи, – говорит Харитонов. Он долго и внимательно рассматривает фотографию, передает ее Бляхеру и говорит:
– Правда, хороша?
– Хороша, – подтверждает Бляхер.
– Да… Можно позавидовать…– тянет Сенечка, заглядывая через мое плечо.
Фотография переходит из рук в руки. Все хвалят. Только Сухарев, когда доходит до него очередь, морщится:
– Знаем, все они слабоваты…– говорит он упрямо и тут же уточняет, в чем, по его мнению, заключается женская слабость.
Перебивает его Сероштан.
Я еще не видел боцмана таким свирепым. Он почти кричит:
– Не трожь! Не трожь, говорю! Нет у тебя такого права, чтобы всех мерить на один аршин. Думаешь, если на суку нарвался, так все такие? Я с жинкой, можно сказать, тридцать годов прожил душа в душу. Она мне троих дочерей родила. Так ты и о ней говоришь?.. Молод ты еще о людях судить. Если хочешь знать, так самое святое на свете – женщина. Все равно дите малое, девушка или мать.
– Ладно, не учи ученого, – устало отвечает Сухарев.
Тогда Ленька приподнимается на локте и говорит, вкладывая в свои слова столько презрения, что Сухарев опускает голову:
– Ну и подлец же ты, Сухарев. Нет у тебя души.
И падает. В горле у него клекот.
– Успокойся, – говорю я Леньке. – Сухарев, сам знаешь, не виноват. Это жизнь его таким сделала.
– Нет…– Ленька отрицательно качает головой. – Всегда надо оставаться… человеком.
Жаль, что старший лейтенант Семин не может вмешаться. Он бы Леньку враз успокоил. Но Семин бредит. В лагере свирепствует сыпняк, и нашего Семина подкосило одним из первых. Он свалился еще недели две назад. У него жар, глаза блуждают. Семину кажется, что он на «Стерегущем». Он зовет какого-то Гагнидзе, разговаривает с какой-то Машенькой… Больно смотреть, как он, бедняга, мечется по соломе. Ему худо.
Но Ленька постепенно успокаивается сам. Жадно курит. Затем, как бы разговаривая с самим собой, тихо произносит:
– А я вот, Пономарь, – верю. Что бы ни случилось, я всегда буду верить.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Февраль
Весь январь, от первого дня до последнего, стояли лютые морозы. А потом как завьюжит. как заметет! Вокруг, куда ни глянь, сугробы. Ветер свистит и воет в дырах клуни, продувает ее насквозь. Прав Сенечка: февраль справляет панихиду по Харитонову.
Нет среди нас больше Петра Харитонова. И Тимохина нет, и Самохвалова, и Прибыльского, и многих других. Теперь нас осталось только семнадцать.
Но кто знает, долго ли быть нам вместе? Кто скажет, чья следующая очередь? Я чувствую, что развязка близка. Немцам мы уже порядком надоели. Чувствуют, что нас им не запугать. Кто разносит по баракам смуту? Матросы. Кто подбил весь лагерь нарушить приказ и не выйти на утреннюю поверку? Опять же мы. А этого немцы не прощают.
В углу, на гнилой соломе, лежит Семин. Спит, забывшись тяжелым сном. Возле Семина ерзает Сероштан, который неуклюже ухаживал за ним все эти дни и ночи. Почти совсем оправился от побоев Ленька Балюк, вокруг которого, заискивая, вертится Коцюба. Сенечка и Жора затевают какую-то возню. Сухарев, как всегда, молчит. Бляхер мигает слезящимися грустными глазами.
С гордостью я думаю о своих товарищах, которые, пройдя через пытки и допросы, ни разу не запятнали своей совести…
И вдруг замети как не бывало. Дерзко сияет под солнцем белый снег.
Взвизгивая, открывайся настежь ворота клуни. На пороге стоят солдаты с автоматами и староста-кавалерист. В последнее время он здорово насобачился и калякает по-немецки. Говорит:
– Выходи по одному!
– Всем, что ли, выходить? – вежливо, но с насмешкой осведомляется Сенечка.
– Всем. С вещами.
Как будто у нас есть вещи! Но что делать с Валентином Николаевичем? Он еще не может стоять на ногах?
– Ер-р-рунда, – говорит кавалерист, играя тростиной. – Вы его понесете.И, понизив голос, добавляет, не скрывая злорадства: – Что, допрыгались? Так вам и надо, матросне!..
Мы выходим и выстраиваемся. Сероштан и Ленька Балюк ведут Семина. «Шнеллер, шнеллер, – ворчит Сероштан. – Ничего, подождете!»
Почему-то я вздрагиваю и чувствую, как вздрагивает стоящий со мною рядом Сенечка Тарасюк. Я вижу обмотанные тряпками ноги Сенечки, его потухшие глаза. Шершавая кожа, обтягивающая его скулы, шелушится.
За Сенечкой стоит, не двигаясь, боцман Сероштан. Огромный, как глыба. Сникли усы на его щербатом лице. По правую руку от Сероштана морщится Ленька Балюк в разодранной на груди тельняшке. Длинный, как жердь, Жора Мелешкин закрывает собою парней с двухтрубной канонерки «Верный».
Нас семнадцать человек. Мы ослеплены ярой белизной снега, неба, всего этого зимнего дня.
Автоматчики окружают нас, и мы выходим из лагеря. Голые пни, битый кирпич, снег… Позади остается клуня, в которой мы прожили больше четырех месяцев этой мучительной жизнью. Она остается за проволокой. Там она будет стоять и завтра, и послезавтра, и через год. Возможно, что она будет стоять и тогда, когда нас не будет и когда вернутся те, которым удалось пробиться на восток. А нас не будет… Кто поймет это? И кто расскажет тем, что придут с востока, правду о нас? Кто сохранит о нас память?
Будь проклят тот день, когда мы попали в плен! Будь трижды проклят этот лагерь! Мы смотрим на него в последний раз – каждый уже понимает, что сюда нет возврата, как нет возврата из смерти в жизнь. И от того, что мы понимаем это, даже пропахший кислой вонью клочок земли, на котором мы жили, кажется нам родным и милым. С ним трудно расстаться. Будто отрываешь от сердца последнюю нить, связывающую тебя с жизнью, с землей твоей родины.
Куда нас ведут?
Боцман и Ленька то и дело посматривают на Коцюбу. Хоть бы он не расхныкался. Но Коцюба, к удивлению, держится молодцом. Зато Вася Дидич растерян и глупо улыбается.
– Не дрейфь, братва, – говорит Ленька.
– Выше головы, сынки, – подбадривает Сероштан.
Дорога то теряется в зарослях ивняка, то появляется снова. Она идет в гору, падает, петляет. Безучастные деревья провожают нас.
Мы подходим к Днепру.
Река покрыта застывшей бугорчатой лавой. Кажется, будто лед горит на солнце холодным зеленоватым огнем. Там, где раньше был цепной мост, копошатся люди. Они строят новый мост – укладывают двутавровые прогоны на грузные бутовые быки.
Мы переходим через Днепр по льду. Дорога поднимается к Аскольдовой могиле и идет параллельно берегу. Потом за нами смыкаются заснеженные холмы и закрывают собою ледяной простор реки.
Мы сворачиваем на улицу Кирова.
А мороз звенит..
Теперь ясно, что нас поведут через город. – С боков и сзади шагают автоматчики. Впереди движется легковая автомашина. Нас хотят показать людям, как показывают диких зверей. Смотрите: вот все, что осталось от разбитой армии Советов. Какие-то оборванцы. Какая-то банда…
На тротуарах останавливаются люди. Идут следом за нами. С каждой минутой их все больше и больше. Какими изнуренными кажемся мы им? Но и они тоже хороши. Запавшие щеки, потертые пальто, платки… Идут и молча смотрят на нас. А мы – словно оцепенели.
Но вот какая-то женщина, не выдержав, всплескивает руками:
– Ой, какие молодые! Смотрите, люди добрые! За что их так, соколиков? За что?
В толпе поднимается ропот.
И тут к нам возвращается сознание. Надо что-то предпринять. Но что? Мы видим голые деревья, дома, людей и впервые за много месяцев снова чувствуем, как ослепительно красив этот город и как чертовски хороша жизнь. И от сознания того, что, оказывается, кроме войны, смерти и крови, в мире по-прежнему есть красота, мы подтягиваемся и расправляем плечи.
Я смотрю на тротуар. Возле фонарного столба останавливается девушка в короткой шубке. Красивая, накрашенная. Я узнаю ее. Это Валя, Валентина, дружившая раньше с Тоней… И она узнает меня, но я отвожу глаза.
– Ты ее узнал, Ленька?
– А как же! – он сплевывает сквозь зубы и вдруг громко кричит:
– Песню!
Эх, нет среди нас Харитонова! Вот кто затянут бы, как полагается! Я смотрю на товарищей. Ну, кто отважится, кто?
Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали.
Товарищ ..
Запевает Вася Дидич. У него тонкий дребезжащий голосок. Он вот-вот сорвется.
…Мы едем далеко, Подальше от нашей земли..
Нет, голос Дидича не срывается! Ему вторят другие голоса. Хриплые, грубые. Мы все подхватываем песню. Очнувшись, поет беззубым ртом старший лейтенант Семин. Рычит безголосый боцман. Выплюнув сгусток крови, подпевает Ленька Балюк.
Товарищ, не в силах я вахты держать..
Это твоя песня, Харитонов! Ты был кочегаром. И это твоя песня, Коцюба. Крепись.
Сказал кочегар кочегару Огни в моих топках уже не горят, В котлах моих нет больше пару…
Здание Верховного Совета. Стадион «Динамо». Мы приближаемся к Крещатику. Но что это? Песню подхватывают на тротуарах. Она растет, ширится. Теперь уже не только мы – сотни людей поют:
На палубу вышел-сознания нет.
Машина, которая идет впереди, резко притормаживает. Из нее выскакивают два офицера. Машут руками, кричат. Что, не ожидали? Так вам и надо. Получайте!..
Офицеры останавливают какой-то грузовик. Автоматчики вталкивают нас в кузов. А мы поем. И на тротуарах поют.
В глазах у него помутилось…
Грузовик проскакивает через Крещатик и останавливается напротив крытого рынка. Немцы торопятся. Взбудоражен весь город. Сотни, да что сотни – тысячи людей поют вместе с нами.
Мы поворачиваемся лицом к автоматчикам. Позади у нас голый обглоданный бульвар. Когда-то, помню, он назывался Бибиковским. Потом его переименовали в бульвар Тараса Шевченко. Позади не только бульвар – позади жизнь…
– Стройся! – кричит офицер. И снова, уже по-немецки: Schneller! Schneller!
Мы становимся в одну шеренгу. Надеяться уже не на что. Это конец. Я вынимаю последнюю папиросу «Казбек», которую так бережно хранил. Разминаю пальцами табак и, нагнувшись к опешившему офицеру, прикуриваю от его зажигалки. Затягиваюсь, стараюсь подольше задержать в себе дым и передаю папиросу Леньке.
В свою очередь и Ленька, затянувшись, передает папиросу Семину. Семин – Сероштану. Сероштан – Жоре Мелешкину. Жора…
Папироса обходит всех. Даже Вася Дидич и Борис Бляхер, которые сроду не курили, не отказываются от последней затяжки. Вот и все.
Мы стоим и молчим. Видим, как солдаты упирают черные автоматы в животы.
Мы стоим. Нас семнадцать.
Первый в ряду Парамон Софронович Сероштан, пятидесяти одного года, бывший капитан Днепровского парохода «М. И. Калинин», Сероштан, которому так и не суждено увидеть внука…
Вторым стоит Валентин Николаевич Семин, мой одногодок. Он стоит, шатаясь, без посторонней помощи. Его ясные, светлые глаза слегка насмешливы. Сколько девчат в Севастополе будет плакать по нем!..
Рядом с командиром в разодранной тельняшке покачивается, засунув руки в карманы широкого клеша, Ленька Балюк. Он был простым водолазом на спасалке. Он улыбается, потом хохочет. Слышите, человек хохочет, надсмехается над самой смертью! Кто из вас способен на это?..
Четвертый – Жора Мелешкин. Высокий, тощий. Его называли хулиганом. А он мог бы стать филологом, наш Жора. Сколько книг он так и не успел прочесть!..
Сенечка Тарасюк, которого мы прозвали Перманентом. Парикмахер. Вот уж кто действительно никогда не унывает…
Рыжий веснушчатый Борис Бляхер с грустными глазами…
Застенчивый Вася Дидич. Так ему и не пришлось поцеловать девушку…
Коцюба, который сумел взять себя в руки… Степан Мелимука, бывший рулевой… Иван Помятун, Иван Рудой и Иван Савченко – три Ивана. Их мы почти не знаем. С нами они пробыли меньше недели. Но у них заскорузлые крестьянские руки, которым водить комбайны, вязать снопы… Тысячи гектаров ржи останутся несжатыми и осыплются на корню из-за того, что погибают эти парни…
Моторист Петр Цыбулько… Григорий Цыганок и Михаил Ракушкин, водопроводчик… Сухарев Анатолий… Я.
Нас семнадцать. Мы недолюбили, недорадовались, недострадали. А нам бы жить и жить! Работать, читать книги, ласкать любимых, растить детей и внуков. И гулять по Крещатику. И отбивать девчат у слюнтяев. У нас все впереди и… нет ничего впереди.
Трудно расставаться с жизнью. Но во сто крат труднее умирать, когда враг на твоей земле, в твоем доме, когда о победе можно только мечтать…
Мы не знаем того, что будет. Но верим, что наши придут. И тогда наверняка сочинят замечательные песни, о которых не имел понятия Харитонов. И тогда люди смогут петь во весь голос. И какая жизнь будет тогда, какая жизнь!
– Kehrt um! Кругом! – командует офицер. Но мы не поворачиваемся. Нам не стыдно посмотреть смерти в глаза.
– Ruht! Вольно!
А мы и не собирались стать «смирно».
– Himmeldonnerwetter! – чертыхается офицер.
Ругайся, ругайся сколько влезет!
У нас мало времени. Нам не до тебя. Остались всего две команды: «Achtung» и «Feuer!» – «Пли!». И мы думаем…
Будет время и ни одного оккупанта не останется на нашей земле. Будет время и взамен разрушенных построят новые дома.
Удобные, просторные, светлые. Настанет такое время, когда людям не придется думать о хлебе насущном.
Мы знаем, за что идем на смерть. За то, чтобы наша земля была свободна. Но мы умираем не только за это, но и за то…
Чтобы люди не забыли о старенькой одинокой матери Петра Харитонова, которая живет где-то под Курском. Чтобы братья Бориса Бляхера никогда не услышали позорного слова «жид». Чтобы, если выживет майор Подлесный – такие люди живучи! – никто не подал ему руки. И Вале, которую я сегодня видел, – тоже. И чтобы ни одна девушка не причинила парню столько горя, сколько испытал Сухарев…
Люди вернутся с войны. Многие придут с орденами. Другие – без. Вернутся некоторые из тех, кто был с нами в плену. Так вот, пусть их никто не упрекнет за это. Как знать, быть может, иные из этих бывших пленных воевали не хуже тех, у кого грудь в крестах?
И еще нам хочется, чтобы нас не забыли. Мы стоим лицом к лицу со смертью. За нами – голый бульвар. Что ж, посадят новые тополя.
Землю, на которой мы стоим, зальют асфальтом. И по нему будут ходить люди. Так. пусть они помнят, что эта земля густо обагрена нашей живой кровью… Возможно, что когда-нибудь там, где мы стоим, поставят памятник. Так чтобы у подножия этого памятника никогда не увядали цветы. И чтобы под ним играли дети…
Мы беремся за руки. Жить остается меньше секунды. Я набираю полные легкие воздуха. И последнее, о чем я еще успеваю подумать, это о том, что…
Людям надо вот так вот крепко держаться друг за друга…








