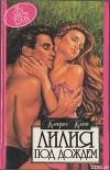Текст книги "Князь Никита Федорович"
Автор книги: Михаил Волконский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
V
РАЗЛУКА
Добравшись до Москвы, Никита Федорович прежде всего постарался отыскать Веселовского, но это не скоро удалось ему. Дня через три он нашел его наконец и узнал, что Веселовский «был тоже взят». Из остальных друзей жены Волконский не знал, кто был в Москве; и их нельзя было видеть.
Никита Федорович вспомнил об Апраксине, которого он знал еще, когда тот был в Ревеле генерал-губернатором.
Граф Федор Матвеевич Апраксин, сподвижник покойного императора Петра I, был членом Верховного совета, считался добродушнейшим человеком и многому мог помочь, если б захотел. Он был еще покойным императором возведен в чин генерал-адмирала, всегда был на виду и теперь занимал выдающееся положение, но при этом никогда не имел врагов и неприятелей. Его как-то все любили.
Князь Никита решился пойти к нему. Еще день прошел в розысках дома, где жил Апраксин.
Он пришел к Апраксину прямо с парадного крыльца. Сидевший в передней графа старый дворовый, вязавший чулок, встретил его вопросительно-недоумевающе.
– Доложи графу, что князь Никита Федорович Волконский желает видеть его.
Эти слова были сказаны таким голосом, и осанка князя Никиты, несмотря на его одежду, так поразила старика, что он встал и пошел докладывать.
Апраксин принял Волконского у себя в кабинете, сидя. у бюро, с табакеркой и платком в руках.
– Милости прошу, будьте здоровы, – ласково встретил он князя Никиту, как неизменно встречал каждого своею добродушной улыбкой.
Никита Федорович сразу заговорил о деле. Апраксин выслушал, не перебивая, грустно-серьезно.
– Знаю, знаю, – проговорил он наконец. – Намедни в Верховном совете слушали.
– Ну, и что ж? – бледнея, спросил Волконский.
Старик Апраксин пожал плечами.
– Ничего против немцев не поделаешь. Уж больно они скоры и все поворачивают на свою сторону. Я еще тогда в Петербурге за Маврина да Ганнибала старался говорить – куда! Только хуже вышло.
Федор Матвеевич махнул рукой, в пальцах которой зажал уже щепотку табака, и потом впихнул этот табак в нос.
– Ну, а теперь? – спросил опять Волконский.
– Теперь?… что ж теперь?… Да вот самое дело у меня, – я прочту, если хотите. – Апраксин взял подшитые одна к другой бумаги толстою тетрадкой, отвернул несколько листьев и стал читать:-"Дворовые люди, Зайцев и Добрянский, явились в Андрею Ивановичу Остерману…"
– А! – беспомощно произнес князь Никита.
Апраксин мельком взглянул на него и продолжал, как бы желая успокоить:
"Донесли, что помещице их, княгине Волконской, велено, за продерзости ее, жить в деревне, не выезжая в Москву (слово «продерзости» он проглотил как-то), а она постоянно пребывает в подмосковной деревне двоюродного своего Федора Талызина, откуда ездит тайно в Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарем Исаком Веселовским; ведет тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно же привез тайно из Митавы, от отца ее, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушке…"
– Ну, тут идет переписка, – сказал Апраксин, снова переворачивая сразу большую пачку разноформатной исписанной бумаги, – а вот мнение совета… – Он пробежал глазами несколько строк про себя и опять громко прочел, – "Княгиня Волконская и ее приятели делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство, и дабы то свое намерение сильнее в действо произвесть могли, искали себе помощи через Венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела. Сверх же того проповедовали о делах Верховного тайного совета…" – Апраксин пропустил еще несколько строк. "За такие вины, – продолжал он, – совет рассудил: княгиню Волконскую сослать до указу в дальний женский монастырь и содержать ее там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в сенате у дел не быть; Егору Пашкову в военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилян, Черкасова – в Астрахань к провиантным делам…"
Апраксин, видимо, разошелся, попав на разбор дела и, по привычке к докладам, не мог остановиться и покатился, желая представить дело как можно обстоятельнее. Он уже сам себя слушал:
– Вышереченное мнение, – заговорил он приятным голосом, – было отправлено к князю Алексею Григорьевичу Долгорукому при следующем письме: "Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию приведено, того ради ваше сиятельство просим, изволите по тому мнению его величеству доложить, и что изволит указать, о том нас уведомить". И князь Алексей прислал немедленный ответ таковой: "Сиятельные тайные действительные советники, мои милостивые государи, по письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал, и через сие мое объявляю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и тако сие донести пребываю и прочее…" Так вот, – заключил Апраксин и, подняв взор на князя Никиту, ужаснулся тому, что сделал.
Волконский сидел пред ним, точно хотел вскочить и вцепиться в него. Особенно страшны казались его глаза, щеки дергались.
– Так вот, – заговорил он, – что ж, вы хотите разлучить меня с нею? Разлучить?… Да разве это в вашей власти?… Разве это в вашей власти, спрашиваю я вас? – И вдруг он захохотал, захохотал так, что Апраксину сделалось холодно. – Да, я смеюсь, – силился проговорить он сквозь смех, – я смеюсь над вами и презираю вас, как презираю ту разлуку, какую вы здесь придумали. А вы забыли дух… Дух! – вскрикнул Волконский, вскакивая с места и махая плавно, но неестественно своим словам руками. – Я захочу – и буду возле нее сейчас, духом моим буду… Он вечен… Я вечен. Разлука ваша – лишение… лишение человеческое… испытание духа. Я выдержу его. Это так ничтожно, временно. Здесь мне ничего не нужно… Суета!.. Все – суета и томление духа… Я над вами смеюсь… – и он снова засмеялся.
Добродушный старик Апраксин растерянно смотрел на него, держа наотлет свою табакерку с платком. Вдруг, точно он вспомнил что-то, он встал и старческими, особенно старческими в минуту сильного волнения шагами подошел к Волконскому. Он всем телом дрожал.
– Успокойтесь, князинька, – проговорил он, – успокойтесь, голубчик; вот пройдемте сюда! – и он своей трясущейся рукой силился поднять князя Никиту.
Волконский перестал смеяться, тихо поднялся с кресел, огляделся и покорно пошел, куда его вел Апраксин. Тот довел его до двери, втолкнул в маленькую соседнюю комнатку и быстро запер дверь.
С этой минуты князь Никита долго не помнил ничего.
Сначала была какая-то тишина и стемнело. Потом опять рассвело. Кажется, кто-то приходил, какие-то веревки стягивали неловко ему руки; потом стук колес, и снова тишина – долгая, долгая тишина.
После этой долгой тишины он вдруг почувствовал, что грудь его дышит, и сердце бьется в ней. Он открыл глаза и огляделся. Он лежал в полутемной комнате с каким-то окошечком наверху; под ним почему-то вместо постели была солома. Он ощупал себя руками и разглядел их. На них, повыше кисти, были заживающие уже поперечные ссадины.
"Меня связывали, – догадался князь Никита, – но зачем?"
– Вот он тут у меня, – послышался за деревянной перегородкой голос. – Лежит вторую неделю без движения; теперь столбняк на него нашел. Я вам говорю, совсем без ума, все равно, что зверь без души.
Никита Федорович узнал говоривший голос. Это был Феденька Талызин.
– А доктору показывали? – спросил другой голос, тоже знакомый.
– Да что ж, доктору? Вы знаете, ведь там у докторов на цепь сажают и обращение уж очень крутое, – здесь, у меня, ему все-таки лучше. Вот вас дожидался, а теперь посмотрим… Вы все-таки хотите пройти к нему?
– Да, – ответил все тот же знакомый голос.
– Ох, не ходите, Михаил Петрович, неровен час! "Михаил Петрович! – подумал Волконский. – Это – П_а_н_т_а_л_о_н!" – вспомнил он почему-то именно прозвище шурина.
– Да отчего вы его держите взаперти, – опять спросил Бестужев, – разве он буен?
– Нет, не буен – смирный. Но тогда, как он убежал от нас, мы, как ни искали, не могли найти его. Думали уже, что кончил с собою, да вдруг он явился в Москве, к самому Апраксину-старику, наговорил ему всего совсем несуразного, уверял, что он – дух, а не человек, смеялся, кричал, что он вечен и всемогущ. И смех, и горе просто… Напугал так старика… Тот его насилу в комнату запер. Прислал за мною… Ну, вот я привез его к себе и боюсь, чтобы он снова не ушел да не натворил чего.
– Ну, а «ей» не сказали, что он сошел с ума?
– Нет, она не знает, ей только сказали, что он болен. А очень ей хотелось видеть его, как уезжала.
– Пустите меня к ней!.. Не сумасшедший я вовсе! – вдруг ясно и отчетливо крикнул князь Никита.
– Слышите? Очнулся! – проговорил Талызин.
– Ну, да, пойдемте к нему!
Замок щелкнул. Маленькая дверь открылась, и в ней показалась фигура Михаила Петровича. Талызин не вошел.
Бестужев поздоровался с князем Никитой, пощупал его голову, оглядел руки и спросил, давно ли Никита Федорович был на воздухе.
– Не помню, – ответил он совершенно твердо.
– А хотели бы пройтись?
Никита Федорович вместо ответа бодро встал со своей соломы.
Бестужев взял его под руку и вывел на свет.
Волконский вышел, щурясь после своей полутемной комнаты.
– А где Миша, Лаврентий? – спросил он.
– Они придут, придут, – успокоительно произнес Михаил Петрович.
Лаврентий действительно сейчас же пришел. Волконский при его помощи умылся, надел чистое белье, камзол и башмаки и вышел в сад к Михаилу Петровичу. Талызин не показывался.
Никита Федорович долго ходил по саду с Бестужевым, стараясь как можно разумнее доказать, что он не сумасшедший, и, беспрестанно повторяя это слово, говорил по чести, что все может понять и понимает.
Михаил Петрович не только не возражал, но часто одобрительно кивал головою, как будто верил в каждое слово Волконского, вполне разделял его мнение и убеждался его доводами. Наконец он будто совсем убедился и ушел в дом по аллее, с видом человека, которому предстоит еще много дела.
Никита Федорович остался ходить в саду с Лаврентием, который почему-то счел нужным поддерживать его под руку, хотя князь шел совсем бодро. Волконский, как бы не желая обидеть Лаврентия, не запрещал ему делать это, если ему так казалось лучше, и продолжал ходить молча.
Наконец в аллее показался Талызин, неуверенно подходивший к князю Никите. Волконский остановился навстречу ему. Феденька подошел на приличное все-таки расстояние и участливо, стараясь говорить как можно спокойнее, спросил:
– Ну, что, как вы? Не хотите ли отдохнуть? Вам уже пора спать, я думаю.
Это значило другими словами – ступайте под замок.
Волконский ничего не отвечал. Прошло несколько времени неловкого, тяжелого молчания.
Наконец выступил вперед Лаврентий.
– Батюшка-барин, – заговорил он, повалясь Талызину в ноги, – отпустите нас к себе! Мы никому зла не сделаем. Отпустите, что вам теперь… мы уедем, ей-Богу, сейчас уедем… Чего вам бояться отпустить нас…
И Лаврентий стал просить и доказывать, что лучше всего для его князиньки уехать к себе, и что он будет жить там, голубчик, никого не трогая.
– Конечно, пустите меня домой, – проговорил князь Никита так просто и здраво, что Талызину показалось это, наконец, вполне должным и возможным.
– Как угодно, – протяжно проговорил он. – Как угодно вам… Что ж, я сейчас же велю заложить коляску… я сейчас…
– Благодарю вас, – сказал Волконский, протягивая руку.
– Я сейчас, – повторил Талызин и, быстро повернувшись, почти бегом направился в дом.
В это время со стороны двора, у крыльца дома, стояла уже коляска Михаила Петровича Бестужева, и возле нее хлопотали люди с вещами.
Сам Бестужев, одетый по-дорожному, стоял тут же, держа за руку Мишу, которого увозил с собою, к себе, не желая оставить его на руках Талызина, а тем более сумасшедшего отца.
– Просится к себе. Как вы думаете, отпустить? – спросил, подходя, Талызин, бровями показывая, что говорит про того, кто в саду.
– Отпускайте, все равно, – бегло, сквозь зубы произнес Михаил Петрович, тоже показывая глазами на Мишу, чтобы Талызин замолчал при нем: дескать, вы там, как хотите, мне все равно, а ребенка дайте увезти спокойно.
– Дяденька, – сказал Миша, – мне хотелось бы повидать на прощанье батюшку.
– Я сказал тебе, что отец твой болен и лучше не беспокоить его, – ответил Бестужев, – он скоро выздоровеет и приедет к нам.
Миша недоверчиво, глубоко вздохнул.
– Ну, готово! – проговорил Михаил Петрович. – Едем! – и он стал прощаться с Талызиным.
Через час другая коляска стояла у крыльца. Князь Никита с Лаврентием уезжали к себе.
– А Миша, где же Миша? – беспокойно спрашивал Никита Федорович.
Ему сказали, что Миша ждет его у них в деревне, и князь Никита уехал домой в надежде, что увидит там сына.
VI
В ДЕРЕВНЕ
Когда князь Никита приехал к себе в деревню и не нашел там сына, он принял это гораздо спокойнее, чем думал Лаврентий, как будто он ждал этого и был готов к тому, или как будто это новое несчастье кольнуло его в такую душевную рану, боль которой была уже настолько сильна, что ее ничем, никаким новым несчастьем нельзя было увеличить.
Он поселился в опустевшем теперь для него доме и по целым дням ходил, не проронив ни одного слова. Ужение было оставлено. Медицина и книги – все оставлено. Постройка, которую не для кого было делать, стояла в запустении, доски мало-помалу разносились, кто хотел ими пользоваться, и пробитая к ней тропинка заросла свежею, зеленою травой.
Князь Никита ничего не делал и ни с кем, даже с Лаврентием, не говорил. Ел он редко, когда попадется, спал, когда случится, иногда среди дня, где-нибудь в углу, на кресле. Ночи почти всегда были у него бессонные.
"Ух, тяжело! – думал он всегда одно и то же, – тяжело вот тут, – он брался за грудь и сдавливал ее. – Один… один… Всех взяли, всех увезли… Но я снесу… И его увезли… Тяжело!.. Они думают, что я сумасшедший, – но мне легче было бы, если бы я с ума сошел. Я не понимал бы тогда, а тут я живу, я понимаю…"
Иногда он пробовал закрывать глаза и, закрыв их, вызывал пред собою милые ему образы, – и тогда недавнее прошлое представлялось ему так ясно, так подробно, как будто он все еще жил в нем. Это облегчало на один миг, на один миг приносило отраду; но глаза открывались – и действительность становилась еще мучительнее, чувствовалась еще живее.
Князь Никита не пропускал ни одной церковной службы.
Он часто тоже молился пред большой киотой в спальне, пред которой столько лет каждый день утром и вечером читал молитвы, стоя вместе со своей княгиней. Порою, когда он с закрытыми глазам и со сложенными руками опускался теперь здесь один на колена, ему вдруг казалось, что рядом с ним снрва шепчет милый, тихий голос, повторяя за ним. Это был голос ее, Аграфены Петровны, и князь Никита обыкновенно слышал его так ясно, что верил, что это она, действительно она приходила к нему.
Он писал длинные письма и жене, и сыну, и Михаилу Петровичу, но не получал ответа, словно его письма не доходили никуда.
Так прошло месяца три.
Князь Никита все молчал по-прежнему, подолгу глядел в одну случайно попавшуюся на глаза точку, выходил из дома с непокрытою, несмотря на дождь и непогоду, головою и по целым дням без отдыха и устали бродил, не замечая, куда он идет. Он часто подходил так к обрыву реки, но также бессознательно поворачивал назад, как и подошел, словно кто-нибудь удерживал его и отводил от опасного места.
Крестьяне уже привыкли встречать его так, и с сожалением, соболезнуя, долго провожали глазами "своего несчастного князиньку", как они говорили.
Наконец душевное состояние князя Никиты дошло до таких пределов невыразимой, безмерной муки, что он по временам терял сознание под ее безысходным гнетом.
У него явились совсем особенные, не свойственные другим людям движения. Так, по временам он выставлял пред собою согнутые руки и, плавно и мерно приседая, поводил ими вперед и назад, будто плыл. Ему все казалось, что внутри его будто колыхается что-то, точно хочет поднять его от земли.
Раз он вернулся после целого дня ходьбы в таком состоянии, что даже привыкший к его виду Лаврентий поразился. Князь Никита, как лунатик, не видя ничего по сторонам, прошел прямо в комнату, которая прежде называлась его комнатой (теперь такое название не имело уже смысла – он был один во всем доме), и приблизился к столу.
"Что-то мне тут нужно было? – вспоминал он. – Но что?… Я зачем-то шел сюда…"
На глаза ему попался ножик; он отбросил его.
"Библия!" – вспомнил князь и взял со стола запыленную толстую книгу.
Прежде он часто, когда его мучило что-нибудь, брал эту книгу, развертывал ее наугад и всегда находил себе ответ. Он вспомнил это теперь и хотел посмотреть, что скажет ему Библия.
Он зажмурил глаза, как всегда делал, взял обеими руками книгу, повернул ее вверх обрезом и, перебрав большими пальцами края листов, быстро раскрыл, словно сломал ее на две части.
Ему открылся тридцать седьмой псалом:
"Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет у меня.
Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни.
А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих.
И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа.
Ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи Боже мой…"
– Ты услышишь, Господи Боже мой! – повторил вслух князь Никита и положил книгу на место.
И ему стало легче.
Теперь душевная мука как-то меньше мешала его мыслям слагаться последовательно и связно. Теперь он мог заняться ими и хоть на некоторое время отвлечься от своих мучении.
"Что-то важное нужно мне было обдумать, – рассуждал он. – Да! Весь вопрос в том, болен я или нет, сумасшедший я или не сумасшедший. Впрочем, это все равно. Но как поступил бы здоровый человек на моем месте?"
Он первый сомневался в здравости своего ума.
"Конечно, я болен, – решил он, – разве здоровый человек сидел бы так, когда никто не мешает поехать хоть сейчас к ней и жить возле ее Тихвинского монастыря".
Волконский узнал через Лаврентия, что Аграфена Петровна была сослана в Тихвинский монастырь.
"Однако эта мысль все-таки пришла мне в голову, – сейчас же подумал он, – значит, я еще не совсем того… Завтра же подумаю, как ехать туда… Но отчего же завтра?… А вот отчего: имею ли я право ехать туда, если так нужно, чтобы мы некоторое время были по-человечески розно?… Я могу поехать, но это будет слабостью… Значит, я нарушу испытание, и освобождение моего духа отложится… Это так, а теперь оно близко… близко".
Князь пошел к образу и забыл, о чем только что думал.
Через несколько дней он опять вспомнил об этом и стал собираться в Тихвин, но мысли его опять рассеялись, словно растаяли. Однако он все-таки не решил окончательно не ехать, а только как-то не мог во всех подробностях мысленно охватить свое предположение; всегда, дойдя до известного места, рассуждения его сворачивали в сторону так же невольно, как он сворачивал, близко подойдя к обрыву реки.
Вечера с каждым днем становились длиннее. Наконец выпал снег, и наступила зима, принесшая со своим снегом, холодом, ранними сумерками и заунывным воем метели еще больше тоски и томления. Но и зимою князь Никита по-прежнему выходил из дома, и если б следивший за ним Лаврентий не успевал накидывать на него его беличью короткую шубку, он так и шел бы на мороз без верхнего платья.
А через несколько времени, в январе 1730 года, скончался от оспы в Москве молодой император Петр Алексеевич. Российский престол снова был свободен, и снова поднялся вопрос: кто займет его?
В деревню князя Никиты эти новости хотя и дошли очень скоро, и Лаврентий сообщил ему их, но князь как-то не придал важности этому событию. Ему не пришло в голову, что участь его Аграфены Петровны зависит теперь от лица, которое взойдет на этот престол, и что княгиня Волконская, обвиненная по проискам Остермана, сильного в царствование молодого Петра, может получить помилование теперь, если при изменившихся обстоятельствах сам Остерман впадет в немилость.
Екклезиаст говорил:
"Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.
И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для каждой вещи и суд над всяким делом там".
В конце февраля стояли еще морозные дни, но они были ясны, и снег ослепительно блестел под игравшими на нем лучами солнца.
Князь Никита в своей беличьей шубке прошелся далеко полем по дороге и возвращался через деревню домой.
Какое-то непривычное, странное оживление было заметно на деревне. Староста с дубинкой ходил под оконца изб, постукивал и вызывал мужиков. Те выходили, оправлялись и нехотя, но все-таки поспешно подвигались к церкви. Бабы прятались.
У церкви собралась уже большая толпа. На паперти стояли несколько приезжих военных, губернаторский чиновник и деревенский священник во всем облачении и с крестом в руках.
Князь Никита не спеша подошел к толпе, которая все прибывала. На паперти, видимо, заметили его приближение, потому что офицер, показывая на Волконского, спросил что-то у чиновника и кивнул головою.
– Дядя Ермил, али драть кого будут? – спросил неподалеку от Никиты Федоровича подбежавший парень, обращаясь к стоявшему сзади толпы мужику и вздрагивая плечами, не обходившимися еще на морозе.
– У, дурень, драть! – ответил Ермил. – Слышь царский указ читать будут.
– Это чтобы сейчас вольная? – беспокоился парень, но дядя Ермил уже не ответил ему.
Две какие-то бабы с коромыслами на плечах подошли было тоже к толпе, но, увидев на паперти чиновника, ахнули и, побросав ведра, стремглав, сдуру, кинулись прочь бегом.
В это время староста, степенный мужик, обойдя, должно быть, деревню, подошел без шапки к губернаторскому чиновнику и с низким поклоном доложил ему что-то.
Чиновник даже не обернулся на этот низкий, почти земной поклон старосты и, махнув рукою остальным мужикам, и без того стоявшим без шапок, в полном молчании, развернул большую бумагу с печатью. Военные приложили руки к шляпам.
Чиновник прочел манифест о восшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны. Он читал очень дурно, и чтение продолжалось очень долго, он давно охрип, видимо, не в первый уже раз читая манифест на холоде.
Когда чиновник кончил, толпа некоторое время оставалась сначала безгласною. Потом вдруг откуда-то из задних рядов послышался пробасивший голос:
– Не согласны!
Стоявший у самой паперти староста вздрогнул и, побледнев, беспокойно обернулся, отыскивая глазами того, чей был этот голос. Но этот голос сейчас же стал голосом всей толпы.
– Не согласны, не согласны, – сдержанно, но потом все смелее послышалось кругом.
Чиновник растерянно оглянулся и посмотрел на офицера, как бы ища его помощи. Офицер молча смотрел на толпу, сурово поводя глазами и наморщив брови.
А волнение толпы разрасталось.
– Ишь нашли – императрица! Как же… когда сам царь Петр жив… жив… пра-а!.. К нам едет… Не согласны… как же… а энто опять… Жив… И по старому закону…
Толпа гудела бессвязные, бессмысленные речи. Очевидно, ходившие толки повлияли на мужиков, они что-то слышали и хотели как-то показать свою разумность, протестовали против чего-то. Но князь Никита, следивший теперь за всем происходившим, понимал только одно – и это было для него главное в эту минуту, – что эти люди, запротестовавшие под влиянием сбившей их с толку молвы и неожиданного объявления о воцарении новой императрицы (он не успел еще вспомнить, что это была та самая Анна Иоанновна, которую он знал бедною, забытою герцогиней в Курляндии), – бормотали свои несуразные слова, собственно, не желая никому зла; вместе с тем князь Никита видел, что стоявший на паперти офицер тоже зла никому не хотел, но лицо его становится все грознее и грознее, и пройдет еще минута – и офицер велит бить этих людей, и им будет больно, и это будет ужасно, и, главное – не нужно.
Князь сделал шаг вперед. Толпа вдруг расступилась пред ним, пропуская его.
Да, пред этим спокойным, неподвижным, тихим лицом и нельзя было не расступиться толпе. Князь Никита сильно изменился в последние полтора года. Бледный, высокий лоб его покрылся морщинами, щеки, покрытые сквозною бледностью, ввалились, в глазах светился лихорадочный огонь, губы побледнели, и весь он исхудал, как только может исхудать человек.
Высокий, строгий, смотрящий прямо пред собою, он прошел среди толпы, которая вдруг вся, заметив его, притихла, поднялся на две ступени паперти и высоко поднял правую руку.
Священник, воспользовавшись минутой тишины, начал читать слова присяги, и князь Никита слабым, но внятным голосом стал присягать, как помещик за себя и за своих крестьян новой императрице Анне Иоанновне, а затем, кончив присягу, спустился со ступеней паперти, и снова, не обращая ни на кого внимания, ушел по дороге в поле.
Чиновника и военных угощал в барском доме Лаврентий.