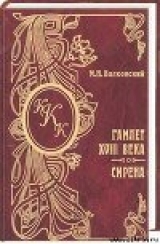
Текст книги "Сирена"
Автор книги: Михаил Волконский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Вот именно! – сказал Кирш.
– В такую-то ночь?
– Это не твое дело; отвечай на то, о чем у тебя спрашивают.
Хозяин снова закрестился и замахал руками.
– И говорить не хочу про это проклятое место. Виданное ли дело, чтобы кто-нибудь ночью туда идти посмел? Да и дороги-то в такую темень не найдете.
Новый блеск молнии и раздавшийся без перерыва вслед за нею удар грома заставили на этот раз вздрогнуть всех. Удар был такой оглушительный, что молния должна была упасть где-то очень близко.
– Ишь его как! – сказал Кирш, оглядываясь на окно. – Ну, так что ж, борода, в какую сторону усадьба? А?..
– Отпустите, господа добрые! – взмолился хозяин. – Не пугайте! Мне и говорить-то об этом страшно!
– Да что ты дурака ломаешь? – начал было до сих пор молчавший Елчанинов, но остановился, потому что в это время сквозь стоны грозы послышались отчаянные крики нескольких голосов.
– Там случилось что-то! – сказал Варгин и бросился к двери.
Хозяин юркнул впереди него, внизу послышались тяжелые шаги, и несколько людей, с трудом переступая с ноги на ногу, стали подниматься по лестнице, неся на руках человека с окровавленным лицом, по-видимому, лишившегося сознания.
ГЛАВА V
Оказалось, что почти перед самым трактиром опрокинулся на ухабе огромный дормез, следовавший на почтовых. Лошади испугались громового удара, ямщик не справился с ними, они рванули в сторону и опрокинули попавший в это время в ухаб экипаж. Ямщик и лакей, сидевшие на козлах, угодили в грязь и отделались легкими ушибами, а бывший в дормезе господин не обошелся так счастливо. При падении тяжелая шкатулка ударила его углом в голову, так что его вынули из дормеза окровавленного и в бесчувственном состоянии. Это был иностранец, французский эмигрант, покинувший, как объяснил его лакей, родину ввиду тех неприятностей, которые чинила там дворянам народившаяся республика. Лакей был поляк, живший в Париже и говоривший по-французски. Он все всплескивал руками и жалобно стонал, повторяя: «Jesus, Maria».
Раненого уложили на тюфяке на скамейку в чистой горнице, и Кирш, Елчанинов и Варгин, забыв уже о первоначальной цели своего приезда сюда, стали ухаживать за ним.
Рана оказалась серьезной, крови вышло слишком много, и можно было опасаться сотрясения мозга.
Сделали перевязку, положили лед на голову; распоряжался всем Кирш, но больше всех хлопотал Варгин.
Часа через полтора раненый очнулся, открыл глаза и повел ими вокруг, как бы спрашивая, где он и что с ним произошло.
Лакей нагнулся над ним и, называя его маркизом, стал спрашивать, где у него болит и как он себя чувствует. Маркиз узнал своего слугу, улыбнулся ему и пристально уставился на Кирша.
Тот, свободно владевший французским языком, назвал себя и своих двух товарищей, объяснив, что они рады служить, чем могут, иностранному гостю и помочь ему в его несчастье.
– Где я? – спросил маркиз, закрыв глаза и снова открывая их.
Ему объяснили.
Веки француза опять опустились, он стал тяжело, но ровно дышать, словно погрузился в глубокий сон.
– А как фамилия маркиза? – шепотом спросил Варгин у его лакея.
– Маркиз де Трамвиль! – значительно произнес тот, подымая брови.
– Он французский дворянин?
– Аристократ, – сказал лакей.
– В первый раз в России?
– В первый!
– Никогда не был тут?
– Никогда!
– И не говорит по-русски?
– Ни слова!
– Вы давно у него служите?
– Нет, недавно. Пан нанял меня в Познани за то, что я говорю по-русски.
По-русски говорил он очень плохо, с сильным акцентом и часто вставлял в свою речь польские слова.
– А вы не знаете, – продолжал расспрашивать Варгин, – где маркиз должен был остановиться в Петербурге?
– Того совсем не знаю! – покачал головой лакей.
– Есть у него, по крайней мере, здесь кто-нибудь, кому можно было бы дать знать о случившемся с ним?
– И того не знаю!
– Как же быть? – обратился Варгин к товарищам. – Ведь нельзя же оставлять его здесь, на перепутье!
– Да и везти никуда нельзя, – сказал Кирш, – пожалуй, не выживет. Похоже на то, что дай Бог, чтобы до завтра дожил.
– Вот жизнь-то человеческая! – философски заметил Варгин, глядя на молодое, нежное и красивое лицо маркиза, – ведь какой молодец, подумаешь! Если бы ему сегодня утром сказали, что вечером он будет накануне смерти, он, конечно, не поверил бы, а теперь...
Маркиз вдруг поднял глаза и, словно в ответ на слова Варгина, произнес ясно и отчетливо на французском языке:
– Я умру!
Эти два слова Трамвиль произнес так неожиданно, что никто в первую минуту не нашелся, что ответить ему, и водворилось неловкое и долгое молчание.
– Я умру, – повторил маркиз, – я это чувствую. Станислав! – позвал он, не поворачивая головы, двинуть которую был не в силах, и только глазами ища своего слугу.
Станислав, стоявший у изголовья, подошел и стал так, чтобы его было видно больному.
– Шкат... шк... – невнятно пробормотал тот заплетающимся уже языком.
Сделанные им усилия, чтобы проговорить несколько слов, заставили его снова ослабеть.
– Шкатулку? – подсказал Станислав, видимо научившийся уже понимать барина с полуслова.
Трамвиль закрыл глаза, как бы сказав этим: «Да!». Станислав взял со стола тяжелую, окованную скобами шкатулку и поднес ее.
– Открыть?
Маркиз опять показал глазами, что «да».
Шкатулка была та самая, которая при падении экипажа причинила все несчастья, ударив углом в голову бедного Трамвиля.
Станислав открыл ее.
Там стоял в бархатных гнездах ряд пузырьков и флаконов, так надежно помещенных, что ни один из них не разбился. Правда, они были сделаны из прочного, граненого, очень толстого хрусталя.
– Крайний... в... левом... углу... – напрягая все свои силы, выговорил маркиз.
Тут на помощь Станиславу пришел Кирш. Он скорее поляка распознал, какой угол считать левым, достал флакон, показал его Трамвилю и спросил:
– Этот?
Трамвиль закрыл глаза.
– Сколько капель?
– Три.
– Три капли только, на стакан воды? – переспросил Кирш.
– Да!
Кирш налил воды в стакан, капнул три раза из флакона ярко-красной, цвета чистого рубина, жидкости, отчего вода не порозовела, а приняла только перламутровый оттенок, и снова спросил:
– Дать вам это выпить?
– Да, да!.. – показал глазами маркиз.
Кирш осторожно поднес к его губам стакан со странным лекарством и бережно почти вылил ему в рот его содержимое.
Через несколько минут глаза Трамвиля широко открылись, он улыбнулся и заговорил бодро и свободно. Три капли сделали чудо, вернув ему, полуживому, жизнь.
– Чем ушибся, тем и лечись, – заметил Варгин. – Шкатулка ушибла, в ней же и лекарство оказалось.
– По всей вероятности, удар, полученный мной в голову, не обойдется без серьезных последствий, – заговорил маркиз. – Рана, вероятно, не опасна, но по тому состоянию, в котором я только что находился, можно судить, что существуют несомненные признаки мозговой горячки.
Тогда почти всякую болезнь называли «горячкой».
– Светлый промежуток, который позволил мне очнуться, – продолжал маркиз, – и который я решился поддержать и продолжить приемом сильного средства, скрытого в каплях этого эликсира, – не что иное, как вспышка угасающей лампы, которая вдруг блеснет, перед тем как окончательно потухнуть. – Трамвиль приостановился, как бы испугавшись, не слишком ли он говорит многословно и поспеет ли договорить то, что ему было нужно. – Силы скоро снова оставят меня, – сказал он, – и, может быть, не вернутся. Но я не могу умереть, не исполнив до конца того, зачем приехал сюда. Надеяться на выздоровление трудно.
– Отчего же? – начал было Кирш. – Может быть, и обойдется?
– Дайте мне договорить, пока я могу это сделать, – перебил его Трамвиль. – Я вижу, вас трое возле меня добрых людей, принявших во мне участие. Судьба, пославшая мне, может быть, последнее испытание, столкнула меня при этом с вами, точно желая все-таки оказать мне помощь. Дайте же мне слово, что вы исполните мою просьбу...
– Что он говорит? – спросил Варгин, не понимавший по-французски.
Елчанинов понимал, хотя говорил плохо.
– Он просит нас что-то исполнить для него, – пояснил Кирш.
– Ну, конечно, мы согласны! – решил Варгин.
– Говорите, – сказал Кирш Трамвилю, – мы готовы служить вам.
– И даете слово, что все сделаете так, как я скажу?
– Даем.
– Немедленно, то есть сегодня же на рассвете?
– Когда угодно, хоть сегодня на рассвете.
– Тогда слушайте, – проговорил Трамвиль и начал объяснять, в чем состояла его просьба.
Он лежал, неподвижно вытянувшись на скамейке, с обвязанной головой, не шевелясь, но говорил отчетливо, словно владел всеми своими силами. Эта бодрость его голоса составляла странную и резкую противоположность с полным бессилием его тела. Казалось, на скамейке лежал не живой человек, а покойник, который вдруг заговорил, и речь его жутко звучала в освещенной сальными свечами закопченной «чистой» горнице придорожного трактира.
Гроза на дворе унялась, и только изредка раздавались раскаты удалявшегося грома.
– Я не могу двинуться, – сказал Трамвиль, – боюсь, что всякое лишнее усилие скорее заставит наступить забытье. У меня на груди надета замшевая сумка на тесемках; снимите ее!
Кирш распахнул ему ворот рубашки и достал сумку. Трудно было, не беспокоя больного, снять ее ему через голову. Кирш обрезал тесемки.
– Так, – одобрил маркиз. – В этой сумке лежит письмо. Вы возьмете его и сегодня же на рассвете отправитесь в Зимний дворец.
– В Зимний дворец? – переспросил Кирш.
– Да, и если государь император сегодня там...
– Это письмо к государю? – удивился Кирш.
– Я забыл попросить вас еще об одном, – сказал Трамвиль, – не расспрашивайте меня ни о чем, потому что большего, чем я скажу вам, я не могу сказать, и отправляйтесь в Зимний дворец, и если государь император там, то спросите придворного арапа Мустафу и отдайте ему письмо. Не рассказывайте ничего о том, как и откуда очутилось оно у вас. Если Мустафа будет спрашивать, отвечайте ему только: «Он жив в сыне». Тогда он замолчит, пойдет и передаст письмо, кому следует. Подождите. Он принесет ответ. Этот ответ немедля привезете сюда, ко мне.
Кирш выслушал очень внимательно и, казалось, все отлично запомнил.
– Все-таки я должен спросить вас, – проговорил он, – если государя нет в Петербурге, а он, что вероятнее всего, теперь в Петергофе, то как мне поступить?
– Государь здесь, в Петербурге, – уверенно произнес Трамвиль, – будьте спокойны. Если его даже вчера утром не было, вечером он приехал наверняка и почивал в Зимнем дворце. Поезжайте туда смело и сделайте все, как говорят вам.
«Вот так штука! – думал Кирш, внутренне улыбаясь. – Ехали, чтобы встретиться с привидениями, и вдруг маркиз, Зимний дворец, арап Мустафа... Странные случаются на свете положения!»
– Теперь, – продолжал между тем Трамвиль, – выньте верхнее отделение шкатулки с флаконами... Станислав!..
Лакей поспешил исполнить приказание. Под флаконами шкатулка была разделена надвое. С одной стороны были насыпаны золотые монеты, с другой – лежало несколько связок писем и бумаг.
– Ого, сколько золота! – проговорил Варгин. – Он, должно быть, богатый.
– Погоди, не мешай, – остановил его Елчанинов.
– Возьмите эти бумаги, – сказал маркиз, – и отвезите их на яхту, остановившуюся на Неве. Яхта называется «Сирена» и принадлежит леди Гариссон.
– Что он говорит? – опять спросил Варгин, не понимавший по-французски.
Кирш перевел ему.
– Я думал, он нам хочет подарить свое золото! – несколько разочарованно протянул Варгин. – Впрочем, на яхту ехать – это тоже хорошо. Я с удовольствием поеду... Все-таки интересно...
Письма и бумаги были переданы Варгину. Он обещал доставить их на яхту сегодня же на рассвете.
– Затем последнее... самое важное для меня, – сказал маркиз заметно уже ослабевшим голосом (силы, видимо, оставляли его, и действие возбуждающего лекарства проходило), – пусть третий из вас поедет в дом к князю Верхотурову...
– Князь Верхотуров умер несколько дней тому назад, – заметил Кирш.
Трамвиль продолжал, как бы не слушая:
– Отвезет туда перстень, который у меня на безымянном пальце, и расскажет все, что со мною случилось... Это самое важное для меня... Умоляю... Сделайте!
– Да князь Верхотуров умер, – повторил опять Кирш.
– Не князю расскажет, а...
Трамвиль не договорил. Судорога исказила ему лицо, все тело дрогнуло, и маркиз замер недвижимый и безжизненный.
– Пан кончается! – проговорил поляк-лакей, сложив руки.
Кирш нагнулся к больному.
– Нет, еще дышит, – успокоил он. – Снимите же с его руки перстень!
– Я боюсь, – заявил поляк.
– Да куда же я поеду с этим перстнем и кому стану рассказывать? – спросил Елчанинов. – Ведь он не договорил... Подождем, может, он еще очнется.
– Едва ли! – сказал Кирш, смело наклоняясь к Трамвилю. – А ехать тебе все-таки надо в дом князя Верхотурова. Не найдешь там никого – дело другое, а ехать – поезжай... Мы обещали ему.
– Что ж, я поеду! – согласился Елчанинов.
Кирш снял перстень и отдал его Елчанинову.
ГЛАВА VI
До рассвета друзья решили не оставлять больного.
Варгин заявил, что он просидит возле него всю ночь. Елчанинов сказал, что сидеть не может, потому что все равно заснет, и лег на скамейку под окна. Кирш ничего не сказал, но, оказалось, один он всю ночь провел без сна у изголовья Трамвиля. Собравшийся бодрствовать Варгин быстро заклевал носом и захрапел, положив руки на стол и беспомощно опустив на них голову. Поляк-лакей расположился на полу. Кирш заставил его лечь и подкрепиться сном, чтобы потом он мог ухаживать за своим барином, когда они уедут и он останется при нем.
Положение Трамвиля было очень серьезно. Однако жизнь не оставляла его. В середине ночи дыхание как будто стало яснее, и маркиз несколько раз бредил, ясно произнося слова. К утру он снова едва дышал.
На рассвете Кирш разбудил товарищей и Станислава и, передав ему попечения о больном, сам заложил чухонскую лошадку в таратайку.
Сонный Елчанинов и едва проснувшийся Варгин, лениво потягиваясь, сели в экипаж. Но утренний свежий воздух быстро заставил их разгуляться.
– Странный этот маркиз, – сказал, когда они тронулись, Кирш, молчавший до сих пор все время.
– Чего страннее! – подтвердил Варгин. – Одно слово – француз.
– В том-то и странность, что он выдает себя за француза, ни слова не понимающего по-русски, – пояснил Кирш, – а между тем ночью в бреду он произнес несколько слов чисто русских и выговорил их совершенно правильно.
– Какие же это слова? – полюбопытствовал Варгин.
Кирш ему не ответил.
Въехав на заставу, они расстались. Варгин отправился в тарантайке домой, чтобы сдать лошадь чухонцу и затем везти порученные ему бумаги на яхту. Их он положил в нагрудный карман и поддерживал все время рукой, из боязни потерять.
Кирш с Елчаниновым пошли пешком до извозчиков. Идти им пришлось долго, почти до Ямской слободы, где они встретили наконец два «калибра», то есть дрожки того времени, на которые седоки помещались верхом.
Усевшись на такой, не отличавшийся особенными удобствами, экипаж, Кирш, простившись с Елчаниновым, затрясся по бревнам старомодной мостовой, на главных улицах уже замененной камнем, но сохранявшейся еще тогда в Петербурге на окраинах. Бревна, положенные рядами поперек улицы, ходили в иных местах под дрожками, как клавиши. Положение седока, сильно напоминало положение морского пассажира во время качки на корабле, но обыватели в силу привычки мирились с этим.
Кирш тоже покорно сносил посланную судьбой пытку, и только когда экипаж уж очень встряхивало, у него вырывалось отчаянное восклицание:
– О, чтоб тебя!
Однако извозчик со своим выпущенным на спину из-за ворота жестяным номером на ремешке не принимал этих слов на свой счет, делал вид, что погоняет лошадь, и дергал вожжами, как будто говоря кому-то:
– О, чтоб тебя!
Был ранний час утра, и улицы пустовали. Но мало-помалу стали попадаться на них чиновники, спешившие в присутственные места, и так же, как Кирш, покорно выносили пытку извозчичьей езды.
Еще недавно, при мудром управлении блаженной памяти императрицы Екатерины II, чиновники почти совсем не бывали на службе, руководясь пословицей, что «дело-де не волк, в лес не убежит»; но теперь, при новом государе, Павле Петровиче, они должны были ежедневно являться к своим местам в шесть часов утра. Порядки изменились. Кто хотел служить, должен был подчиняться им. Еще не отворялись лавки, еще кухарки не выходили со своими корзинками на базар, а уже сгорбленные, с перекосившимися от вечного писанья плечами фигуры чиновников мелькали на улицах...
Когда Кирш въехал на Невский проспект, пробуждение города стало заметнее.
Странный вид представляла тогда лучшая улица русской северной столицы: наряду с большими зданиями, не уступавшими своим великолепием дворцам, тянулись деревянные заборы и попадались одноэтажные деревянные домики с покосившимися мезонинами. Возвышалась постройка католической церкви, а Казанский собор представлял собой низенький четырехугольный корпус с неуклюжей колокольней по типу собора в Петропавловской крепости. Аничков и Полицейский мосты были подъемные, на цепях, с павильонами по углам.
Гостиный двор, похожий скорее на базар или рынок, был облеплен ларями мелких торговцев. Магазинов было мало. Попадались вывески аптек с нарисованными на них чашами, в которые, обвив их, опускают голову змеи. Помещенные над лавками надписи часто вовсе не соответствовали тому товару, который можно было найти в них. В помадной лавке продавалась свежая сельтерская и пирмонтская вода; в овощной линии, в лавке Ярославской мануфактуры, предлагали покупателям русские песни с нотами для фортепиано, «которые и на скрипке можно играть»...
Длинный и широкий Невский проспект был обсажен по обеим сторонам деревьями, правда, довольно тощими, которые росли без всякого за ними ухода. Грязь, пыль и нечистоты царили повсюду, и это неустройство ничуть не уменьшалось, хотя по всему проспекту тянулся ряд хорошо знакомых Киршу будок для блюстителей порядка. От этих будок, раскрашенных косыми полосами – черными и белыми, – немилосердно рябило в глазах.
Год тому назад, когда государь возвращался из Москвы после коронации, военный губернатор Петербурга Архаров императорским именем распорядился, чтобы к приезду Павла Петровича все заборы обывательских домов были выкрашены одинаково, под стать будкам, – косыми черными и белыми полосами. Распоряжение последовало внезапно, и на исполнение его было дано так мало времени, что в Петербурге вздорожала в один день чуть ли не вдвое черная и белая краска.
Архаров думал доставить этим удовольствие государю, но Павел Петрович, разумеется, рассердился на такую нелепость, и Архаров лишился места.
С ним вместе выгнали со службы полицмейстера Чулкова, за его безобразные распоряжения, в силу которых сено страшно вздорожало.
Варгин все это изобразил в карикатуре, ходившей потом по всему городу и вызывавшей неразрешимые догадки о том, кто ее автор. Он нарисовал Архарова, лежавшего в гробу, выкрашенном косыми черными полосами, как полицейские будки, по четырем углам изобразил уличные фонари, а в изголовьях гроба – Чулкова в полной парадной форме, плачущего и вытирающего глаза сеном. Эта карикатура почему-то вспомнилась Киршу, и он улыбнулся, подумав о ней.
Солнце уже взошло и светило яркими лучами. Воздух был чистым и теплым. После вчерашней грозы наступал хороший, ясный день.
Кирш слез и отпустил извозчика, не доезжая до Зимнего дворца, потому что не счел удобным подъезжать на калибре к императорской резиденции.
Большое здание дворца с колоннами и вычурными украшениями широко растянулось и показалось Киршу сегодня особенно объемистым. Он никогда не бывал внутри и положительно не знал, к какому подъезду ему направиться. Почему-то он решил, что с площади, где выдвигались широкие вестибюли, не следует идти, а лучше поискать со стороны набережной более скромного входа.
Он обогнул дворец. Перед ним открылась широкая Нева. Она была так красива, что Кирш всегда останавливался, чтобы полюбоваться ею.
У парапета набережной он заметил человека в партикулярном платье, который стоял и оглядывался по сторонам, как будто поджидая кого-то. Цвет его лица был более чем смуглый, почти темно-коричневый.
Кирш подошел к нему, вежливо приподнял шляпу и не без некоторой запинки спросил, стараясь сделать это как можно учтивее:
– Я имею честь говорить... то есть вижу перед собой, вероятно, одного из придворных арапов?
Он никогда не разговаривал с придворными арапами и решительно не знал, как следует вести себя с ними.
Арап внимательно глянул на него своими черными, как уголь, глазами и, точно прочтя его мысли, ответил:
– Да, я – придворный арап Мустафа.
– Вас-то мне и нужно! – вырвалось у Кирша.
Мустафа снова оглядел его.
– Если вам нужно меня, – ответил он, – то, значит, вы, должно быть, тот, которого я жду.
По всей видимости, Кирш разговаривал именно с тем лицом, к которому у него было поручение от маркиза де Трамвиля, но он все-таки не пожелал так сразу отдать ему письмо, не убедившись окончательно, что оно попадет по назначению.
Кирш помнил, что Трамвиль настаивал еще на пребывании сегодня в Петербурге государя.
– Если вы меня ждете, – сказал он арапу, – то, очевидно, знаете, с чем я пришел к вам.
– С письмом, – ответил Мустафа, добродушно улыбаясь и как будто одобряя этой улыбкой осторожность Кирша.
Тот поднял было руку к карману, где у него лежало письмо, но потом вдруг опустил ее и спросил:
– А государь сегодня провел ночь в Петербурге?
Арап ответил не сразу. Он выждал некоторое время, как бы раздумывая, и потом проговорил:
– А вам было сказано, что он должен провести ночь здесь?
– Да.
– В таком случае и я вам могу сообщить, что государь, действительно, в настоящее время находится здесь, во дворце, но приехал сюда вчера из Петергофа инкогнито. Об этом никто не должен знать.
Это было сказано так, что Кирша невольно взяло сомнение, правда ли это. С какой стати было приезжать императору в свою столицу инкогнито, когда он мог посетить Петербург совершенно открыто?
«Врешь ты, черномазый», – подумал он, поглядев на арапа.
Мустафа, словно поняв это, но нисколько не смутившись, вскинул плечами и сказал:
– Впрочем, пребывание здесь государя совсем не важно для вас. На письме должны стоять вместо адреса пять латинских литер: «J. Н. В. М. L.» Если у вас письмо с этими литерами и вам велено передать его придворному арапу Мустафе, чтобы он отнес его, куда следует, то не сомневайтесь дальше и давайте мне письмо, потому что я – Мустафа.
Арап оказался хорошо осведомленным. На письме, которое лежало в кармане Кирша, стояли вместо адреса названные Мустафой литеры: «J. Н. В. М. L.»
Это убедило Кирша. Он вынул письмо и отдал его.
– Мне нужен ответ, – заметил он при этом.
– Я вам принесу его, – кивнул головой Мустафа.
– Мне ждать вас здесь, на улице?
– Зачем на улице? Я проведу вас в более подходящее для ожидания место. Пожалуйте за мной!
«Как этот арап хорошо и правильно говорит по-русски!» – думал Кирш, входя за Мустафой в маленький подъезд, служивший входом на каменную витую лестницу с отлогими и спокойными ступенями.
Они поднялись на один пролет и вошли в просторную прихожую, оттуда повернули в длинный сводчатый коридор. Кроме старика-солдата, стоявшего у подъезда и являвшегося, вероятно, помощником швейцара, никто не попался им по дороге.
Мустафа отворил первую дверь в коридоре направо и ввел Кирша в небольшую комнату, по-видимому приемную, потому что в ней, кроме стола и стульев по стенам, никакой другой мебели не было.
Кирш думал, что арап оставит его здесь, а сам уйдет с письмо, но тот затворил дверь и приблизился к окну, поманив за собой Кирша.
– Судя по вам, – заговорил он, пригибаясь близко к Киршу, – вы петербургский житель?
– Да, я – петербургский. Но откуда вы это заключаете? – спросил Кирш.
– Вас зовут барон Кирш... Я вас знаю, – сказал арап.
Кирш невольно отступил, удивленный, каким образом этот Мустафа, которого он видел в первый раз в жизни, знает его фамилию.
– Вы меня не знаете, – продолжал Мустафа, – а я вас знаю, и знаю даже, какие книги вы читаете, вдруг бросив кутеж и запершись у себя в полном уединении.
Удивление Кирша росло. Если бы не он сам своими ушами слышал то, что ему говорили, он не поверил бы – до того оно казалось невероятным, почти сверхъестественным.
Мустафа не мог не видеть, какое впечатление производят его слова.
– Но дело не в этом, – заключил он, – мне нужно знать, каким образом это письмо попало к вам в руки и почему именно вы привезли его сюда?
Как ни был поражен Кирш, он все-таки помнил, что маркиз наказал ему ничего не упоминать о нем и не рассказывать, что с ним произошло. Он совладал с собой и ответил, судя по внешнему виду, очень спокойно:
– Вы знаете обо мне так много, что мне самому о себе говорить не приходится.
– Но я все-таки прошу вас сказать... – начал было снова арап.
Кирш не дал договорить ему. Он наклонился и, как научил Трамвиль на случай расспросов со стороны Мустафы, шепнул ему на ухо:
– Он жив в сыне!
Кирш не знал значения и тайного смысла этих слов, хотя по тем книгам, которые он читал, смутно догадывался.
На Мустафу они произвели немедленное и словно неотразимое действие. Он вдруг оборвал свою речь, смолк, поклонился и приложил руку ко лбу.
– Будьте добры, – тихо произнес он, став вдвое почтительнее, – повремените здесь, пока я вернусь. Лучше всего заприте дверь на ключ, чтобы не вошел кто-нибудь и не увидел вас здесь одного. Я постучу треугольным ударом.
Он поклонился еще раз и вышел из комнаты.






