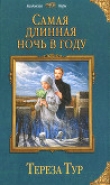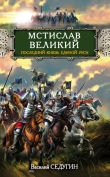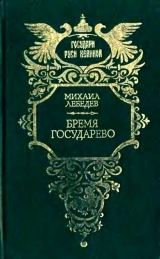
Текст книги "Бремя государево
(сборник исторических романов)"
Автор книги: Михаил Лебедев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
IX
В этот же день московский митрополит Киприан, продолжавший жить в Симоновом монастыре, посетил Федора-торжичанина, лежавшего на одре болезни. Юродивый, по-видимому, поправился; лекарственные снадобья инока Матвея понемногу становили его на ноги. Кровавые раны на голове затягивались, тело уже не так болело и ныло, и он даже мог подниматься с постели, хотя, конечно, с большим трудом.
– Мир ти, брате Феодоре, – промолвил митрополит, входя в обительскую странноприимницу, где лежал больной юродивый. – Божие благословение да будет над тобою. Ну, каково здравие?
Федор приподнялся на постели, сел и, принявши благословляющую руку митрополита, поднес ее к губам и поцеловал.
– Твоими молитвами, владыка святой, оживать начал. Язвы на голове затягиваются, телеса сил преисполнены. Не ведаю я, чем милость Господню заслужил?
Киприан подсел к нему на низенький табурет, поставленный в головах юродивого, запретил ему подниматься на ноги, что Федор хотел было сделать, помолчал немного и сказал:
– Радуюсь я, что ты поправляться начал. Не одним духом жив человек. И о плоти своей иногда позаботиться следует. И Господь недаром подает тебе здравие: видит Он твою жизнь добрую и воздает тебе по заслугам твоим!
– Не хвали незаслуженно, владыко, – возразил Федор, не желавший принимать похвал, хотя, быть может, и справедливых. – Какова моя добрая жизнь? Это никому неведомо. А грехов у меня много… ох много! Не знаю я, как меня Господь Бог милует!..
Он вздохнул глубоко и сокрушенно, сотворил крестное знамение и продолжал тихим голосом:
– Да, погряз я во грехах, а весь люд православный во грехах утопает… Кара Божия постигает страну нашу.
Страшный воитель идет. Земля-мати сотрясается от топота многого множества ратей хана Тимура. Неисчислимо воинство его. Точно туча грозная, подвигается он к рубежам нашим, беспощадно предает огню и мечу все живущее!.. Нельзя думать, чтоб ополчение наше остановило стремление врагов! Если чуда Божия не совершится, погибель Руси предстоит… Припомнятся нам времена хана Батыя…
– Что ты говоришь? – с ужасом воскликнул митрополит, смутившись от слов юродивого. – Неужто христолюбивое воинство наше не сможет преградить дорогу врагу?
Торжичанин печально покачал головой.
– Не в воинстве сила, а в Божией милости, владыка. А Божию-то милость мы не заслужили. Нераскаявшиеся грешники мы. От князя великого до последнего смерда грешим мы, не думая о заповедях Господних! Телеса свои мы холим, мамону ублажаем, всяким непотребствам предаемся, а Господа Бога забываем. Нет среди нас молитвенников за землю родную, кроме тебя, владыка святой, да кроме игумена троицкого Сергия, да еще некиих иноков добрых!..
– Какой я молитвенник, брат Федор, – возразил Киприан. – Грешный человек я, как и все прочие, даже грешнее других. А вот игумен Сергий – праведной жизни человек, имеет он дерзновение ко Господу. И ты, брат Федор, Богу угоден…
Юродивый замахал руками.
– Нет меня непотребнее, владыко! Грешный, окаянный я человек! Не знаю, как Бог грехи мои терпит? Неизреченна Его милость великая… Не угодник я, а грешник страшный!.. А ты, владыка святой, поведай мне, недостойному: как готовится Русь Тимура-воителя встречать? Не падают ли духом люди православные? Не мешкотно ли собираются на рать? Прости меня за опрос сей, владыка: вестимо, я смелость большую приял спросить у тебя, но крепко я Русь люблю и жалею ее от глубины душевной…
– На Руси смятение немалое, – отвечал митрополит. – Народ перед Тимуром трепещет и Бога о спасении молит. Князья и бояре ратников собирают, богатые достатком своим жертвуют, а бедные сами себя на службу отдают. Не мешкотно собираются на брань люди православные, но духом упали все. Не под силу, думают, управиться с сорока тьмами монголов, что под водительством Тимура идут. Не знаю, что соделается с Русью, если враги попадут в пределы ее. Немного еще набрано войска…
– А князь великий исправился ли? – спросил Федор, желая узнать, как ведет себя юный государь московский.
– По милости Божией, исправляется. Заговорила в нем кровь родительская. А родитель его, князь Дмитрий Иванович, благочестивый человек был. Единожды обидел он меня, наслушавшись наговоров завистников, но то не по злобе он сделал, а по наущению других. Бог да простит его за это… Тогда он из града Москвы изгнал меня, но сын его обратно меня призвал. Ведаешь ты про дело сие?
– Ведаю, владыко. Но то утешением для тебя должно служить, что сам Господь терпел обиды горшие…
Владыка вздохнул и перекрестился, шепча молитву об упокоении души великого князя Дмитрия Ивановича. Обида, нанесенная последним митрополиту, была следующая. Когда Тохтамыш в 1382 году приближался к Москве, Дмитрий Иванович выехал из столицы, оставив в ней митрополита и бояр. Митрополитом тогда уже был Киприан, вместо произвольно поставленного патриархом Пимена, сосланного в заточение в Чухлому по повелению великого князя. При приближении татар к Москве некоторые доброжелатели убедили Киприана, что ему опасно оставаться в стольном граде, который может оказаться в осаде, да митрополиту и полезнее находиться в других городах, где он может с полною свободой ободрять и подкреплять русских людей своим архипастырским словом в борьбе с Ордою, чем в стесненной Тохтамышем Москве. Тогда он выехал в Тверь, куда еще была открыта дорога. При этом он поступал так не из-за боязни перед татарами, а ради того, чтобы не быть отрезанным от остальной Руси, которая нуждалась в поддержке и утешении со стороны главы церкви. Однако пробный отъезд впоследствии был перетолкован недоброжелателями митрополита в дурную сторону, и разгневанный великий князь с бесчестьем изгнал Киприана из пределов московских. Удалившись из Москвы, Киприан жил в Киеве, где он был признан митрополитом Южной Руси; на митрополичий же престол в Москве снова был призван Пимен, прощенный великим князем. После кончины Дмитрия Ивановича и Пимена, умерших почти на одном году, невиннопострадавший владыка был приглашен Василием Дмитриевичем в Москву, с честью встречен государем, его двором и духовенством и воссел на митрополичьем престоле, будучи с того времени уже единым митрополитом на Руси.
Такова была обида, нанесенная покойным великим князем владыке Киприану, но он простил своему обидчику, следуя заповеди Божией, указывающей любить врагов своих. Федор слыхал про эти мытарства маститого архипастыря и глубоко сочувствовал ему.
– Эх, владыко, – заговорил он вдруг громко и порывисто, вперяя загоревшийся взор в лицо митрополита, – погибает земля Русская! Плохая надежда на ополчение народное! Откуда князьям-боярам набрать столько ратников, чтоб против сорока тем монголов стать? Да и не сразу сойдутся ратники, а Тимур все вперед идет… Послушай меня, недостойного, владыка святой: избери достойных служителей алтаря и пошли их во Владимир-град, пусть подъемлют они чудотворную икону Пречистой Девы Марии, с коей князь Андрей Боголюбский булгар победил, и несут ее во град Москву. Не оставит нас, грешных, без помощи своей Всеблагая Царица Небесная, и обратится Тимур вспять, гонимый непостижимою силой!..
Митрополит Киприан встрепенулся. Точно огонь какой пробежал по его жилам. В голове его блеснула мысль: «Вот верное спасение для земли Русской! Господь умудрил блаженного, вложил ему в уста такие слова». Сказания о чудодейственной силе святой иконы, привезенной некогда из Царьграда и сопутствовавшей великому князю Андрею Георгиевичу Боголюбскому в походе на булгар, пришли ему на память, и он радостно закрестился, говоря:
– Точно глаза мне открыл ты, брат Федор! Как я не подумал о сем раньше? Откровение свыше это, можно сказать! Истинно сказано в Писании, что Господь умудряет слепцов… не оставит нас в скорби и напасти Пресвятая Владычица Богородица, покроет нас святым Своим омофором! Немедля же во Владимир нужно послать достойных чинов духовных, дабы перенесли они святую икону. Но прежде князя великого спросить уместно, нельзя на такое дело решиться без его согласия. Сейчас же пошло я гонца в Коломну…
– Не изволь беспокоиться, владыка, – промолвил Федор, наполняясь каким-то необычайным волнением. – Может, сам государь гонца к тебе шлет с этим же… Пути Господни неисповедимы! Быть может, сам он помыслил о сем же…
Митрополит поглядел на своего собеседника и подумал:
«Неужто провидец он истинный? Неужто государь беспутный на такую спасительную мысль напал? Господи, просвети меня светом разума Своего!»
И взору владыки Киприана представилась картина, как несется к нему из Коломны гонец, везущий спешную грамотку, в которой великий князь советует митрополиту послать во Владимир почетное духовенство для перенесения в Москву чудотворной иконы Божией Матери.
– Истинно слово твое, брат Федор, – сказал митрополит, поднимаясь с места. – Почтим мы икону Ее честную, и не оставит Она нас без святой Своей помощи!.. Ну, прощай, брат Федор, выздоравливай, становись на ноги, готовься Великую Гостью встречать…
– Давно уж готовился я к тому, владыка, и всегда готов буду Гостью Небесную встретить, – ответил юродивый, и Киприан вышел из странноприимницы, чувствуя необычайный подъем духа.
Под вечер действительно прискакал из Коломны гонец и привез грамотку великого князя, которая гласила следующее:
«Се аз великий князь московский Василий Дмитриевич и всея Руси, поразмысливши и посетовавши о бедствиях грядущих, умиленно прошу тебя, отец мой и наставник, владыка святой, митрополит Киприан, буде благоприлична мысль моя, достойный чин церковный во Владимир-град послать, да перенесен будет во град Москву честный и чудотворный образ Пречистой Девы Марии, споспешествовавший князю великому Андрею Юрьевичу, нарицаемому Боголюбским, в походе на булгары. Да возложит упование свое народ московский на скорое заступление и предстательство Царицы Небесной да успокоится в смятении своем, ибо что для человека невозможно, то для Бога возможно всегда. Не оставь учинить по сему моему слову, владыка, что подобает. А своими молитвами святыми не оставь меня, многогрешного».
– За ум взялся государь юный, – прошептал митрополит, дочитав грамотку. – О Господе Боге вспомнил. Ну, верно сказал юродивый… и мне, грешному, почудилось… Надо тотчас же избрать достойных служителей алтаря, церковников да клирошан, и во град Владимир послать. Никогда не посрамляет христиан искренняя надежда на милосердие Божие!
Торопливо оделся митрополит, приказал подать свой дорожный возок и уехал из Симонова в Кремль – снаряжать почетное посольство за чудотворною иконою Божией Матери.
В Москве все были сильно обрадованы, когда стало известно, что великий князь повелел принести в стольный град из Владимира честный образ Пречистой Девы Марии. Вдовствующая великая княгиня Евдокия Дмитриевна, мать Василия Дмитриевича, отличавшаяся благочестивой жизнью, со слезами на глазах говорила Киприану:
– Как услышала я о сем, владыко, сразу полегчало у меня на сердце! Позабыли мы о дивном образе Царицы Небесной, давно бы вспомнить о нем следовало. Получала через него встарь Русь православная милости Божии, и нынче стеною необоримою будет для нас Пречистая Дева Мария! Крепко уповаю я на то.
– Радуюсь я, что супруг-господин мой первый о сем вспомнил, – сказала и Софья Витовтовна, узнав о грамоте великого князя к митрополиту. – А ежели вспомнил он о Боге, то и Бог не забудет его. А кроме Бога, на кого уповать ему?..
Она потупилась и вздохнула. Знала молодая княгиня, что отец ее, великий князь литовский Витовт, обладает большими силами: было у него и войска, и богатства, и всего много; мог он поддержку оказать и не один десяток тысяч воинов прислать на подмогу, но не любил суровый литовец Руси и, где можно, вредил ей, несмотря даже на родство свое с московским великим князем. Витовт был такой человек, для которого ничего не значило пойти войною и на зятя, но пока он все-таки дружил с Василием Дмитриевичем, честя его в грамотах и посылая поклоны ему и дочери, хотя оба – и тесть, и зять – взаимно недолюбливали друг друга.
Митрополит как бы проникнул в тайные мысли Софьи Витовтовны и произнес:
– Кроме Бога и Пресвятой Богородицы, уповать государю не на кого. Среди людей вражда и несогласие царствуют. Самое родство и свойство не делают человека милостивым к ближнему своему. А Господь человеколюбец есть.
– И Господь помилует нас, по заступничеству Пречистой Девы Марии! – заключила вдовствующая великая княгиня и упала на колени перед иконами, молясь за сына своего и за землю Русскую.
Киприан выбрал из среды московского духовенства наиболее почтенных лиц, известных строгостью своей жизни, снабдил их дорожными припасами, дал им «открытую грамоту» за подписью своей руки на тот случай, чтобы во Владимире никто не препятствовал взять им святую икону, и отправил выборных в путь в тот же вечер, не мешкая ни одной минуты.
Порядочное число благочестивых москвичей, из ревности к святому делу, примкнули к посланному духовенству, чтобы участвовать в перенесении чудотворной иконы Божией Матери.
Исполнивши поручение великого князя, сообразное с собственным желанием, митрополит написал ответную грамотку в Коломну и отправил ее с гонцом князя Владимира Андреевича, отписавшего государю о градских делах и о новом посланце Тохтамыша, требующего пятьдесят тысяч воинов для успешной борьбы с Тамерланом.
– А наутрие я в Троицкую обитель поеду, – сказал владыка, выходя от князя Владимира Андреевича. – Великий постник и молитвенник Сергий-игумен, помолится он за Русскую землю. И я помолюсь с ним – и Бог подаст по молитвам его. А молитва моя, вестимо, впрок не пойдет. Куда мне, многогрешному!..
– По смирению своему уничижаешь ты себя, владыка, – возразил ему вслед Владимир Андреевич, знавший подвижническую жизнь митрополита, – но я от души скажу: достойнейший архипастырь ты после святителей московских Петра и Алексия, святое житие коих всей Руси было ведомо!
– Ах, князь!.. Хвала суетная и ложная, а тем паче незаслуженная!.. – отмахнулся скромный святитель и уехал в Симонов монастырь, откуда он намерен был отправиться утром в Троицкую обитель, к славному подвижнику Сергию.
На Руси немногие не знали или, по крайней мере, не слыхали про монастырь Живоначальной Троицы, основанный пустынником Сергием. Сначала в обители нищета была такая, что книги писались на бересте, а вместо восковых свеч и лампад при богослужении зачастую горела лучина; сосуды тоже были деревянные. Иногда даже не находилось горсточки пшеницы для просфор, и нужду иноки терпели страшную. Но вот пронеслась по окрестным городам и селам молва о славном угоднике Божием, и множество людей – и простых, и знатных – потянулись в обитель. Пустынник Сергий, как рассказывали, воскресил мертвого ребенка, исцелил бесноватого вельможу, вызвал из земли ключ чистой воды, не достававшей обители, и православный люд толпами валил в тихое пристанище иноков, протаптывая и расширяя дороги, ведущие к монастырю. Пожертвования стекались со всех сторон, во всем настало изобилие, но игумен Сергий и братия ни в чем не изменили своей жизни: по-прежнему ходили они в бедных одеждах из грубого самодельного холста, по-прежнему работали с утра до ночи в поле, вырубая лес и возделывая пашни; игумен даже сам носил дрова и воду в пекарню, ни в чем не отставая от других. Но храмы Божии и монастырские строения воздвигались и украшались с каждым годом; вокруг обители была построена деревянная ограда; священные сосуды и облачения стали благолепные. Великий князь Дмитрий Иванович глубоко почитал Сергия и три раза посылал его в Нижний Новгород, Ростов и Рязань для умиротворения беспокойных князей, не признававших главенства Москвы. При кончине Дмитрия Ивановича святой подвижник находился при нем и с другим игуменом подписал достопамятное завещание умирающего, которым устанавливалось, что с тех пор стол великокняжеский должен переходить не к старшему в роде, а от отца к сыну. Таким образом, он как бы скрепил тот акт, которым введено в России самодержавие, собравшее наше разделенное отечество воедино.
К этому-то святому игумену-подвижнику и готовился ехать митрополит-подвижник[13]13
Митрополит Киприан причислен Греко-российской церковью к лику святых. (Примеч. авт.).
[Закрыть] Киприан. «Сергий помог своими молитвами русскому воинству в борьбе с Мамаем, поможет он, – думал святитель, – и в настоящей беде, ибо сильна и благотворна его молитва!» И едва забрезжило ясное летнее утро, как возок митрополита уже катился по широкой торной дороге, проложенной от Москвы в северные города. На этой дороге и стоял монастырь Живоначальной Троицы.
X
Настало 26 августа 1395 года. Еще далеко до света в объятую крепким предутренним сном Москву прискакал легкий гончик и остановился у митрополичьих палат, которые уже успели перестроить и в которые переехал владыка Киприан из Симонова монастыря. Привратник выглянул из окошечка своей подворотни и спросил:
– Ко владыке, что ли? Отколе приехал?
– С владимирской дороги, брат. Владыку бы повидать мне надо. К полудню прибудет сюда Матерь Божия, что из Владимира-града несут. Сказать о сем владыке послан я…
– Вот слава те, Господи! – широко закрестился привратник, спеша впустить доброго вестника. – Грядет Она, наша Заступница Милостивая! Ежечасно мы Ее, Гостью Небесную, ждем! Погоди, я к владычнему ключнику побегу, а он к владыке пойдет…
Но привратник ступил шаг вперед и остановился, пораженный, на месте. От погруженных в глубокую тишину митрополичьих палат отделилась высокая темная фигура и медленно приближалась к воротам, у которых вели разговор привратник и приехавший гонец. Привратник шепнул последнему:
– Владыка! Владыка идет! Знать, услыхал… Не спит он ночей, сердечный, все молится…
– Какая весть? – спросил подошедший митрополит, благословляя склонившегося перед ним гонца.
– Пречистая грядет, владыка. К полудню здесь будет. Меня сказать о сем послали…
– Добрую весть ты привез. С нетерпением мы ждем Царицу Небесную. Радость-то, радость какая для стольного града!
– А во Владимире плач и рыдание велие, – осмелился заметить гонец, ободренный приветливым видом митрополита. – Как пришли игумены да попы московские с грамотою твоей владычной, народу видимо-невидимо собралось, все плачут, вопят: «Горе нашему граду! Лишаемся мы неоценимого сокровища! За грехи наши, видно, отходит от нас Пресвятая Владычица Богородица! Осиротеем мы, горемычные!..» И все слезы льют изобильные.
– Разумею я горе людей владимирских, – тихо отозвался Киприан, – но по воле Божией совершается перенесение преданного образа. Если б не благоизволение Царицы Небесной, не воздвигнулись бы мы изображение Ее в Москву переносить. Как встарь Пречистая Дева Мария возлюбила землю владимирскую, так и ныне в стольный град Она грядет по Своей неизреченной милости и благости к людям московским!..
Привратник и гонец внимали словам владыки с каким-то благоговением, а, когда тот удалился обратно, гонец произнес восторженно:
– Не брезгует нашим братом владыка! Смотри-ка, сколько златых словес вымолвил! Точно простой инок, право!
– Не возносится владыка святой! – поддержал гонца привратник. – Иногда с самым последним смердом по часу гуторит. Оттого-то и любят его все. Да и как не любить такого святителя?..
Они поговорили еще немного и разошлись в разные стороны: привратник в свою подворотную избушку, а гонец взял лошадь под уздцы и повел ее к помещению великокняжеских дружинников, к числу которых он принадлежал.
Через некоторое время зазвонили к заутрене во всех церквах московских, и народ зашевелился на улицах. Человек за человеком, толпа за толпою валили москвичи к храмам Божиим, и скоро все церкви были набиты битком. Горожане собрались чуть не поголовно. Старый и малый, знатный и незнатный, богатый и бедный, все стремились на призывный звук колоколов, наполняясь глубоким молитвенным настроением, и горячая мирская молитва вознеслась к небу. В кремлевских соборах богослужение совершал сам митрополит со многими епископами, съехавшимися из ближних и дальних городов для встречи чудотворной иконы Божией Матери, и служба отличалась большою торжественностью. Когда, по окончании заутрени, отпели и обедню, митрополит, епископы, духовенство и священно-иноки местных монастырей стали готовиться идти крестным ходом навстречу пречестному образу Владычицы Богородицы, несомому из града Владимира. Был между духовными лицами и троицкий игумен Сергий, прибывший из своего монастыря пешком, потому что на конях он не любил ездить. Даже такие путешествия, как из Москвы в Нижний Новгород, Ростов и Рязань, совершал он пешком, несмотря на то что побывал он там по желанию великого князя Дмитрия Ивановича и, следовательно, мог ехать с полным удобством, а не идти. Теперь игумен Сергий резко выделялся в собрании прочего духовенства: все были в блестящих вышитых золотом и серебром облачениях, а он в простой, крашенинной ризе, носимой им в силу своего необыкновенного смирения.
– Отче Сергие, – обратился к нему митрополит, оглядывая его скромное одеяние, – подобает ли тебе такую фелонь носить? Конечно, ты иноческий чин, но ризы церковные не возбраняется носить даже из злата-серебра. Это не наряд мирской, суетный.
– Нет, владыко, – кротко возразил Сергий, – никогда я не был златоносцем и ныне златоносцем не буду., Не привык я в шелк и бархат облачаться, не привык злато-серебро на себя возлагать. Недостоин я по худости своей.
– Не неволю я тебя, отче Сергий, но ради такого светлого дня, ради Царицы Небесной, не пристойнее ли быть в фелони велелепной, чем в бедной смиренной ризе?
– Прости меня, недостойного, владыка. Несказанно радуюсь я тому, что Пречистая грядет в град сей, но не могу в златую фелонь облачиться. Одно, что, по худости моей, не к лицу мне риза блестящая, а другое – не нашивал я на себе злата-серебра ни разу в жизни, а под старость и подавно душе претит…
Так смиренный игумен монастыря Живоначальной Троицы и остался в своей скромной ризе.
Когда все приготовления были окончены, многочисленное духовенство московских церквей и монастырей, во главе с митрополитом, епископами и игуменами, двинулось вон из города, навстречу чудотворному образу Божией Матери, который уже был недалеко.
Необозримые массы народа – не только москвичей, но и жителей ближайших городов, пригородов, посадов, сел и деревень – сопровождали крестный ход, блестящею лентою растянувшийся по дороге. День выдался теплый, ясный, безоблачный. Красное солнышко весело сияло в небе; лучи его играли на высоких хоругвях, расшитых золотом и серебром, на дорогих окладах икон, усыпанных самоцветными каменьями; на праздничных облачениях духовенства, идущего с крестами в руках. В воздухе разносились звучные голоса соединенного клира, поющего установленные церковные песнопения. Народ шел и молился. Только разве кое-где, сзади и с боков толпы, куда уже не долетали священные песни, идущие вполголоса разговаривали между собою. Но и разговоры велись преимущественно, на тему о том же чудотворном образе, который все с нетерпением ожидали. Сведущие люди рассказывали другим историю образа.
«Было сие в стародавние времена, – говорили они, – когда Киев-град еще не под литовским государем был, а сидел в нем русский князь из рода Рюрикова, Юрий Владимирович. Прозвание ему Долгорукий было, ибо он любил от других князей родовые отчины оттягать да совокуплять их с державством своим. Так вот, пришел к нему раз торговый человек из Царьграда и поднес образ Пресвятой Богородицы. А образ сей, как сказывали, писан был святым апостолом-евангелистом Лукой. И принял киевский князь Юрий Владимирович образ поднесенный с радостью несказанною и поставил его в Вышгороде, в монастыре Девичьем. И стали с тех пор люди православные к образу Пречистой Богородицы притекать в скорбях и напастях и получать через него от Царицы Небесной великие милости…
А когда возрос сын Юрия Владимировича, князь Андрей, опротивел ему Вышгород, ибо находился он в области Киевской, а из-за Киевской области зачастую князья вздорили. И вот порешил князь Андрей Юрьевич удалиться в Суздальское княжество. А человек он был набожный, благочестивый, всякое дело начинал с молитвою. И обратился он с молитвою к Богу, чтоб указание свыше получить: покидать ли ему Вышгород аль тут оставаться? И пришли к нему клирошане того храма, в коем стоял святой образ, и сказали, что видели оный образ реявшим в воздухе среди церкви, а когда перенесли его в алтарь и поставили за священною трапезою, то образ опять явился вне трапезы. А протопоп того храма пояснил князю, что Пречистая не желает оставаться в Вышгороде, стало быть, и князю Андрею Юрьевичу указание дается покидать киевские пределы, а святая икона будет его спутницею. И поспешил благоверный князь в монастырь Девичий и едва ступил в храм, как увидел, что лик Пресвятой Богородицы сияет паче солнца, а в ушах его как бы раздался некий голос божественный: „Гряди, княже! Аз же сопутствую тебе!..“ И упал умиленный князь на колени перед пречестным образом, помолился, молебны приказал служить, а потом взял образ на руки, вынес его и, собравшись с чадами и домочадцами своими, со всем двором своим и дружиною, выехал из Вышгорода в пределы суздальские…
А на пути от Вышгорода до града Владимира многие знамения были. Случилось раз, что послал князь Андрей слугу своего искать брод во встречной речке. А слуга-то попал на глубокое место да тонуть начал. И совсем уж он под водой пропал, как помолился огорченный князь перед чудесным образом – и всплыл слуга наверх цел и невредим, хоть и плавать-то он не умел. Много-много иных чудес творила Царица Небесная через образ Свой. А особливо чудесно указала Она князю Андрею Юрьевичу, где угодно было остановиться Ей. Недалече уж они от града Владимира были; перед ними Клязьма-река предстала. А святую икону на особой колеснице везли; кони княжеские добрые под колесницей были. И остановились вдруг добрые кони как вкопанные, никак их сдвинуть с места не могли. Изумился князь Андрей, изумились и спутники его, но других коней перепрягли и усердно погонять их стали. Одначе и эти кони не пошли. Пробовали сдвинуть колесницу руками – колеса точно пристыли к земле! Так и попустились они, ничего не сделавши… И уразумел тут князь Андрей, что Владычице Небесной не угодно шествовать далее. И повелел он раскинуть шатры на этом месте, Боголюбовом его назвал, ибо возлюбила его Матерь Божия, молебствие заказал отслужить, обет дал храм и обитель тут воздвигнуть и уж на свободе поехал далее, во Владимир-град, а после того вскорости же обет свой исполнил и даже в Боголюбовом совсем поселился. Так вот чего ради и нарицают князя Андрея Юрьевича Боголюбовым…».
Много-много других рассказов слышалось о чудотворной иконе Божией Матери. Некоторые повествовали и о том, как помогла Небесная Владычица тому же князю Андрею в борьбе с булгарами, на коих он ходил совместно с князем Юрием Ярославичем Муромским. Булгары встретили русских на берегах реки Камы, неподалеку от главного своего города Бряхилова, и стали уже одолевать их, как набожный князь Андрей повелел нести святой образ в самую средину побоища – и враги обратились в бегство, объятые непобедимым страхом…
А вон в других кучках людей, валивших за крестным ходом, слышались сдержанные восклицания:
– Милостива Царица Небесная! Оборонит нас от хана Тимура!.. А на воинство наше уповать нельзя…
– А Тимур уж в пределах рязанских, – робко шептались некоторые. – Говорят, Елец-город взял, к Рязани идет… Что-то будет? Что будет? Помоги нам, Мати Царица Небесная! Не оставь нас в беде-напасти!..
И вот вышел крестный ход на Кучково поле. Впереди заблестело что-то – сначала далеко и неясно, а потом ближе и ярче. Появилась светлая точка на дороге… В народе пронеслись слова:
– Пречистая грядет! Пречистая!.. Видишь, далече светится!.. О, Господи, Господи! О, Мати Царица Небесная! Призри на наше моление! Даруй нам мир и благодать!..
И заволновался православный люд, закрестился, зашептал молитвы, увидав предмет своих благочестивых ожиданий. Дрогнули сердца христианские; благоговейное чувство втеснилось в грудь. Каждый человек сознавал в эти минуты, что решается судьба Руси. Помилует ли Господь русских людей? Предстанет ли Царица Небесная перед Божиим престолом с мольбою об избавлении от зла и страданий рабов Своих?..
И священный трепет охватил всех. Всем как-то страшно было и вместе с тем сладостно взирать на приближающийся чудотворный образ Пресвятой Девы Марии, – тот образ, о котором ходило столько чудесных рассказов. Заслужили ли они небесное заступничество?.. И с потупленными взорами подвигались вперед люди московские, следуя за крестным ходом, встречавшим славную икону Владимирскую.
– Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, – вел митрополит с епископами и игуменами, и клир дружно подхватил:
– Надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского.
– Надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед!.. – слышались вздохи в толпе, и руки истово творили крестное знамение, а глаза наполнялись слезами.
А гостья – святая икона – была уже близко. Несомая престарелыми иереями, сменявшимися на каждом переходе, в десять дней достигла она до стольного града и вызывала теперь живейшую радость у встречавших, возлагавших на нее все свое упование.
За иконою шло много духовенства, примкнувшего к шествию из придорожных городов и селений. Все были в священных облачениях, с крестами и иконами в руках. За духовенством валили толпы народа, среди которого было немало и владимирцев, провожавших свою Госпожу и Владычицу… И вот два крестных хода – один от Москвы, другой с владимирской дороги – стали сходиться…
– А гляньте-ка, гляньте, братцы, какой это человек копошится тут? – зашептались в передних рядах, и удивленные москвичи воззрились по указанному направлению, выглядывая через головы друг друга.
На средине Кучкова поля, как раз между сходившимися крестными ходами, возвышался какой-то помост, сложенный из бревен и досок, а вокруг помоста суетился низенький седенький старичок, накладывающий новые доски так, чтобы образовалось подобие ступенек, по которым бы можно было взобраться наверх…
– А кто там осмелился вперед залезать? Убрать его оттолева! – подняли было голос тиуны великокняжеские, наблюдавшие за порядком, но митрополит шепнул два слова одному из архимандритов, и тот махнул рукою на блюстителей порядка:
– Не замай его! Владыка не велел…
– Да это юродивый наш! Федор-торжичанин! – заговорили москвичи, узнавая «блаженненького». – Вот трудился он для чего! Вот место почетное для кого уготовлял! И воистину приходит Гостья великая, знаменитая, мир и спасение Она несет! Не на ветер были речи его…