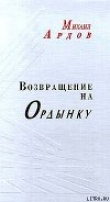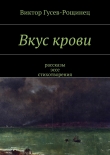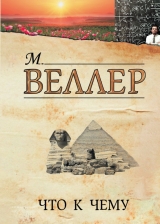
Текст книги "Что к чему (сборник)"
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Психическая константа
Вот есть мозг. Центральная нервная система. Кора и подкорка. Нейроны и сосуды.
И вот есть мощность человеческого организма. Которую в сущности можно измерить. Надо взять потребляемую энергию на килограмм веса – и суммарную производимую работу на килограмм веса в сутки в среднем. А также максимальные значения.
Потребление энергии на кило – в пять раз выше обезьяны. Общая работа – по перемещению себя и все усилия на срывание плодов, копание корешков и т.п. – тоже выше, хотя и не в пять раз. Время бодрствования в сутки – тоже больше, чем у животных. «Человек активный» и «человек энергоизбыточный».
Коли: объем и устройство мозга то же самое, что и 30 – 50 тысяч лет назад у человека современного; энергопотребление то же самое; размер и масса те же самые; потребляемая энергия на природном уровне «подразумевает» тот же расход энергии, тот же объем энергопреобразования у того же самого организма в тех же планетных условиях; а мозг, этот штаб организма, должен так же командовать этим перераспределением энергии и контролировать его, то – следует предположить, и исследовательскими данными это подтверждается:
1. Мощность мозга, то есть суммарная активность очагов возбуждения центральной нервной системы животного вида хомо сапиенс, есть величина постоянная.
2. В зависимости от подпрограмм, вписанных в «обучаемые емкости» генетически заданной мозговой программы при адаптации и обучении младенца-ребенка тому или иному образу жизни, – в зависимости от воспитания, от усвоенной культуры, мозговая деятельность человека принимает форму деятельности Эйнштейна или Маугли. Но! – но: активность коры головного мозга и управляемой ею эндокринной системы есть в среднем величина постоянная, не меняющаяся с уровнем культуры и образом жизни. Для всех времен и народов. Если человек не дебил, разумеется.
3. Если младенца вырастить в инкубаторе, без общения с людьми и даже животными, без каких бы то ни было форм передачи культуры – мы получим человекоподобное существо, обладающее инстинктами, но не умеющее их удовлетворить.
Его необходимо хоть как-то научить, пусть машинным способом, есть и пить, хоть соску подсунуть, задействуя сосательный рефлекс. Он будет в своей комнате-клетке-лаборатории «знать» только основные инстинкты – есть-пить, жарко-холодно, испражняться и сексуально разряжаться.
Абсолютно необученный человек тупее любого животного. Генетические инстинктивные программы у него выражены слабее и детализированы куда меньше, чем у животного. А культурной программы, обучения в своей среде он не получил.
Вот у этого унтерменша вся заложенная мощь мозга сосредоточится на этих нескольких желаниях. Удовольствие при получении пищи и ярость при поломке кормушки будут достигать огромной силы. Величайшее счастье и величайшее горе, эти внутренние состояния психики, будут иметь точками внешней привязки примитивное удовлетворение базовых потребностей.
3-А. Силу и объем мускулов можно накачивать, а при безделье они дрябнут, однако объем и форма мышц заданы и наследственностью и могут впечатлять даже у физически не напрягающихся людей. При нужде – поднимет мешок или даст в рог. Аналогично способности мозга можно развивать или нет, но генетически заданный уровень сохраняется.
4. Анатомическое строение и физиологический уровень функционирования мозга есть величина постоянная.
Уровень возбуждения мозга, то есть мощность эмоциональной деятельности центральной нервной системы, есть производная от анатомического и физиологического уровня.
Из чего следует:
С уменьшением внешних раздражителей эмоциональная деятельность центральной нервной системы сосредотачивается на остающихся раздражителях.
Или:
Вся эмоциональная деятельность мозга, будучи величиной постоянной, сосредотачивается на имеющемся количестве внешних раздражителей независимо от их силы и масштаба.
Чуть точнее и короче:
Эмоциональная сфера как константа распределяется между наличными раздражителями независимо от их количества и масштаба.
5. Маугли не умеет говорить, читать-писать, готовить пищу и работать. Зато: он быстро скачет на четвереньках, по-обезьяньи взлетает на деревья, переваривает сырое мясо и коренья, чует запахи, улавливает тихие звуки и понимает значение следов. Обучаемые емкости генетической программы инстинктов заполнены протокультурой волков и обезьян (нет, я помню про Бандер-Логов, Маугли враждовал с обезьянами, но это Маугли в широком смысле слова у нас).
Физически человеку чудовищно трудно вести образ жизни волка. Но энергетика и мощь мозга компенсируют телесную немочь.
Мощь мозга Маугли идет на дифференциацию неразличимых для нас деталей жизни и адаптации к ним.
6. Младенцу показывают пять золотистых хомячков, неразличимых меж собой, как игрушки из-под одного штампа. И, каждый день играя с ними, малыш вскоре отлично их различает! Он нашел отличительные признаки, не видные взрослым.
А потом хомячков забрали. А через полгода подросший ребенок различить их уже не смог. Его распознавательная система формируется в другом секторе объектов.
7. Аналогично европейцы и азиаты затрудняются различать друг друга в среде подобных. Европеец удивляется, что у европейцев же разные волосы, глаза, носы, подбородки. «А у вас глаза одинаковые, волосы черные, носы… тоже похожие». Азиат недоумевает: как можно, это не главные признаки, мы же такие разные!
Один и тот же участок мозга у нас и у них словно настроен на разную резкость. Но ни одни не глупее и не рассеяннее других.
…Распознавание суть один мелкий аспект деятельности одного маленького участка мозга. Но показательный. Для толпы, не знакомой с другой расой, не только все представители другой расы одинаковы. Но и любой из них, попавший в инорасовую среду и не различающий «нас» – немного дурак. Не, нормальный, но кое в чем каплю идиот.
8. «Умность» и «глупость» человек понимает по собственному трафарету.
Аналогично значимость и незначимость поводов и причин для сильного проявления эмоций человек расценивает по своему трафарету.
А трафарет зависит от его группы. Возрастной, исторической, социальной, культурной, профессиональной и т.д.
9. Значимость повода для проявления эмоций относительна.
Средняя суммарная мощь проявления эмоций абсолютна.
(Хотя понятно, что если пытать человека в подвале Святой Инквизиции, то эмоции будут – откуда что взялось! Но боль в экстремальной ситуации – это уже другое дело. Это не душевные муки, это тело вопиет от муки. Дай Бог всю жизнь не испытать.)
(А вот ночь с Клеопатрой – либо же деревенскому парубку с первой деревенской же красавицей – это объем и класс эмоций один, хотя уровень исполнения может быть очень даже разный.)
10. Можем сказать иначе:
Сила и объем эмоций – первичны.
Причины и поводы для эмоций – вторичны.
11. Более того!
Сила и объем эмоций изначально заданы.
Поводы для объективизации эмоций человек находит.
12. У людей обычно паршивая память. А кроме того, родители часто подавляют детей, руководимые древним животным инстинктом перворанговых особей в стаде, охраняющим свои привилегии. В результате большинство родителей строго подавляет детские плачи по мелким поводам: надеть ту или иную одежду, идти или нет сегодня в детский сад или в гости, ехать на дачу или играть с друзьями во дворе.
Обычно родители не отдают себе отчет, что ребенок, маленький человек с мощной растущей эмоциональной сферой, всю силу отпущенных ему переживаний привязывает к доступным ему поводам. Брать или не брать с собой котенка – может быть так же важно, как получить давно мечтаемую работу или тебя несправедливо обойдут по службе. Надеть одежду, которая девочке почему-то не нравится – точно то же самое, что украсть у мамы на улице только что купленную шубу, на которую она два года копила деньги, мечтая о ней и отказывая себе во всем.
Горький плач ребенка по тому, что его не взяли в гости – может быть равен твоему рыданию по обманутой любви.
13. Поэтому в примитивных культурах дикарей малейшие отличия в украшении, татуировке, обряде – играют огромную роль, несоразмерную для таких мелочей по мнению цивилизованного европейца. Но в скудном быте туземцев – деталей и разнообразия быта гораздо меньше, чем у нас!
Вся сфера семантики и психики, то бишь весь объем имеющихся у людей смысловых восприятий и эмоций – по факту привязываются к очень ограниченному числу внешних объектов! Ездить в «майбахе» или носить повязку из орлиных перьев – эти два объекта равны по эмоционально-семантическому значению. Публично обматерить человека или стереть одну линию на праздничной раскраске – равновеликие знаки оскорбления.
Чем примитивнее и скуднее культура – тем выше эмоционально-семантическая нагрузка на ее единицу-элемент.
Могут убить за то, что зашел на территорию табу, или тронул чужую вещь, или еще неведомо как нарушил обычай: который покажется тебе неразличимо мелким. Могут прийти в ярость из-за непонятной тебе мелочи.
14. Форма оскорбления условна. Сущность оскорбления абсолютна – в смысле всегда сходна по содержанию, направлению, тяжести.
Можно вложить большой палец руки между указательным и средним. А можно стукнуть ребром ладони по локтевому сгибу другой руки. А можно похлопать себя по гениталиям. Или показать ягодицы. Или произнести различные фонетические сочетания, которые сами по себе есть не более чем разной частоты колебания воздушной среды.
То есть. Оформление этики условно. Содержание знака условно. Знаковое оформление любой культуры условно. В координатах одной знаковой системы – знаки другой системы воспринимаются как мелкие детали, не несущие смысловой и эмоциональной нагрузки. Что всегда служило источником многих недоразумений, опасностей и бед при контакте цивилизаций.
Когда молниеносным броском змея вонзает ядовитые зубы тебе в ногу – это не потому, что она сволочь. Лишнего яда для тебя у нее нет. И как добыча ты для нее непомерно велик. Но твое приближение есть для нее знак смертельной опасности, знак прямой угрозы ее жизни! Если бы ты заметил ее вовремя и знал ее повадки – ты бы обошел ее за пределами той территории, которую она полагает необходимой для своей спокойной жизни.
Когда японец в гостях у англичанки стряхнет со своего стула хозяйского кота – больше этого хама в дом не пригласят.
Некогда в Италии грызть ноготь большого пальца, глядя на человека, было знаком выказывания ему оскорбления.
И т.д. без числа.
То есть:
Если условна форма знака, выражающего оскорбление и вызывающего сильнейшие эмоции, как обида, гнев, ярость.
То не менее условен масштаб знака, несущего ту же смысловую и эмоциональную нагрузку.
В системе координат богатой развитой культуры знаки культуры бедной кажутся мелкими несообразно силе вызываемых эмоций.
В системе координат бедной культуры мощные семантико-эмоциональные знаки богатой культуры – тоже не читаются! – и выглядят просто нелепой ерундой как поводы к злобе, ярости и мести. Хотя предметно и ритуально эти знаки могут быть обильно атрибутированы. Но для дикаря это просто невинные и бессмысленные предметы и действия, из-за которых абсолютно не стоит дергаться!
15. Да, чтоб было понятно, о чем речь.
Оскорбление есть агрессивный акт иерархической структуризации группы, где оскорбляемого пытаются опустить на самое низкое место.
Оскорбление – это ритуальная форма социального опускания.
Социальный инстинкт человека противится этому! Социальный инстинкт повелевает занимать и защищать как можно более высокое место в иерархии! Социальный инстинкт включает боевой механизм: адреналин, сахар, антикоагулянты, – бей гада! Дерись за свое место! Это – твой корм, твоя самка, твои гены, переданные дальше! Это твой инстинкт жизни!
А уж рычать, или бить копытом, или глядеть в глаза, или мочиться на голову, – не суть важно.
16. Мы потому заговорили об оскорблении, что это наиболее понятный и расхожий повод для сильных эмоций. И здесь условность формы оскорбления наиболее понятна.
Потому что положительные эмоции – они и послабее, и поразнообразнее в поводах, и менее очевидны в причинах.
17. В подводной лодке в поход ушла муха. Муха жила на камбузе и любила отдыхать в центральном посту. Муху любили всем экипажем и подкармливали сахарной водичкой. Однажды замполит сел на муху. Его чуть не убили. До конца похода экипаж с замом не разговаривал, нарушая субординацию.
18. Мало вы слышали о зеках старых времен, которые сидели в отдельных камерах, питались так, что не умрешь, и мучились бездельем, не подвергаясь работам? Общества вот не хватало. И они привязывались к мышам и крысам, воробьям и паукам, кормя их, дрессируя, разговаривая с ними, и жутко переживали, если с теми что-нибудь случалось.
Чувства-то надо кому-то отдавать!
18-А. А какое значение придают нынешние российские зеки – месту в камере, чтоб внизу у окна, робе, чтоб новая и черная, татуировкам, которые есть послужной список, погоны и ордена блатного.
И каждое слово, каждый жест, невиннейший внешне поступок – могут послужить к серьезнейшим разборкам с тяжкими последствиями.
Все богатейшие смысловые и эмоциональные отношения современной культуры – блатная, тюремная культура словно кодирует, сворачивает компактно, и перемещает в масштаб мельчайших деталей и жестов скупого камерного бытия.
А поскольку вор – человек повышенной энергетики: нонконформист, антисоциален, рисков, агрессивен по жизни. А жизнь замкнутого мужского коллектива ведет к повышению агрессии. То эмоциональную насыщенность тюремной жизни – при внешней ее скудости! – вы можете себе представить.
Когда шлепают в «очко» клееными из газеты картами, а на кону стоит жизнь – отдыхает ваш вонючий Лас-Вегас с его гламурными страстями!.. А сколько счастья от банки сгущенки. А кружки водки! А от письма. А от свитера зимой…
19. Слушайте – хрен ли солдату с того, что генерал объявил ему благодарность? А от цветных узоров в дембельском альбоме?
Какой гигантской ценностью становится для закрученного службой солдата половой акт! Вам и не снилось… Солдат может измордовать сослуживца, если тот спер у него крысятнически значок классности, например.
Солдат как ребенок: придает огромное значение каким-то фантикам, железкам, лишней печенке или конфетке, стакану компота, похвале или выговору старшего.
Все эмоции при нем, да еще как! – но Боже мой, на какую фигню они обращены! Кто не служил – тот не поймет значение этой фигни.
20. И наиболее ярко: любовь зла – полюбишь и козла. Где берет природа столько ужасных козлов, чтоб их любили так преданно и беззаветно?! Где-где – везде.
«Замуж хочу – трубу сворочу». Самое яркое чувство – дифференциация и окультурнивание инстинкта размножения, выполнение природной репродуктивной функции. Приходит пора – и гормоны зашкаливает, глаза блестят, кожа на лице светится, походка играет невыразимо, и неподконтрольные горячечные сны мучат ночами. Какой же тут «объективный взгляд», когда наличествует объективная потребность и объективно мощная эмоция, судорожно ищущая предмет привязки и реализации!
И замухрышка сделает блестящую партию в сплошь мужском коллективе, где она единственная. И плюгавый мозгляк будет объектом соперничества бригады оголодавших сезонниц-рыбораздельщиц?
Старая дева отдаст все свои инстинктом заготовленные запасы любви, заботы и нежности поганой истеричной болонке. И если вы ненароком придавите эту суку, горе бедной женщины будет безмерным.
О любви отшельника к козе мы вообще говорить не будем, у нас приличная книга.
21. И то мы затянули. А все коротко и просто.
Сила эмоций по какому-либо поводу – определяется не объективной значимостью этого повода, но нашим субъективным к нему отношением.
Важность же повода для нас определяется не объективной его ценностью – но активностью нашей эмоциональной сферы, нуждающейся во внешней объективации.
Когда внешняя объективация вовсе не найдена, принято говорить о беспричинной радости, или беспричинной грусти, и т.п.
Психология роли
Психологическое обеспечение социальной роли.
Собственно, в этом и заключается весь предмет социальной психологии.
Социальную психологию следует понимать как индивидуальное психологическое обеспечение структурированного социального инстинкта. Или в конкретном случае – индивидуальное психологическое обеспечение локально обозначенного социального инстинкта. Или:
Социальная психология – это изучение психологической мотивации социальной роли.
Переводим с доступного, но специального языка – на нормальный человеческий:
Почему на самые поганые и ужасные работы – всегда находятся люди? Не только под страхом расстрела или умирая с голоду – но и добровольно, и находя в своем деле грязном и ужасном какой-то интерес, профессиональные детали, кайф даже? Откуда берутся ассенизаторы, убойщики скота, палачи?
И второе. И как это получилось, что бандиты и проститутки были нормальными мальчиками и девочками? И будешь где-нибудь рядом с ними пить кофе, скажем, так и не подумаешь о нормальных внешне людях ничего такого.
И третье. Вот люди, которые правят, власть, – они что, не понимают, сколько эгоистичного вреда в их действиях для страны и народа? Их крышевание коррупции, сколачивание миллиардных состояний, публичная ложь, – зачем она? Неужели совсем совести нет, или вправду врагам продались? Кстати: если у тебя есть миллиард – ну сколько же тебе надо, ведь не истратишь, правнукам останется: так хватит же воровать и жульничать, ну отдохни, или живи честно, или уйди на покой, да что ж ты все хапаешь, прорва?..
Для начала констатируем, что разные социальные группы плохо понимают друг друга. И:
Психологическое обеспечение групповых противоречий составляет единое целое с индивидуальным психологическим обеспечением социальной роли.
1. Когда в детстве мы играли в войну, быть фашистом никто не хотел, конечно, все хотели быть нашими: спорили. Но когда фашисты были уже назначены – в них мгновенно просыпалась нехорошая, но искренняя злодейская радость. Мы засучивали рукава, делали зверские рожи, выкрикивали пять известных немецких слов и старались глумиться над партизанами и патриотами, наслаждаясь своей властью, и страшностью, и гнусностью, садизмом и беспощадностью. Подчеркиваю: искренне получали удовольствие от того, что было нам не просто чуждо – было враждебно и ненавидимо! Э?
2. А вот студенческий стройотряд едет в эшелоне на Мангышлак. И мы, кончившие первый курс шесть орлов, едем в штабном вагоне как «опергруппа» – типа патруля, красные повязки. И раз в час мы, добровольно, по собственной инициативе, из рвения молодого служебного, проходим в оба конца весь эшелон, пробираясь меж полок, и властно смотрим, не нарушил ли кто «сухой закон»: за выпивку – высаживание из эшелона и возможные неприятности с комсомольскими выговорами и т.п. Мы не трезвенники, и не любим начальство, и не гады, мы нормальные, мы как все. Чего мы пытаемся поймать кого-нибудь на выпивке? Зачем оно нам? Пока начальство эшелона, ребята уже по 25 – 30, не уняли наше рвение, чтоб сидели себе тише.
3. И тогда вспоминается опыт знаменитый и страшный. Отобранные добровольцы-испытуемые делятся на две группы: тюремщики и заключенные. Все – здоровые, психически устойчивые, без дурной наследственности, с приличным ай-кью и неагрессивные. И вот одни должны сидеть за решеткой, а другие следить за соблюдением тюремного режима. Срок – два месяца. В любой момент можно отказаться от участия. Опыт прекратили через месяц. Две группы приятелей-однокашников люто ненавидели друг друга, вредя друг другу всеми доступными способами. Тюремщики уже почти увечили заключенных, а заключенные были близки к убийству сук-тюремщиков.
4. А теперь вспомним опыт, когда актер за стеклом изображает приговоренного преступника, а доброволец должен дать рубильником напряжение, причем доброволец думает, что его никто не видит, а шкала рубильника имеет полукруг делений несмертельного напряжения. И почти все не «убивают» преступника сразу, а медленно проходят контактом всю шкалу, и «преступник» корчится от изображаемых мук. Боже. Добропорядочные граждане почти все оказались любознательными садистами!
5. Ну, и в заключение вспомним еще более знаменитый опыт, и совсем не страшный. Про длинную и короткую линии и девять подговоренных участников из десяти. Девять называют короткую линию длинной, а длинную короткой. И десятый не просто колеблется. Но в большинстве случаев не хочет верить собственным глазам, не верит очевидному, а верит большинству мнений.
За каждым из вышеописанных случаев и опытов стоит огромное количество подобных. Большие числа позволяют говорить о закономерностях.
А закономерности таковы.
6. Имеет место правило первое. Социальный инстинкт в человеке часто подавляет и подчиняет себе индивидуальный. Человек совершенно искренне предпочитает верить своему окружению, нежели своим органам чувств.
Про это и была сказочка про голого короля, которую мы играем сегодня и ежедневно.
Человек – существо групповое. Быть членом группы – означает придерживаться мнений группы, мировоззрения группы, ценностей группы. Это не приспособленчество, не лицемерие! Это могучий и главный социальный инстинкт сплавляет человеков в группу как единый надорганизм.
Группа должна действовать воедино. Информация – основание для принятия адекватного решения и действия. Группа должна воспринимать и раскодировать информацию единым образом. Для группы верно то, что ведет к достижению нужного результата. Единство – первейшее необходимое условие группы для достижения желаемого результата. Поэтому для группы раскодирование информации должно быть в первую очередь единым. Это как принцип единоначалия в бою и беспрекословного выполнения приказа.
Если ты вожак группы – ты можешь трактовать информацию по-своему вопреки всем, и группа обязана послушаться. Если ты рядовой член группы – ты должен думать как все. Так для всех легче, проще, и группа остается единой. Еще раз: это не притворство! не лицемерие! Это – инстинкт.
Рядовой член группы искренне принимает любое мнение всей группы за истинное.
Групповой конформизм – это проявление социального инстинкта.
Групповое единомыслие – это проявление социального инстинкта.
Член группы читает информацию иначе, чем чужой.
Член группы видит мир иначе, чем чужой.
Групповая истина субъективна.
Групповая истина корпоративна.
Я не знаю, как еще доходчивее и проще выразить важнейшую и основополагающую мысль о субъективности корпоративной истины. Здесь необходимо понять последовательность:
Не потому истина, что она отвечает их интересам – а потому и отвечает их интересам, что она истина! и они ее познали и применили.
7. Стремление к выживанию группы – это закон природы.
Стремление к единству группы – это закон природы.
Стремление к единомыслию группы – это закон природы.
Групповая истина служит групповому выживанию.
Истинность групповой истины определяется ее полезностью для группы. Истинно то, что ведет к результату. (Да: здесь мы имеем дело с прагматизмом в чистом виде, Чарли Пирсу привет.)
Социальный групповой инстинкт мы можем сейчас назвать инстинктом единства. А индивидуальный инстинкт выживания можем сейчас назвать инстинктом самосохранения и инстинктом информационного ориентирования в пространстве, скажем условно. Так и вот:
Инстинкт единства сильнее инстинкта индивидуального выживания. Подумай сам: их много, у них много умов и много опыта, и они все выжили вполне успешно, и ты тоже выживешь среди них, а один, вне группы, без них, ты не выживешь, это смерть. И тогда для тебя жизнь, истина и общее мнение – сливаются воедино.
Инстинкт повелевает разумом. Разум обслуживает инстинкт.
Если инстинкт приказывает признать длинное коротким – разум ищет доказательства тому, что длинное коротко.
Групповой конформизм – залог выживания.
Групповое единство видения мира – база конформизма.
8. У группы только одна пара глаз.
У группы только одна пара ушей.
У группы только одна голова.
Много рук, ртов и гениталий.
В этом ее сущность и сила.
9. Влюбленный видит любимую не теми глазами, что все. Так и член группы видит истину. Группа существует в своем измерении, в своей системе координат. Общечеловеческие ценности, мораль, ментальность в группе подвергаются корпоративному искажению. Коррекции. Довороту.
Корпоративное рассмотрение информации отличается от «общегуманитарного». Корпоративное зрение выборочно, как у орла на дальность, змеи на движение и пчелы на цвет. Одно приближается, другое удаляется; одно ярко освещается, другое притемняется. В этом нет злого умысла или индивидуального эгоизма! Это следствие и аспект самого существования группы, ибо и существует она как единый надорганизм для выполнения определенных функций, существует группа только в динамике своего группового действия!
Сущность группы – групповая функция.
Групповая функция определяет отбор и трактовку информации.
Групповое ориентирование в информации – функционально.
Сытый голодного не разумеет.
10. Представьте себя на берегу речки: луг, рощица, небо в облачках, даль безбрежная, и переходит та даль непосредственно в Космос бескрайний, черный и звездный, сейчас не видный сквозь атмосферу. И теперь представьте себе комнату объемом в кубический километр, выгороженную вокруг вас в этом пейзаже. Стены площадью в квадратный километр – не то зеркало, не то картина, повторяющая пейзаж: трава зеленая, рощи, небо в облачках. Потолок в небо расписан. То есть живая природа переходит в выгородку, в декорации неотличимые, отражающие и продолжающие природу. Даже похоже, что стены километровые – это стекло, сквозь которое просвечивает дальше натуральная природа. Но на самом деле – это такое отражение в замкнутом километровом кубе. Но – ощущение простора. Вам этого куба для жизни вполне хватает, вы в середине его находитесь.
Это – ваша зона, обиталище, здесь дом и работа.
Ваше зрение, ваш слух и обоняние, ваши планы построить дачу и половить рыбу, работа ваша и друзья иногда в гости – оно все здесь, в этом километровом кубе. Вся ваша энергия и ваши эмоции – внутри этих стен. Ваши чувства и интеллект – они способны контролировать этот километр, вы снимаете информацию с этого пространства. И все ваши психические реакции и вся значимая для вас информация – в пределах этой кубокилометровой комнаты: за ее стенами другой мир, отграниченный от вас, не касающийся вас, вы по жизни отвечаете только за свой участок, не за всю Вселенную.
Человек – не ограничен своим телом. Человек – открытая система, функционирующая заедино с окружающим пространством обитания. Все окружающее влияет на нас, а мы – на него. Геосфера, биосфера, ноосфера и т.д. – аспекты и срезы того же пространства. И вот ваши эмоции, силы, разум, чувства, – они распределены по этому километру и существуют заедино с ним. Это такой ограниченный кусок мира, объект – где вы субъект.
Вы чувствуете? этот кубический километр – это вы и есть, он наполнен вашей энергетикой, воспринят вашими чувствами. Ваше восприятие, ваше мышление – они имеют форму кубического объема.
Так вот:
Мы не можем одновременно всех помнить, обо всех заботиться, всех слушать. Не можем одновременно всем заниматься. Не можем одновременно все делать и везде быть.
Мы переходим из одной комнаты в другую. И у каждой комнаты – свой размер и форма, там своя температура и там делаются свои дела. И, заходя в комнату, мы очень быстро адаптируемся к ее условиям. Буквально переключаемся.
Большая комната или крошечная – наше зрение мгновенно настраивается на даль или близь. Жарко или холодно – организм потеет или отводит кровь от поверхностей. В тихой – слух обостряется, а где гремит музыка – слух тупеет, зато ритмы сердца и мозга реагируют. В спальне расслабляемся, у станка напрягаемся.
С жизненными ситуациями, с групповым поведением, с психологией социальной роли – происходит то же самое. Очень быстрая перенастройка психики. Смена психологии со сменой социальной роли. Как костюм переодеть.
Мы переходим из одной социальной комнаты в другую. И психика мигом адаптируется к климату в новой комнате.
Каждой социальной комнате соответствует свой психологический стереотип. Входя в другую социальную комнату, мы меняем психологический стереотип быстро и легко, как костюм. Таков человек с его емкой и мощной лабильной психикой, с его чудовищным адаптационным ресурсом.
11. Человеческая психика подобна конструктору «Лего». Комплекты могут состоять из разного количества деталей, и прочность материала тоже может быть разная. Но в принципе из любого конструктора можно быстро собрать что угодно, вновь разобрать и перемонтировать.
Смена, перемонтирование психологического стереотипа происходит быстро, легко, безболезненно и как бы незаметно для самого субъекта.
12. Обычная цепь такова:
Чтоб что-то делать, надо хотеть. И полагать, что это стоит хотеть, оно неплохо. Или: желание – рассмотрение и одобрение желания – действие. Или оно же: желание – анализ – действие.
Теперь смотрим в ином порядке, очень даже жизненном: сначала – действие. Из меркантильных побуждений, по жизни так вышло, надо чем-то кормиться и т.п., но вообще это кормящее занятие я в гробу видал. Но: если ты что-то делаешь – твой глубинный инстинкт включает и налаживает всю цепь! И тогда уже желание следует за действием: стерпится – слюбится, любым делом можно увлечься, профессиональный интерес можно найти во всем. И тогда разум создает и подбивает под твои действия и желания рациональные обоснования; ибо во всем можно найти положительные, полезные стороны, и всему можно построить оправдания.
И тогда действие сует впереди себя желание, как платформу перед паровозом на заминированном пути. А за желанием прицепляет перед собой вагон с рациональным обоснованием. А само едет сзади. И сознанию тогда хорошо и спокойно. Потому что все как надо.
Это вроде как улыбайся через не хочу – и настроение улучшится, ибо ощущение напряга тех мышц подсознательно связано с хорошим настроением. Вот и народный рецепт: делай через не хочу – глядишь, оно и захочется.
Наши действия, желания и обоснования связаны устройством нашей психики. Триада.
13. Если человек хочет одно, а должен делать другое, – это называется конфликт между чувством и долгом. Оно же психологическая сшибка. Опять же:
Если он считает разумом, что должен поступить вот так, – ну так он х о ч е т так поступить, испытывает стремление, тягу поступить так. Хотя это и опосредованное желание: он не хочет самого такого поступка – но он хочет, испытывает психическую потребность исполнить свой долг, т.е. поступить согласно разуму, анализу. Психика требует совмещения анализа и желания!