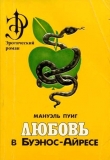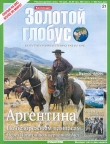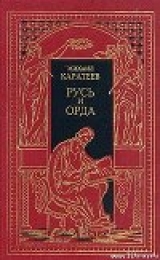
Текст книги "Ярлык Великого Хана"
Автор книги: Михаил Каратеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Василий подошел к отцу и опустился на колени. Князь плохо повинующейся ему рукой перекрестил его трижды, потом нежно поцеловал в лоб. Стоя на коленах и припав губами к руке отца, Василий беззвучно плакал.
Глава 9
О, возлюблении князи русьскыи, не прельщайтесь пустошною славою света сего, яко хуже пучины есть. Не обидьте меньших си сродников своих, ангелы бо видят лице отца вашего иже есть на небесах. Троицкий летописец
За время долгого княжения Мстислава Михайловича, который весьма заботился о восстановлении своих земель,– город Козельск, до основания разрушенный ордой Батыя, не только отстроился полностью, но и вырос по количеству населения. Только укреплен он был значительно слабее, чем прежде: как Мстислав Михайлович, так и сын его Пантелеймон, владевший Козельском до вступления на карачевский стол, были миролюбивы и предпочитали расходовать средства не на крепости, а па то, чтобы поднять благосостояние края.
Таким образом, в четырнадцатом веке Козельск лишь в центральной своей части был обнесен крепким, стоящим на земляном валу тыном из дубовых бревен, да в самой возвышенной точке имел деревянную сторожевую башню, которая была скорее противопожарным сооружением, чей военным.
Внутри огороженного пространства, недалеко от обрывистого берега реки Жиздры, стояли княжеские хоромы, построенные еще Пантелеймоном Мстиславичем. Это было приземистое, скромное по виду строение, состоящее из нескольких соединенных между собой деревянных срубов, с высоким крыльцом и традиционным теремом посредине. Внастоящее время здесь жил со своим многочисленным семейством князь Тит Мстиславич, перешедший в Козельск из Звенигорода, после того как старший брат его вступил на большое княжение.
Князь Тит был рачительным хозяином и по натуре прижимистым человеком. Будучи не самостоятельным, а зависимым князем, то есть по существу лишь крупным помещиком с княжеским титулом, он на показную сторону жизни особого внимания не обращал, роскошью пренебрегал и дружину держал очень небольшую, хорошо понимая, что воевать с кем-нибудь все равно не сможет. Зато он обладал изрядным количеством пахотных крестьян, отлично наладил все отрасли своего обширного, охватывающего целый уезд хозяйства, и денежки у него водились.
Он был честолюбив, но это было честолюбие помещика, а не князя: Тит Мстиславич жаждал не столько власти, как богатства, и во власти видел прежде всего способ быстрого и легкого обогащения. Как следствие подобного образа мыслей, мечты его не останавливались на достижении независимости в Козельском уделе. Он прекрасно понимал, что такая овчина не стоит выделки: для того, чтобы добиться независимости, нужно будет идти на большие жертвы, а чей они окупятся, даже в случае успеха? – Останется та же земельная площадь, то же количество рабочих рук и те же хозяйственные возможности, а расходов прибавится, и притом немало: надобно будет держать большую дружину, да жить придется пошире, как подобает самостоятельному государю.
Нет, ему бы не пустяками заниматься в маленьком Козельске, а сесть на большое княжение в Карачеве! Шесть или семь городов с богатыми и обширными уездами прибавились бы тогда к его вотчине, десятки тысяч смердов обогащали его казну. Вот ото хозяйство! И всем сыновьям хватило Уделов. А так – куда их пристроишь? По деревням сажать, как детей боярских, что ли?
Вестимо, покуда в Карачеве княжит старшой брат, Пантелемон, об этом и помышлять грешно. Но Пантелеймон и здоровьем слаб. Коли он умрет, неужто на большом княжении сидеть мальчишке Василею? А ведь сядет, и ничего пожалуй, не сделаешь: на его стороне н сила, и право, такова была воля отца и государя Мстислава Михайловича, чтобы братанич держал под своей рукою родных дядьев. И угораздило же родителя так распорядиться наследием и такую обиду учинить младшим своим сынам!
Так думал князь Тит, и мысли эти особенно настойчиво стали одолевать его после того, как боярин Шестак прслв в Козельск гонца с извещением, что Пантелеймон Мстиславич тяжко захворал и дни его сочтены.
Через две недели после событий, описанных в предыдущей главе, в трапезной козельского князя, за широким дубовым столом, крытым вышитой полотняной скатертью сидели, потягивая мед, четверо собеседников: сам хозяин, Тит Мстиславич, – невысокий и худощавый мужчина угрюмого вида, с изрядно уже поседевшей рыжей бородой и его старший сын Святослав, человек лет тридцати, тоже невысокий и рыжий, чем-то напоминающий лису; знакомый уже нам боярин Щестак и, наконец, князь Андрей Мстиславич Звенигородский. Это был высокий, крепкий мужчина, весь облик которого дышал внешним благообразием. Волнистая русая борода его веером стелилась по груди, лицо было чисто и бело, а ласковые голубые глаза глядели на собеседника почти с детской доверчивостью. Словом, у Андрея Мстиславича была выгодная внешность: она сразу располагала к нему людей. И разве что очень тонкий наблюдатель заметил бы в его словах и манерах нечто наигранное и рассчитанное. Князь Андрей так хотел и так привык нравиться окружающем, что совершенно непроизвольно уже применял для этого целый ряд мелких, выработанных практикой в перешедших в привычку приемов.
Вот и сейчас, картинно откинувшись на спинку резного кресла и поглаживая унизанной перстнями рукой своювеликолепную бороду, он подчеркнуто внимательно слушал державшего речь боярина Шестака.
Так вот,– говорил боярин,– как сведал я о том, что князь Пантелей Мстиславич вызвал к себе Василея и с глазу на глаз наставлял его ажио за полночь,– я в тот же час послал гонца в Звенигород, чтобы упредить тебя, Андрей Мстиславич, а сам через седмицу, сказавши всем, что еду в свою дальнюю вотчину, пустился в путь и прибыл в Козельск. Ныне же надобно нам, всем вместях, крепкоподумать о грядущем и о том, что ждет нас по смерти Пантелея Мстиславича.
– А почто мыслишь ты, боярин, что смерть его столь близка? -угрюмо спросил князь Тит.
– Тому предвестий есть немало. Допрежь всего, так Ипат баит, а он в этих делах гораздо сведущ. Да и без Ипата видать, что великий князь день ото дня слабнет. Знать, и сам он свою близкую кончину чует, кола ночью призывал сына и наставляя его на княжение.
– Отколь тебе ведомо, что наставлял? Мало ли о чем отец сыном могут гутарить?
– Нет, Тит Мстиславич, тут ничего иного быть не могло: старый князь, допрежь чем призвать Василея, велел принести к себе из крестовой палаты ларец с духовной грамотой покойного государя Мстислава Михайловича. И тот ларец я у него в опочивальне, на столе, своими глазами видел.
Стало быть, ясно, что разговор у них был о наследии.
– Да, пожалуй, что так, – не меняя позы, вставил Андрей Мстиславнч. – А по той духовной грамоте родителя вашего, царствие ему небесное, на большое княжение надлежит теперь вступить Василсю Пантелеичу, коему мы крест целовать должны и чтить его отца вместо.
– Ужель так и сказано в духовной деда? – подавшись вперед, спросил кияжич Святослав.
– Так и сказано. И еще добавлено, что ежели кто из князей земли Карачевскон с тем не согласится и схочет уйти из-под руки Василея,– так он того князя казнить волен.
– Стало быть, нет у нас иного пути, кроме как под Васькину руку,– с тоской и яростью сказал князь Тит.
Последовало длительное молчание. Шестак натужно дышал, у Святослава Титовича на крепко сжатых скулах перекатывались тугие желваки, князь Тит нервно барабанил по столу концами пальцев. Только Андрей Мстиславич охранял полное спокойствие и даже как будто улыбался слегка в свою холеную бороду.
Ужели же вы, князья Мстиславнчи, потерпите такую поруху чести вашей и старшинству? – промолвил наконец Шестак.
– Такова отцова воля,– отозвался Тит Мстиславич.
– Не могло быть на такое его воли! – крикнул Шестак.
– Ведь когда преставился он, Василея еще и на свете было! Откуда мог знать князь Мстислав Михайлович, что так дело-то обернется? Ужели мыслите вы, что схотел бы он Юдных сынов своих отдать на глумление какому-то мальчишке? Не мог он того желать!
Что пользы о том гадать, коли имеется написанная, духовная грамота, в коей точно указан порядок наследования? И ежели всем ведомо, что после брата Пантелеймона княжить в Карачеве надлежит сыну его Василею?
– Не знаю, кому оно ведомо,– не унимался Шестак,– а только мыслю я, что воля покойного князя Мстислава Михайловича со смертью его окончилась. Не мог он ведать грядущего, а потому и волю свою на него простирать не вправе. Дела нынешние живым надлежит решать, а не мертвым!
– Тебе хорошо языком трепать, боярин,– сказал князь Тит,– а родитель наш вечному проклятию предает того из потомков своих, кто волю его порушит.
– То пустое, Тит Мстиславич! Не ведал ведь он, как жизнь-то сложится, когда такое писал. А ныне не проклянет, а благословит он с небес того, кто землю нашу родную спасет от Васькиной лихости!
Снова последовало продолжительное молчание.
– Ну, пускай бы даже мы почали оспаривать у Василея большое княжение,– вымолвил наконец Тит Мстиславич,– так ведь он с этой духовной отправится в Орду, и великий хан, без сумнения, укрепит его право. А нам эта тяжба головы может стоить. Сами ведаете, каков есть хан Узбек: коли сочтет нас виновными,– выдаст Василею головой либо сам казнит.
– То истина, ежели Василей сможет показать ему духовную нашего родителя,– небрежно заметил князь Андрей.
– А почто не показать, коли она в его руках?
– Ну, а вдруг она затеряется? Без нее-то дело о наследии зело спорное. И кто еще знает, на чью сторону станет царь Узбек.
– Вестимо, не на Василеву! – оживился Шестак.– Ведь ты, Тит Мстиславич, с ханом хорош. И коли заявишь свои права на карачевский стол, он тебе, а не кому иному ярлык даст! О Василей же он ежели чего и слышал, то лишь недоброе, от брянского князя. Да той худой его славе мы еще и от себя пособить сумеем.
– Хан ко мне милостив,– медленно сказал князь Тит, перед которым вдруг развернулись новые, его самого поразившие возможности.– Да вот телько…
– Ну, чего ты еще нашел, Тит Мстиславич? – с жаром перебил Шестак.– Даст он тебе ярлык на большое княжение, как свят Господь, даст! А на Руси ханское слово все споры решает.
– Так-то оно так. Да ведь духовная все же в руках у Василея.
– То и лучше, что в его руках,– многозначительно промолвил Андрей Мстиславич.– Человек он молодой, таких делах небрежительный… Сунет ее куда-нибудь, а после и сам не сыщет.
– Ну, это бабушка надвое гадала,– усомнился князь Тит,– а такое дело, какое мы затеваем, на авось негоже начинать.
Ты мне поверь, братец! Я вещий сон видел намедни, а меня сны николи не обманывают, – почти весело сказал Андрей Мстиславич.– Потеряет ту духовную братанич наш!
– Ну, а все ж, коли не потеряет?
– Потеряет,– уверенно повторил князь Андрей.– А ежели бы и не потерял,– ты с ханом веди дело так, будто отродясь о ней и не слыхивал. Коли попадет она в руки Узбека, скажешь: знать не знал и ведать не ведал об этой духовной, потому и затеял тяжбу.
– Ты не сумневайся в этом, Тит Мстиславич,– горячо поддержал Шестак,– я тоже чую, что духовная нам помехой не будет. Решайся же! Один ты можешь спасти всех нас и всю землю Карачевскую от лихой беды, от Василева беззакония! Тебя всем миром просим на великое княжение, а в случае чего и перед ханом, и перед всею Русью тебя поддержим. Молви только согласие свое. Ведь и честь, и богатство сами к тебе в руки просятся!
Тит Мстиславич, в душе которого врожденная порядочность еще боролась с соблазном, при напоминании о богатстве решился окончательно. Проведя ладонью по лбу, покрывшемуся испариной, он глухо вымолвил:
– Ну, коли так, согласен! Чего же делать-то будем?
– Не теряя дня, собирайся в Орду,– ответил Шестак.– Вези царю Узбеку подарки и проси ярлык на карачевский стол.
– Да ведь брат-то, Пантелеймон, жив еще!
– Ну, и что с того? Ты Узбеку доведи, что, мол, карачевский князь, Пантелей Мстиславич, при смерти и дело
о наследии надобно загодя решить, дабы после не приключилось смуты.
– А ежели хан о Василее спросит?
– Спросит аль не спросит, ты ему сам скажи: Василий шалый и желторотый хлопец и татарам наипервейший тому же недоброхот. А наипаче напирай на то, что ты есть, после князя Пантелеймона, старший в роде; что ты сын родной первого карачевского государя, а Василей ему токмо внук.
– А ты что скажешь, брат Андрей?
Андрей Мствславич минутку подумал, потом ответил – Мыслю я, что Иван Андреич дело говорит. Все мы тебя старшим почитаем и после Пантелеймона тебя хотим большим князем. Но только ехать тебе самому в Орду никак негоже: тотчас об отъезде твоем всем станет ведомо, и Карачев всполошится. Небось и дети малые догадаются, почто ты к хану поехал, как раз теперь, когда большой князь при смерти.
– Кто ж тогда поедет? – подозрительно покосился на брата Тит Мстиславич.– Ты, что ли?
– Зачем я? Мне ехать тоже не след. Мое родство с Гедимином может все дело испортить: хан, чего доброго, подумает, что мы для Литвы стараемся. А пошли ты в Орду вот хотя бы Святослава.
– Меня? – удивление спросил молчавший до сих пор княжич Святослав Титович.
– Ну, тебя же! Ты зрелый муж, и голова у тебя разумная. Дело это не хуже кого другого обделаешь, а о том, что ты и хану поехал,– в Карачеве никому и вдомек не станет.
– То истина! – обрадованно воскликнул князь Тит, которому не очень хотелось самому тащиться в Орду и унижаться перед ханом.– Собирайся в путь, Святослав, тебе вверяем мы судьбы наша!
– Чту волю твою, батюшка, и клянусь, что доверие твое и дяди Андрея оправдаю,– вставая и кланяясь, ответил польщенный княжич.
Андрей Мстиславич благосклонно улыбнулся племяннику и ласково похлопал его по плечу. Он знал, что дело попало теперь в надежные руки. Тит Мстиславич был простоват и по-своему честен. Невзрачный на вид Святослав был, наоборот, далеко не глуп, хитер и упорен. Он завидовал Василию и ненавидел его, как только человек, обиженный природой и судьбой, может ненавидеть их общего баловня. Возможность собственными руками сокрушить Василия наполняла его восторгом, не говоря уж о том, что, удачно выполнив возложенную на него задачу, он, как старшой сын Тита Мстиславича, и себе самому обеспечивал в будущем большое княжение.
«Этот будет стараться не за страх, а за совесть,– удовлетворенно подумал Андреи Мстиславич, глядя на сияющего племянника,– и от Василея он меня избавит. А от иных я и сам избавиться сумею».
– Ну, добро,– сказал Тит Метислаеич,– в Карачеве, стало быть, я сяду. Ты, Андрей, из Звенигорода, вестимо, перейдешь в Козельск. А с Василием все же мы как сделаем? Оставить его вовсе без удела, по мне, негоже, да и хан на это едва ли согласится…
– Да что на него смотреть, на Ваську скаженного? – воскликнул Шестак,– Пускай ладится куда хочет! А хану его ложно так расписать, что не токмо без удела,– без головы его оставит!
– Ну, это ты позабудь, боярин! Я такого греха на душу не приму, да и другим не позволю. Помни, что в Василее тоже течет кровь черниговских князей, и не пристало нам пускать его по миру! Как мыслишь ты, князь Андрей, не дать ли ему Звенигород?
– Звенигород, брат дорогой, я хотел бы тоже за собой оставить. Сам ведаешь, двое сынов у меня. Федору, по смерти моей, Козельск бы остался, а Ивану Звенигород.
Скупой Тит Мстиславич при этих словах сильно помрачнел, но понял, что при сложившейся обстановке отказать брату нельзя, и потому, скрипя сердцем, сказал:
– А Василсю, в таком разе, что же мы выделим?
– Василею можно Елец отдать.
– Вишь, твоим сыновьям два лучших удела, а моим что же останется, коли Елец Василею отдадим?
– Как что останется? Побойся Бога, брат! Святослав по тебе Карачев наследует, Ивану дашь Волхов, Федору – Мосальск.
– А Роману что?
– Да ведь Роману-то и десяти годов нету! Дашь ему Кромы, когда подрастет. Только и Елец, без сумнения, твоим будет, ибо Василей, по гордыне своей, навряд ля согласится на что иное, опричь большого княжения. Скорее всего, набуянит он тут, и придется ему уносить от ханского гнева ноги куда подале.
– Ну, ин ладно, на том и порешим. Только вот я о чем думаю: что, ежели помрет брат Пантелеймон прежде, чем ярлык у нас будет? Ведь тогда Василей заступит на карачевскйй стол, и мы тому помешать никак не сможем.
– Зачем мешать? Пускай его заступает. А когда вернется Святослав с ярлыком,– попросим его честью из Карачева. Не станет же он с царем Узбеком воевать! Оно так, да все ж лучше бы по-хорошему сделать, без драки. Василей-то больно горяч.
– Обойдется! Время есть, еще что-нибудь надумаем, вестимо, лучше бы пожил Пантелей Мстиславич до возвращения Святослава. Тогда дело куда проще бы сделалось.
– Не пришлось бы еще нам Василею крест целовать!
– Коли о том речь зайдет, отказываться покуда нельзя, но и целовать негоже. Будем чем ни есть отговариваться
– Ну, ладно, значит, на том и стали! Наливай, Святослав, кубка. Выпьем за удачу дела нашего, и да поможем нам Господь!
Собеседники еще долго сидели в трапезной, обсуждая второстепенные вопросы, стараясь предусмотреть все а наставляя Святослава Титовича, как вести дело с ханом и что ему говорить. Наконец, когда во дворе пропели вторые петухи, все встали.
При выходе Андрей Мстиславич, как бы невзначай, обратился к Шестаку с вопросом:
– А ведомо ль тебе, Иван Андреич, где сейчас хранится отцова духовная?
Шестак пристально и понимающе взглянул на звенигородского князя.
– Досе хранилась всегда в крестовой палате, в алтаре. А вот как потребовал ее к себе Пантелей Мстиславич,– с той поры я ее там не видел. Либо она в опочивальне князя, либо Василей к себе унес. То я могу вызнать точно.
– Вызнай, Иван Андреич, не помешает.
Глава 10
Тура мя два метали на рогах своих с конем вместе, олень мя бодал, а лоси один ногами топтал, а другой рогами бодал. Вепрь мне с бедра меч оторвал, медведь ми у колена потник прокусил, лютый зверь скочил на мя и с конем поверже, а Бог мя соблюде. Владимир Мономах («Поучение»)
Через три дня княжич Святослав, сопутствуемый ком дружинников и снабженный богатыми дарами для хана Узбека, великой хатуии(X а т у н ь – главная жена хана) и кое-кого из влиятельных татарских вельмож, выехал в Орду. В целях сохранения тайны всем было сказано, что он послан отцом с подарками к рязанскому князю Ивану Ивановичу, дочку которого Тит Мстиславич сватал для своего второго сына, Ивана.
Отправив посла, все остальные участники заговора возвратились к своим обычным делам. Мрачный и раздражительный Тит Мстиславич, стараясь заглушить в себе суеверный страх и голос совести, настойчиво твердивший, что заслужил посмертное проклятие отца, – с головой ушел хозяйственные заботы. Спокойный и со всеми ласковый Андрей Мстиславич, после долгого разговора с глазу на глаз боярином Шестаком, отправился к себе в Звенигород, Шестак, заметая следы, проследовал из Козельска в свою вотчину, навел там порядки н в конце октября возвратился в Карачев,
В стольном города тем временем жизнь текла своим чередом. Давно минул праздник Покрова пресвятой Богородицы, прошел и Дмитриев день, а князь Пантелеймон Мстиславич, вопреки тайным предсказаниям ведуна Ипата и своим собственным предчувствиям, не только продолжал жить, но н чувствовал себя значительно лучше. Он начал даже покидать свое кресло и, опираясь на палку, самостоятельно передвигаться по горнице.
В городе, да и во всем княжестве, царили мир и тишина. Беспокойный сосед, князь Глеб Святославич, всецело поглощенный борьбой со своими бунтующими подданными, карачевских рубежей больше не тревожил. Бдительность и сторожевую службу в Карачеве вновь ослабили, семейные дружинники жили по домам, запасаясь дровами и подготовляя свои хозяйства к суровой зиме. Во владениях карачевских князей голод вообще был редкостью, нынешний же год выдался особенно урожайным. Крестьяне наполнили зерном закрома, легко уплатили положенные подати и будущего не страшились. По деревням варили брагу, правили свадьбы и весело готовились к зиме.
В связи с этим общим благополучием у Василия забот было не много. Почти все свободное время он проводил на охоте или в усадьбе у Аннушки. Последние встречи их были, впрочем, не очень радостны.
Василий и прежде не обманывался в том, что рано или поздно, но придется отказаться от Аннушки и взять себе жену из княжеского рода, быть может, вовсе ему чуждую и нелюбимую. Но он отгонял от себя мысли об этом не близком еще, как ему казалось, будущем. После же ночного разговора с отцом он вдруг ясно ощутил, что это будущее уже надвинулось почти вплотную и что дни его счастья с Аннушкой сочтены. Теперь это счастье ему казалось особенно ярким, а мысль необходимости отказаться от него – особенно мучительной.
Аннушка, проводившая большую часть времени в одиночестве и занятая только своими мыслями о Василии и об их отношениях, давно уже осознала неминуемость такого конца и была к нему лучше подготовлена. Она полностью отдавала себе отчет в той, что с уходом Василия в ее жизни ничего не останется, кроме тоски и воспоминаний, ибо другого она полюбить не сможет и не захочет. И все же она была готова принять этот сокрушающий удар безропотно, кап расплату за недолгое счастье, подаренное ей судьбой. Правда, она пришла к этому не сразу, вначале все существо ее восставало против необходимости уступить любимого другой женщине, ее заранее сжигала ревность к этой еще неизвестной сопернице. Но постепенно она примирилась с этим, и любовь ее мало-помалу приняла характер самоотречения.
Когда Василии, после долгих в мучительных колебаний, сказал ей наконец, что отец сватает для него княжну Муромскую, Аннушка, вся поникнув, долго сидела молча, потом подняла на него наполненные слезами глаза и, запинаясь, вымолвила:
– Так и должно быть, Васенька… Ну, что ж… Вес говорят, что княжна Ольга Юрьевна красавица. Дал бы Господь, чтобы и душою она была так хороша, как лицом… Только бы было тебе с нею счастье.
* * *
В один ноябрьский день, едва на востоке наметились первые признаки рассвета, Василий, в сопровождении Никиты, выехал из городских ворот. На обоих были короткие меховые полушубки, шапки-ушанки и теплые валеные сапоги, снизу подшитые кожей. У каждого за плечами был лук и колчан со стрелами, на поясе – длинный нож, а в руках охотничья рогатина. С полдюжины крупных поджарых собак весело суетились вокруг всадников. Все это не оставляло сомнении в целях их поездки: накануне выпал обильный снег и сегодня любого зверя легко было обнаружить и взять по свежему следу.
Выехав из города и миновав мост, охотники направились вниз по берегу Снежети. Верстах в десяти отсюда течение реки описывало крутую петлю, образуя нечто вроде низменного, заросшего кустами и высокой травой полуострова, с узким перешейком, упирающимся в густую чащу леса. Привлеченные хорошим пастбищем, животные забредал* из лесу на этот полуостров и, никем не тревожимые, часто задерживались тут подолгу. Особенно любили эту излучину дикие кабаны, ночью копавшие здесь коренья, а днем отлеживающиеся в густом кустарнике, который давал им надежное убежище. Место это было– идеальным для охоты: став на перешейке и пустив на полуостров собак, охотник мог быть уверен, что вспугнутая дичь его не минует. Туда-то и направили своих коней Василий и Никита, не раз уже там охотившиеся.
– Ну, расскажи, как же тебе ездилось? – спросил Василий, когда всадники въехали в лес, укрывший их от холодного ветра, который не очень располагал к разговорам.
Никита только накануне возвратился из довольно долгой поездки. По поручению Пантелеймона Мстиславича он ездил приглашать удельных киязей на семейный совет, связанный с тяжелой болезнью большого князя. Но это, разумеется, был лишь предлог, пользуясь которым князь Пантелеймон хотел заставить своих братьев поцеловать крест Василию. Дело надо было провести с умом, поэтому его не доверили простому гонцу.
– Ездилось-то хорошо, Василей Пантелеич, да только пользы от моей езды вышло не много,– ответил Никита.
– Что так?
– Видать, твои дядья почуяли, зачем их призывают. Небось их теперь в Карачев и золотом не заманишь!
– Это я и наперед знал. Поведай все ж, как тебя там принимали да жаловали?
– Да что ж, приехал я сперва в Звенигород. Чай, сам знаешь, какие они там медовые,– усмехнулся Никита.– Встретила меня на крыльце сама княгиня Елена Гимонтовна, бласкала прямо как родного сына. Но вот, говорит, беда: ухал князь Андрей Мстиславич в Литву, и когда возвратится – никому не ведомо. Вестимо, обнадежила, что как только назад будет он из Литвы, в сей же час отправится Карачев. Но только сдается мне, что долго нам его ожидать придется.
– А как мыслишь ты, точно ли он в Литву уехал?
– Едва ли. Больше похоже, что дома он схоронилсь. Али ты что приметил?
– Приметил, что у них хоромы полны попов. Оно правда, Звенигороде их николи мало не бывает, но тут сразу учуял я, неспроста такое сборище. И после сведал, что съехались И на освящение церкви святого Адриана, которую недавно закончил постройкой князь Андрей. Вот и помысли,– возможно ли дело, чтобы ту церковь без вето святили? А ежели Андрей Мстиславич и впрямь куда отлучился,– могла ли не знать княгиня, когда он воротится, коли наш с нею разговор был октября тридцатого, а на первое ноября празднуется память святого Адриана?
– Да, шито белыми нитками. Ну, а дальше что было? – Дальше поехал я в Козельск. Здесь мне уже вовсе иной прием был оказан. Встретил меня какой-то сын боярский, спрашивает – что надо? Говорю: посланец из Карачева к козельскому князю. Ввел он меня в пустую горницу и, не промолвив слова, ушел. Долго я там сидел один, наконец входит княжич Иван. Смотрит волком. «А батюшка,– говорит,– сильно недужен». Спрашиваю,– а что ж такое ему приключилось? «Посклизвулся,– отвечает,– вчерась на лестнице и дюже спину себе повредил. Лежит и вовсе двинуться не может».– «Так что же,– спрашиваю,– тебе, что ли, княжич, обсказать, с чем я прислан?» – «Нет,– говорит,– сейчас батюшку знахарь пользует, а как кончит, я тебя туда проведу». Ладно, кончил свое дело знахарь,– вводят меня в опочивальню князя. Тит Мствславич лежит на лавке под образами, руки на брюхе складены,– ну, вот сейчас умрет! А у самого рожа красная и в глаза не глядит. «Сказывай,– говорит,– с чем прислан?» Я обсказал. Поохал он чуток и молвит: «Сам видишь, какое мое здоровье. Вот ты братцу Пантелею Мстиславичу о том и доведи. Скажи ему, что как только на ноги встану, тотчас его волю исполню и в Карачев приеду. Но когда это будет,– одному Богу ведомо, потому что дюже мне худо».
– С тем, значит, ты и уехал?
– С тем и уехал. Но только, ночуя в Козельске, вызнал я ненароком от княжеской челяди, что назад тому месяца полтора гостил у Тита Мстаславича звенигородский князь и что был там к ту пору такоже наш боярин Шестак.
– Ого! Это неспроста. Видать, они что-то промеж собою затеяли.
– Как Бог свят, Васалей Пантелеич! Люди баили, что они, все трое, да еще княжич Святослав с ними, затворившись в трапезной, совещались цельный день и цельную ночь, аж до вторых петухов. И даже слуг туда не допускали. Остерегись, Василей Павтеленч; это супротив тебя они что-то заводят.
– Поживем – увидим. То навряд, чтобы они сейчас пошли далее разговоров: для дела у них еще жилы слабы, но поглядывать будем.
Тем временем собеседники приблизились к цели своей поездки. Не доезжая шагов трехсот до перешейка, они спешились, привязали в укромном месте своих коней, и Никита взял всех собак на сворку, чтобы они раньше времени не спугнули дичь. Затем оба вышли на перешеек и принялись тщательно изучать следы на снегу, дабы знать заранее какие звери проследовали на полуостров и с кем им предстоит встретиться.
В ту пору этот огромный лесной массив, воспетый в русских былинах под названием Брянского ласа, изобиловал всевозможной четвероногой и пернатой дичью. Не говоря утке о зайцах, лисицах, куницах, белках, выдрах и других некрупных пушных зверях, водившихся здесь в несметных количествах,– по лесным речкам встречались целые поселения драгоценных бобров. Не была редкостью также и рысь. Встреча в лесу с медведем была заурядным явлением, а волки, собираясь зимою огромными стаями, держали в постоянном страхе редкие лесные деревня. В топких низинах, укрываясь в камышах и кустарниках, нежились дикие кабаны, по берегам рек и озер паслись целые стада оленей и лосей, нередко встречался еще и воспетый русской народной поэзией лесной исполин – тур, окончательно истребленный два-три века спустя.
Из пернатых постоянными и многочисленными обитателями этих лесов были глухари, тетерева и рябчики, а летом в лесных озерах появлялись лебеди и неисчислимое множество гусей и уток. В жизни обитателей этого края охота играла важную роль: она давала мясо для пищи, шкуры для всевозможных домашних поделок и меха для одежды и для продажи. Несмотря на несовершенство охотничьего оружия (лук, нож и рогатина) и опасность многих видов охоты, ею занимался с детских лет почти каждый мужчина. И немало было таких, которые к концу жизни убитых медведей и лосей исчисляли десятками, а более мелких зверей сотнями и тысячами. Для Василия и Никиты не составило особого труда собраться в принадлежности и характере следов, испещрявших с заснеженный перешеек. Они точно установили, что на полуострове находится с пол дюжины диких свиней, что туда забредал довольно крупный лось, который вскоре снова ушел в лес и, наконец, что по перешейку долго топталось несколько волков, но дальше они почему-то не пошли. Остальные письмена, оставленные на снегу лапами более мелких четвероногих, не стоили внимания.
– Дивлюсь,– промолвил Василий, когда осмотр был закончен,– почему оттуда сразу ушел обратно сохатый?
– И почто туда не зашли солки, хотя они и шли по следу свиней? – добавил Никита.
– Неужто секача побоялись?(С е к а ч – старый кабан, вожак стада)
– Едва ли. Может, просто сытые были и потому решили с секачом не связываться. А может, испугались чего.
– Чего ж бы им пугаться, коли там никого, опричь свиней, нету? Ведь сохатый и тот раньше ушел.
– Ума не приложу. Следов тут боле ничьих не видать.
– Может, какой зверь туда еще до вчерашнего снегопада забрел?
– Чего бы он там досе делал? Да и какой зверь? Медведь в эту пору уже в берлоге спит… Разве что нечисть какая?
– Ну, уж сказал! Нечисти волки не боятся. Да чего тут долго гадать? -спускай собак, и зараз узнаем, кто там есть!
Собаки, почуявшие свинец, уже давно заливались истошным лаем и рвались из рук Никиты. Получив свободу, они стремглав кинулись на полуостров и вскоре исчезли в кустах, не переставая лаять.
Охотники между тем расположились шагах в пятидесяти друг от друга, по краям перешейка, так, чтобы кроме него держать под обстрелом русло реки, по обе стороны излучины, на тот случай, если зверь вздумает уходить по льду. Противоположный берег в этом месте спускался к воде крутым обрывом, и взобраться на пего не смогло бы ни одно крупное животное. Воткнув возле себя в снег рогатины и проверив, легко ли ножи вынимаются из ножен, Василий и Никита наложили по стреле на тетивы луков и устремили глаза на полуостров, где, судя по яростному лаю, собаки уже увидели кабанов.