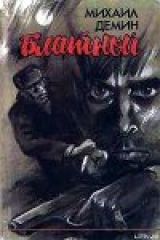
Текст книги "Блатной (Автобиографический роман)"
Автор книги: Михаил Демин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
16
Под гром салюта
Как– то раз зимой во время утренней проверки я почувствовал вдруг недомогание, жаркий озноб, противную горькую сухость во рту. Стало трудно дышать. В груди моей и спине при каждом вздохе возникала сверлящая, пронзительная боль.
Пришел врач (по-лагерному „лепила“). Торопливо обстукал и выслушал меня, сунул под мышку мне градусник, и потом, посмотрев на него, уныло поднял брови.
– Придется госпитализировать, – сказал он надзирателю. – Ничего не попишешь – плох. И весьма.
– А что у него? – спросил с сомнением надзиратель.
– Что-то с легкими, – ответил, поджимая губы, врач. – Вероятно, плеврит, если я, конечно, не ошибаюсь…
Он не ошибся, этот лепила! У меня и действительно оказался двухсторонний „экссудативный“ плеврит – болезнь затяжная и скверная.
И вскоре меня отправили отсюда, перевели в бутырскую центральную тюремную больницу.
Болел я долго и тяжело. Сказались чудовищные условия лагерной моей жизни; адская смена температур (зной литейного цеха и холод сырой, неотапливаемой камеры), и непосильный труд, и длительное недоедание.
Едва соприкоснувшись с жизнью, я уже устал от нее. Устал, не успев распознать ее по-настоящему, не разглядев, не распробовав.
Плеврит мой вылечили к весне, но я по-прежнему был плох и почти не вставал с постели. Я лежал, дыша осторожно и трудно. И часами с тоскою разглядывал беленый, испятнанный сыростью потолок.
Пятна были обильны и разнообразны; одни из них напоминали диковинные растения, другие – гигантских насекомых. Порою мне начинало казаться, будто насекомые эти шевелятся, движутся…
Тогда я отворачивался и смотрел в окно. За ним в вышине серело дымное ветреное небо.
Иногда по вечерам в небе вспыхивали победные салюты.
Короткий орудийный гром раскатывался над округой. Темнота расступалась и становилась радужной. Густые зыбкие гроздья огней взлетали в зенит, на миг повисали там и рассыпались пестрым праздничным дождиком.
Начиная с зимы сорок третьего года салюты стали возникать все чаще и все пышнее. Война переламывалась. Фронт отходил на Запад.
Больничная наша камера реагировала на это бурно и по-разному.
Здесь находилось немало бывших солдат. Немало тех, кто в самом начале войны попал, отступая, в немецкое окружение. Все они сидели теперь за измену родине, за шпионаж и сотрудничество с врагом!
И все-таки неправедно осужденные, обиженные, посаженные, в сущности, ни за что, люди эти по-прежнему оставались патриотами. Фронтовые победы искренне радовали их, салюты заражали шумным весельем.
Были тут и настоящие изменники – перебежчики, „полицаи“. К военным событиям они относились по-своему, с тоскливым беспокойством и явной тревогой.
Некоторые из них упорно продолжали верить в немецкую мощь, в несокрушимость третьего рейха; перемены на фронте казались им делом временным и случайным.
– Показуха, – насмешливо выпячивая губы, сказал однажды вечером пожилой, заросший седой щетиной полицай, – дешевая трескотня… У нас только и умеют, что пыль в глаза пущать.
– У нас еще и драться умеют, – отозвался высокий, бледный до синевы, парень. Одна рука его была закована в гипс и покоилась на широкой марлевой перевязи; другой он ухватился за решетку окна. Он стоял, жадно вглядываясь в мерцающее, расцвеченное салютными брызгами небо.
– Неплохо умеют, сам видишь!
– Это-то умеют, – согласился седой, – да что толку? Все одно – бардак… Нет, ребята, с немцами нам не сравняться, – он помотал головой. – Нипочем не сравняться. У них порядок, дисциплина, настоящая власть. У них – сила!
– А все же бегут! – улыбнулся парень. – Как же так?
– А очень просто, – прозвучал из угла сипловатый раскатистый бас. – Немецкий порядок разбился о русский бардак…
– А-а-а, – отмахнулся полицай. – Это все ненадолго. Они еще вернутся! Оклемаются, отдышатся малость и беспременно вернутся. Наверстают свое. Вот тогда посмотрим, что вы скажете, герои, как запоете!
– Замри, паскуда, – грозно, медленно проговорил парень и порывисто шагнул к седобородому. – Закрой свою помойку! Понял? И если еще вякнешь…
– А чего ты прешь, чего залупаешься? – удивился тогда полицай. – О чем хлопочешь? Думаешь, ты лучше меня? Мы же с тобой одинаковы, сидим по той же статье, срока имеем общие.
И опять громыхнул из угла чей-то насмешливый бас:
– Всем – поровну! Основной закон социализма!
* * *
Блатные обычно не ввязывались в скандальные эти споры; салюты вызывали у них свои, особые ассоциации…
Мой сосед по койке – старый карманный вор Архангел – рассуждал, прислушиваясь к торжественному эху орудий:
– Хорошо сейчас на воле. Ах, хорошо! Фрайера суетятся, гужуются, водочку пьют… А когда фрайер веселый, работать одно удовольствие. Он, сирота, ничего в этот момент не чувствует, не видит – сам в руки просится! Бери его за жилетку и потроши по частям. Я завсегда, как только подпасу приличного сазана, в глаза ему смотрю. Внешность изучаю. Ежели он навеселе – значит мой! Ежели, наоборот, нервный, злой – стало быть надо поостеречься. Злой – он трудный для дела. Чутье у него, как у собаки. Тут особая психология, это проверено давно! И вот почему я войну не люблю, она всех в тоску вгоняет, нервными делает… Ну, ничего. Дай Бог, доживем до победы. До мирных дней! До полного веселья!
Я слушал его безучастно и словно бы издалека. Я все время лежал в забытьи; не хотелось ни говорить, ни двигаться. И, как это ни странно, почти совсем не хотелось есть.
По сравнению с тем, что давали в лагере, здешняя больничная кухня выглядела, поистине, княжеской! Обед состоял из трех блюд. (Я получал особую, усиленную норму – для тяжелобольных.) На третье выдавали компот, его я и пил в основном. Остальное, урча и отдуваясь, торопливо приканчивал мой сосед.
Болезней у Архангела было много – хронический сифилис, ревматизм, выпадение кишки и еще что-то, сейчас уже и не упомню… Однако роскошный этот букет, казалось, ничуть ему не мешал; он был на редкость жизнерадостен, говорлив и исполнен волчьего аппетита.
Он подчищал за мной блюда старательно и регулярно. Но однажды скорбно сказал:
– Тебя, конечно, мне сам Господь Бог послал… Двойной харч – это по нынешним временам счастье. Особый факт! Но все-таки ежели подумать, жалко тебя! Ты ведь так не протянешь долго. Загнешься, отбросишь копыта.
– Да? – я улыбнулся слабо. – Ну и что?
– Как что? – рассердился он. – Как то есть что? Пока есть возможность, пользуйся, кормись… Шевели рогами!
– Не хочу, – проговорил я сонно, – не хочу шевелить… Я отвернулся и задремал, накрывшись с головой одеялом. Разбудил меня врачебный обход. Открыв глаза, я увидел над собой людей в белых халатах; один из них – низенький, одутловатый, в мягких старческих морщинах – спросил, глядя куда-то вбок:
– Ничего, говоришь, не ест?
И голос Архангела ответил тотчас же:
– Видит Бог, гражданин доктор. Только компот сосет. Да еще чаек… Ну и передачки кое-когда. И все! Догорает парнишка, на глазах доходит.
– А ты, значит, все это время за двоих старался, – усмехнулся врач, – и помалкивал…
– Так ведь сказал же, – с обидою возразил Архангел, – сам сказал!
Врач присел ко мне на кровать, пощупал пульс и ловко, привычным жестом вывернул мне веки.
– М-да, – пробормотал он, – собственно говоря, этого давно следовало бы ожидать.
Затем, отойдя в сторону, он о чем-то долго говорил со своим спутником. До меня долетали отрывки приглушенных фраз: „Пеллагра“. „Потеря жизненных сил“. „Подлежит актировке“…
Когда обход кончился, Архангел сказал:
– Хорошая карта тебе выпала, шкет. Добрая карта! Если уж они заговорили об актировке, дело верное. Пойдешь на свободу! Ну а я… – он умолк, опустил брови и потом добавил, кривясь: – А я тут буду гнить. Разве это справедливо?
* * *
Через неделю после памятного нашего разговора я был вызван на врачебную комиссию. Осматривало меня на этот раз много людей. И опять услышал я непонятное и пугающее слово: „пеллагра“.
А затем на исходе апреля мне было объявлено о том, что я „сактирован“ – досрочно освобожден из-под стражи в связи с болезнью и потерей трудоспособности.
Я выслушал эту новость в тюремной канцелярии. Начальник зачитал вслух приказ о моем освобождении, потом сунул мне какие-то бумаги; я должен был прочесть их и расписаться.
Когда формальности были закончены, явился санитар и отвел меня вниз, в сырой и сумрачный подвал, где помещалась вещевая каптерка.
Там он сразу же приказал мне раздеться:
– Скидавай все начисто! Отходился в казенном…
Я послушно снял с себя шершавое больничное белье, стряхнул с ног тапочки и, ощутив под подошвами ледяной и скользкий кафель, сразу съежился, озяб.
– А… мое барахло? – спросил я, мелко постукивая зубами.
– Жди, – сказал он, сгребая белье в охапку, – выдадут.
– Сколько ж надо ждать?
– А уж это не знаю. Не моя забота… Здесь ваших тряпок навалено знаешь сколько? Тысячи! Пока разыщут, сверятся – на это тоже время надо.
– Но ведь холодно…
– Потерпишь, – сказал с коротким смешком санитар. И он ушел, звонко цокая по кафельному полу.
Все это время я говорил и двигался, как в полусне, еще не вполне осознавая реальность происходящего. Холод привел меня в чувство. И только теперь заметил, что я здесь не один!
Поодаль, на лавке, сидел такой же голый, как и я, арестант. Он сидел вполоборота ко мне, скорчившись и подтянув колени к подбородку.
Тщедушный, стриженный под машинку, с выпирающими ключицами, с просвечивающей кожей, он показался мне совсем зеленым юнцом. „Господи, – подумал я, – подростков сажают, почти детей“.
В зубах у подростка дымилась папироса. Мне вдруг нестерпимо захотелось курить. Вприпрыжку, поджимая зябкие ноги, я направился к нему и подошел вплотную.
– Эй, – сказал я, – лишней папиросы не найдется? Он скользнул по мне взглядом, прищурился, затянулся, кутаясь в дым. Потом, опустив ресницы, сказал застуженным, ломким каким-то тенорком:
– Последняя…
– Ну, так оставь затянуться!
– Ладно, – кивнул подросток и, оторвав зубами мокрый краешек мундштука, протянул мне окурок.
Он держал его деликатно – кончиками пальцев. И я невольно обратил внимание на форму его руки. Рука была узкой и слабенькой, и какой-то почти неживой.
– Затянись! – сказал подросток. – Отведи душу, если не брезгуешь.
Я взгромоздился рядом с ним на лавку, скрестил ноги по-турецки и так сидел некоторое время, помалкивая, мусоля тлеющую папиросу.
– На волю? – поинтересовался он затем. – Или на этап?
– На волю, – ответил я. – А ты?
– Тоже.
– Что-то они долго возятся. Не могут вещички наши найти, что ли?
– Так ведь на волю, – сощурился он. – Тут они не спешат…
И еще раз, искоса оглядев меня, спросил негромко:
– По болезни?
– Да… Сактировали. В общем, подвезло. Поперло!
– И меня, – сказал он жалобно. – И меня – по болезни…
– Да уж ясно!
Я провел ладонью по стриженой его голове, по склоненной детской тоненькой шее.
– Это сразу видать… Где ж это тебя так заездили? Ничего не осталось.
– Ничего не осталось, – повторил он и всхлипнул. Лицо его исказилось. По запавшим щекам протянулись ломкие полоски слез.
– И ничего уже больше не будет… Ничего, ничего!
– Ну, ну, – проговорил я растерянно, – перестань. Что ты, как баба? На свободу ведь идешь – радоваться должен!
Он затих под моей рукой. И легонько, доверчивым движением, прислонился ко мне плечом.
И в этот момент в глубине комнаты из-за перегородки раздался зычный голос каптера:
– Евдокимова Анна! Подходи – получай вещи! Товарищ мой вздрогнул и распрямился внезапно. И как только он поднялся с лавки, я понял, что это вовсе не парень.
Ошибиться было невозможно… Но, боже мой, как мало женского оставалось в иссохшем этом теле! Угловатое, лишенное плоти и сочности, оно вызывало щемящее чувство жалости.
Девушка, очевидно, и сама это сознавала; растерянно прикрываясь руками, она отвернулась от меня, потупилась с горькой гримаской и стремительно пошла, почти побежала к перегородке, туда, где маячила громоздкая, облаченная в халат фигура каптера.
Спустя минуту вызвали и меня.
Слежавшийся, мятый, пахнущий плесенью и мышами костюм налезал на меня с трудом… Но когда я надел его, оказалось, что он чересчур просторен и болтается, как на вешалке; плечи пиджака провисали, брюки сидели мешком.
Зато Анна – в пестреньком платьице и платочке – стала неожиданно нарядной и даже обрела кокетливый вид.
Легкий оранжевый этот платок освежал ее лицо и удачно сочетался с цветом глаз. Я только сейчас рассмотрел их по-настоящему; они были карие, большие, с золотистыми, дымно мерцающими искрами.
– Послушай, – сказал я, – ведь я поначалу не разобрался… А ты – интересная!
– Была когда-то, – вздохнула она, – ничего была девочка. В порядке. За это и погорела.
– А кстати – за что? По какой ты статье сидела – я и забыл спросить.
– Статья знаменитая, – ответила она, – С. О. Э. Знаешь?
– Нет.
– Будет врать-то!
– Честное слово, не знаю. Так все же – за что тебя?
– За проституцию, – сказала она просто. – А что было делать? Мама в сорок втором потеряла карточки, начался голод… Ну, я и пошла. С военными. С кем попало. Вот и пришили статью: „Социально опасный элемент“.
– А здесь, – начал я, – в больнице…
– Я знаю, о чем ты думаешь, – хмуро усмехнулась она. – Нет, у меня не то… Врачи говорят – каверны в легких, – и опять лицо ее ослабло, исказилось жалобно. – Это сейчас хуже любого сифилиса. Теперь у меня одна дорога – на Ваганьковское кладбище.
– Эй, фитили! – хрипло гаркнул каптер. – Хватит митинговать. Выходи давай, топай!
И вот наступил долгожданный миг свободы.
Я думал, что будут какие-нибудь новые процедуры, дополнительные сложности, но нет, все получилось на удивление легко и буднично.
Вахтер молча сверился со списком, затем отворил стальные клепаные ворота, пропустил нас и захлопнул их с тяжким грохотом.
– Тебе куда? – отойдя от ворот, спросил я Анну.
– Тут, недалеко, – махнула она рукой, – на Каляевской улице.
– Проводить?
– Да нет, ни к чему, – ответила она. – Как-нибудь погодя – если живы будем. – И потом, шатнувшись, подняв руки к лицу, сказала: – Ой, я совсем как пьяная! Дойдем-ка, миленький, вон до того угла…
На углу мы простились с ней. Но расстались не сразу. С минуту мы еще стояли здесь, озираясь, вбирая в себя забытые уличные запахи и цвета.
День незаметно кончился, угас, и все вокруг – очертания зданий и силуэты бегущих по тротуарам людей – все уже было смягчено и затушевано сумраком. Линии утратили четкость, краски стали влажны и расплывчаты.
А может быть, мир предстал нам таким из-за наших слез?
Анна плакала в голос, навзрыд. Я стоял рядом с ней, поддерживал се под локоть и чувствовал, как в глазах у меня тоже набухает соленая жгучая влага.
И чтобы избавиться от влаги, не дать ей пролиться, я торопливо запрокинул голову к небу.
Наконец-то, после полутора лет заключения, мне снова довелось увидать его – увидать целиком, от края до края… Небо было огромным и легким. Оно пахло весной, источало томящую вечернюю свежесть. Оттуда лились потоки голубого света – густели и затопляли округу. И вдруг простор окрасился по-иному, наполнился отблесками огня, стал ярким и радужным.
Это над нами – надо всей Россией – ударил новый победный салют!
17
Возвращение
Добрался я до дому уже поздним вечером, в потемках. Погода к ночи испортилась. Вспыхнул ветер. Упругий, пахнущий талым снежком, он настиг меня в двух шагах от подъезда, хлестнул в лицо и чуть не сшиб меня с ног.
Тюремный каптер, выдававший вещи, назвал нас с Анной „фитилями“. Он сказал точно; на арестантском жаргоне так называют слабых, беспомощных, „догорающих“. На этот счет существует немало всяческих анекдотов. Вот, к примеру, диалог двух лагерных фитилей: „Эх, – говорит один из них, – душа разгула просит! Пойдем, что ли, к бабам…“ – „Пойдем, – отвечает другой, – если ветра не будет“. Диалог этот вспомнился мне не случайно. Таким „догорающим“ был сейчас я сам!
Пошатываясь, цепляясь за стену дома, я с трудом преодолел последние метры пути, вошел в знакомый подъезд и лицом к лицу столкнулся с матерью.
Когда утих первый взрыв эмоций, она сказала, утирая платочком взмокшие от слез ресницы и щеки:
– Я уж думала, что с тобой что-то случилось по дороге. Хотела разыскивать.
– А ты разве знала? – изумился я. – Они ведь ничего заранее не сообщают.
– Я сегодня как раз звонила туда.
– Вот как? Туда можно звонить? Это что же – всем разрешается?
– Ну, насчет всех не знаю, – улыбнулась она. – Мне этот звонок один знакомый устроил… Из министерства. Я хотела справиться о твоем здоровье и заодно узнать: можно ли принести в передаче немного крымского кагора… Кагор очень полезное вино – лекарственное.
Насчет моей матери я, вообще говоря, никогда не испытывал ни малейших иллюзий. Но одно ее качество я все же должен здесь отметить. Передачи в тюрьму она приносила мне добросовестно и в любую погоду. Подумать только: в военной Москве – голодной, выстывшей и обнищалой – она ухитрялась находить молоко и фрукты. И даже крымский „лекарственный“ кагор!
Помнится, в самые первые дни ареста (я сидел тогда в районной милиции – дожидался отправки в тюрьму) мне однажды передали сверток с продуктами. В нем оказались яблоки, сахар, колбаса. Передача для заключенного – праздник. Для меня же этот праздник был особенно радостным: я ведь его совсем не ждал! Растроганный, я бросился к окошку (оно, по счастью, было без намордника) и, уцепившись за решетку, подтянувшись на руках, окинул улицу быстрым взглядом.
Улица была малолюдна, заснежена, бела. Над ней вилась рассветная мутная метель. И в косматых струях, в морозном волокнистом дыму, увидал я маленькую женскую удаляющуюся фигурку. Женщина брела, наклоняясь и увязая в сугробах. Затем она встала и обернулась, заслонясь рукавом от летящего снега, и я узнал ее – узнал мгновенно! И подумал вдруг с горечью о том, что раньше, когда я был на воле, она никогда так не заботилась обо мне, не хотела сделать ни одного лишнего шага…
И теперь, разговаривая с ней в подъезде, я подумал о том же. Чем объяснить эту ее странность, непостижимую эту переменчивость?
А может быть, такова вообще женская сущность?
Мы стояли возле кабины лифта. Я потрогал дверцу, спросил:
– Работает?
– Что ты, – ответила она, – какие теперь лифты! Ты прямо как с луны свалился.
– Именно – с луны, – пробормотал я. – По блатным поверьям, если человек умирает – он отправляется на луну… Я, в сущности, там уже и был. И спасся чудом.
– Ну и слава Богу, – сказала она. – А теперь пойдем! Ты что-то плохо выглядишь. Тебе надо лечь.
И потом, поднимаясь впереди меня по темной, замызганной лестнице:
– В квартире кое-какие перемены… Так что не удивляйся!
– А в чем дело?
– Здесь теперь еще одна семья живет.
– Как же так получилось? – огорчился я.
– Ну, мой милый, – она пожала плечами. – Тебя ведь не было. Квартира пустовала. Вот и решили нас уплотнить.
– Но ты-то была!
– Ах, что я, – отмахнулась она. – Ты сам знаешь, как мне трудно. Не могу же я разорваться на два дома!
– Значит, уплотнили, – сказал я, – так. И большая семья?
– Да немалая, – она запнулась, утомясь, прислонилась к перилам и медленно перевела дух. – Какой-то тип со своей матерью, с женой и маленькой дочкой.
– Кто же он такой?
– Не знаю. Имя его – Петр Яковлевич Ягудас. Судя по всему, хохол. А по профессии – жулик. Явный жулик! Ходит в военном, носит звание майора, а к армейским делам никакого отношения не имеет; занимается Бог знает чем.
– Чем же все-таки?
– Какими-то темными торговыми махинациями… Да ты сам увидишь и все поймешь; теперь ты в этом должен хорошо разбираться.
* * *
„Уплотнили“ нас, как выяснилось, весьма основательно! Из трех комнат оставили в моем распоряжении всего лишь одну. Здесь была теперь сгружена мебель со всей квартиры – стулья, шкафы, этажерки. Поначалу я долго путался среди этого скопища; ушибался, постоянно что-то ронял. Вещи мешали двигаться, не давали дышать.
Потом сосед предложил мне распродать излишек мебели. Я согласился. Он быстро нашел покупателей. И вскоре комната очистилась – обрела жилой и нормальный вид.
Я неплохо заработал на этой распродаже и оказался на какое-то время избавленным от нужды.
Ягудас стребовал с меня за комиссию пять процентов. „Это немного, – заявил он, – полагается больше. Но ведь мы, как-никак, – соседи! Свои люди! Да и вообще, моя партийная совесть не позволяет грубо наживаться на несчастии других…“
Дородный, пухлолицый, с обвисшими лоснящимися щеками и тонким, почти безгубым ртом, он был довольно-таки колоритной фигурой, этот мой сосед!
Он весь дышал благородством – тем самым театральным благородством, что отличает мошенников и картежных шулеров. Двигался он с подчеркнутой корректностью, говорил неторопливо и веско. И рассуждения о партийной совести являлись его постоянной излюбленной темой…
Чем он занимался, я так и не смог постичь. Дела Ягудаса были таинственны, знакомства – самые разные…
Нередко в гости к нему приходили военные; такие же вальяжные, как и сам он, такие же сытые, и все – в офицерских чинах.
– Мы коммунисты! – доносилось из-за стенки. – А это не фунт изюму. Чем коммунист отличается от нормального человека? Тем, что у него особая совесть – коммунистическая, а не мещанская! А это значит – что? Это значит, что для нас самое главное – идея. Мы все борцы за идею, солдаты партии… Одни на фронте, другие в тылу – это неважно! Да и неизвестно еще, где труднее, где больше риску. На фронте и дурак может прославиться, а у нас, в тылу, героизм незаметный, скромный…
Появлялись в доме и штатские люди – пронырливые, шустрые, с внимательными и скользкими глазами. С ними Ягудас беседовал глухо и коротко. И лишь изредка сквозь невнятное бормотание прорывались медленные его слова:
– Как я сказал, так и будет. По себестоимости, понял? И ни копейки больше! И ты меня на совесть не бери. В том месте, где была совесть, знаешь, что выросло? Знаешь, какой орган? Вот то-то…
И почти каждая такая тирада заканчивалась стереотипной фразой:
– Мы коммунисты!
„Кто же они, эти люди? – думал я, ворочаясь в постели. – Спекулянты? Мошенники? Или, может быть, взаправду партийцы новой формации?…“
* * *
Я о многом размышлял в эту пору – о себе, об окружающем мире. Чем больше я приглядывался к миру, тем отчетливее убеждался в том, что он нечист и лишен справедливости. Он создан не для слабых людей. В нем царят все те же уголовные правила; свирепые лагерные законы!
Времени для всех этих мыслей у меня было достаточно. Я жил тогда в одиночестве, друзей и знакомых не было. Родственники почти все находились в эвакуации, далеко от Москвы. А мать, походив ко мне с недельку и успокоясь, опять, как обычно, исчезла и занялась своими делами.
Я отлеживался в одиночестве, поправляясь. Рылся в книгах, размышлял о прожитом, сочинял стихи…
С семьей Ягудаса я почти не общался. Одна лишь дочка его – девятилетняя Наташа – изредка забредала в мою комнату.
– Ты почему все время лежишь? – удивленно и жалостно допытывалась она. – Ты – больной?
– Да нет, – говорил я, откладывая книгу и улыбаясь, – теперь уже почти нет…
В другой раз она спросила:
– Дядя, ты – темный?
– Как, то есть, темный? – не понял я.
– Ну, темный человек. Так все говорят.
– Кто это – все?
– Папа, мама, бабушка – все. Говорят, ты – темный. И этот… Как же? Погоди… – она умолкла, помаргивая, и затем с усилием выговорила: – Ка-тор-жник!
– Вот как? – нахмурился я. – А о чем еще они говорят?
– Еще о жилплощади.
В эту секунду дверь скрипнула и приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулось трясущееся лицо старухи.
– Наташка! – прокричала она хриплым басом. – Ты что это, подлая, шляешься тут, покою людям не даешь? А ну, марш сюда! Ах ты, негодница, чтоб тебя громом разорвало!
Поздним вечером (я уже раздевался, готовился ко сну) в дверь постучали. „Ягудас, – решил я, – пришел, наверное, оправдываться. Девчонка проболталась – теперь ему неловко… Будет хитрить, изворачиваться. Что ж, ладно. Потолкуем“.
Но это оказался не Ягудас.
В полутемной прихожей стоял почтальон. Он извлек из сумки плотный белый конверт, протянул его мне и сказал:
– Распишитесь в получении!
– Что это? – спросил я озадаченно.
– Повестка из военкомата.








