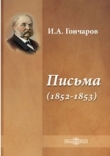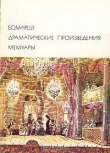Текст книги "Пьер-Огюстен Бомарше. Его жизнь и литературная деятельность"
Автор книги: Михаил Барро
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Глава III. Бомарше и Пари-Дювернэ
Происхождение и значение Дювернэ. – Причина знакомства его с Бомарше. – Бомарше – компаньон Дювернэ. – Бомарше – секретарь короля. – Новые поиски лучшего. – Отказ Карона-отца от торговли. – Столкновение сына с надзирателями вод и лесов. – Бомарше – генерал-лейтенант королевской охоты. – Бомарше и Клавиго. – Успехи Бомарше в Испании и его проекты.
Жизнь Бомарше очень рано и навсегда складывается таким образом, что улыбки судьбы постоянно сменяются для него тяжелыми ударами. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что Франция XVIII века – царство личного усмотрения и протекции… В то время, как Бомарше в поэме «Оптимизм» делал сатирический обзор Европы, другой человек тоже присматривался к своим современникам с беспокойной мыслью, где бы отыскать нужного проворного помощника. Этим человеком был Пари-Дювернэ. Один из четырех сыновей трактирщика в провинции Дофинэ, Пари-Дювернэ, как и его братья, без сомнения, всеми правдами и неправдами, сделался миллионером. Французское дворянство теряло в эту пору, вместе с деньгами и поместьями, свое прежнее влияние. При королевском дворе начинают появляться люди темного происхождения, но с туго набитыми кошельками. «Братья Пари, – писала в 1743 году мадам Тенсен герцогу Ришелье, – должны быть приняты во внимание. У них много друзей, всевозможные ходы и выходы и много денег для оплаты этих ходов и выходов. Подумайте после этого, сколько могут они сделать добра и зла». Мнимый родственник мнимого аббата Арпажона, маршал де Ноайль презрительно называл Пари-Дювернэ генералом от муки (le général des farines), намекая на его аферы с поставками продовольствия войскам, зато маршал де Сакс считал миллионера более сведущим в политике и военном деле, чем де Ноайль…
На старости лет, скучая среди груд золота, Дювернэ сделался распространителем образования. Благодаря королевской наперснице Помпадур он получил разрешение основать военную школу. Постройка была затеяна на широкую ногу и через девять лет после королевского разрешения, в 1760 году, все еще не была окончена. Но Дювернэ уже вербовал молодых людей, первых учеников своей школы; одно не давалось ему, несмотря на все его влияние и щедро рассыпаемые деньги. Богач добивался, чтобы король посетил его сооружение, однако, без всякого успеха. Как вдруг его осенила счастливая мысль, что не удающееся ему, миллионеру, может удаться бедному, но обретающемуся в фаворе арфисту Бомарше. А наш пессимист, конечно, только и ждал какого-нибудь «движения воды», чтобы расправить свои крылья. Он сейчас же откликнулся на зов Дювернэ, и не успел богач изложить ему суть своих желаний и наград за их исполнение, как военную школу уже посетили mesdames de France, в сопровождении своего любимца, а затем и сам Людовик. Богатый старик был вне себя от радости, но не меньше была и радость Бомарше. Из бедняка, изнывающего на побегушках, он вдруг сделался богатым человеком, финансистом и компаньоном миллионера Дювернэ. «Дювернэ, – писал Бомарше, – ввел меня в финансовую сферу, где, как известно, был первым человеком. Я зарабатывал свое состояние под его руководством, по его совету я сделал несколько предприятий: в одних он снабжал меня своим опытом, в других – своими деньгами и кредитом». Но не одних денег хотелось Бомарше; пример Дювернэ и других красноречиво говорил ему, что во Франции нужно еще другое для полного успеха: приобрести себе так называемую savonnette à vilain (купленный дворянский чин). Для этого требовались деньги, но здесь уже не было остановок для близкого друга Дювернэ, – мешали торговля и профессия отца.
«Если бы я имел свободу, – писал Бомарше к своему отцу 2 января 1761 года, – выбирать желательный для меня новогодний подарок от вас, я больше всего хотел бы, чтобы вы вспомнили обещание переменить свое звание. Дело, конец которого я подготовляю, может встретить только одно затруднение, вашу лавку, так как вы говорите о ней публике своей вывеской. Я не думаю, что вы откажете мне в этой милости, для вас безразличной, но способной все переменить в моей судьбе вследствие глупой манеры смотреть на вещи в этой стране. Не имея силы переменить предрассудок, я должен покориться ему, так как у меня нет другого пути к возвышению, чего я так желаю для нашего общего счастия и для счастия всей моей семьи…»
Без сомнения, не уважение к «прекрасной профессии» часовщика заставляло Карона-отца откладывать исполнение своего «обещания». Он поступал таким образом вследствие свойственного старым людям консерватизма, боязни риска на склоне лет, вследствие неуверенности, увенчаются ли еще успехом самолюбивые мечтания молодого человека. Но имя покровителя, Пари-Дювернэ, было слишком красноречиво, и старик сдался наконец на просьбы сына. Последовавшие обстоятельства не замедлили оправдать это решение. 9 декабря 1761 года королевским указом Бомарше был утвержден в звании секретаря Его Величества. Savonnette à vilain досталась-таки пронырливому арфисту, еще раз потревожив желчь его противников. Вскоре, однако, этой желчи пришлось волноваться еще сильнее. Не успел Бомарше сделаться королевским секретарем, так сказать, отмыться от своего мещанства, как новая, еще более заманчивая перспектива открылась перед его глазами. Смерть очистила весьма доходную и не менее благородную должность главного смотрителя вод и лесов. Надзор за лесами и водами всей Франции распределялся между восемнадцатью департаментами, о доходах же чиновников этого ведомства можно судить по тому, что должность главного надзирателя оценивалась в 500 000 ливров. Уплату этой суммы обещал Пари-Дювернэ. Он был уверен, что Бомарше вернёт ее, если займется поставками для армии, добыть которые всецело зависело от того же Дювернэ. Оставалось только заручиться согласием короля. Все было пущено для этого в ход, содействие mesdames de France, личные связи Дювернэ; но и враги Бомарше не дремали, особенно те, к кому он метил в коллеги, другие надзиратели вод и лесов. Они указывали, главным образом, на неблагородное происхождение претендента: коллега из мещан заранее оскорблял занимаемые ими посты… Можно себе представить волнение Бомарше, только что заручившегося желанным «мылом»!.. Кто такие сами господа надзиратели вод и лесов, в должном ли порядке их собственные родословные?.. Над разрешением этого вопроса блестяще и ехидно потрудился находчивый секретарь Его Величества.
«Мой характер, мое положение, мои принципы, – писал он к министру, узнав о происках своих врагов, – не позволяют мне разыгрывать гнусную роль доносчика, еще менее стремиться унизить людей, собратом которых я намерен сделаться. Но я вправе, кажется, не оскорбляя ничьей деликатности, обратить против моего противника оружие, которым он хочет поразить меня. Главные надзиратели не позволяют мне ознакомиться с их заявлениями. Это – нехороший прием, и этот прием обнаруживает их боязнь, что я отвечу им на основании фактов. Но я слышал, что они указывают на моего отца, который был ремесленником, и находят, что, как бы ни был человек знаменит в этой профессии, его звание несовместимо с почетною должностью главного надзирателя. Мой ответ на это – обозрение фамилий и прежних занятий некоторых из главных надзирателей, для чего у меня имеются весьма точные данные. Пункт первый, – г-н Дарбонн, орлеанский главный надзиратель и один из моих самых горячих противников, на самом деле Герве. Он – сын парикмахера Герве. Я могу назвать десяток лиц еще живых, которым этот Герве продавал и приготовлял парики. Однако же Герве-Дарбонна приняли в число главных надзирателей без оппозиции, хотя в своей молодости он, может быть, шел по стопам своего отца. Пункт второй, – г-н Маризи, занявший место бургонского главного надзирателя тому назад пять или шесть лет, назывался Леграном. Он сын Леграна, который трепал лен в предместье Сен-Марсо, а потом снимал лавку на Лаврентьевской ярмарке, где и сколотил кое-какое состояние. Его сын женился на дочери Лафонтена-Селлье, принял имя Маризи и был допущен в главные надзиратели без оппозиции. Пункт третий, – г-н Телец, шалонский главный надзиратель, сын еврея Телеца Дакосты, сперва ювелира-старьевщика, а потом, благодаря Пари, богатого человека. Он был принят без оппозиции, но потом исключен, так как будто бы опять взялся за ремесло отца, чего я не знаю. Пункт четвертый, – г-н Дювосель, парижский главный надзиратель, сын пуговичника, был подмастерьем у своего брата на Железной улице, компаньоном его же и наконец сам держал лавку. Г-н Дювосель не встретил никакого препятствия принятию его в надзиратели…»
Весь этот ехидный розыск не принес, однако, пользы Бомарше. Хлопоты его врагов увенчались успехом, и вакантная должность была замещена другим лицом, более высокородным, чем сын часовщика. Но не погибло и «дело», о котором писал Бомарше своему отцу. Секретарь Его Величества все-таки протерся в высшие ряды французской администрации. Он купил себе должность генерал-лейтенанта королевской охоты в луврских уездах и округах. Старше Бомарше в этом капитанстве, – так называлась территория, предназначенная для королевской охоты, – был один лишь герцог Лавальер, зато и подчиненные его были не менее сановиты: Рошшуар и Маркувиль – оба графского достоинства. Это обстоятельство, надо думать, несколько смягчало негодование Бомарше при мысли об оппозиции господ главных надзирателей вод и лесов. Сама должность генерал-лейтенанта королевской охоты едва ли была ему по душе, роль судьи нарушителей прав венценосного охотника часто вызывает у него саркастические замечания.
Герцог Лавальер почти совсем не вмешивался в дела капитанства, так что Бомарше являлся фактически главным блюстителем королевских интересов. Охраной этих последних заведовал особый трибунал, «трибунал-охранитель удовольствий короля» (tribunal conservateur des plaisirs du roi). Заседания этого судилища происходили каждую неделю под председательством Бомарше в длинном платье юриста, сидящим на кресле с белыми лилиями. Будущий автор «Севильского цирюльника» судил здесь, по его собственному выражению, не только «бледное человечество», но и «бледных кроликов». Бледные кролики, конечно, были безответны, но бледное человечество (чаще всего – увлекающиеся родовитые охотники) нелегко мирилось с обвинительными приговорами Бомарше и никогда не упускало случая насолить своему Соломону, хотя бы и задним числом. В должности генерал-лейтенанта королевской охоты Бомарше пробыл десять лет, с 1763 года по 1773-й, с перерывом на целый год. В 1764 году старик Карон получил из Мадрида известие, что предполагаемый жених его дочери Лизетты, Жозеф Клавиго, вдруг отказался от своей невесты, как только заручился местом королевского архивариуса. В Мадриде многие знали будто бы о Клавиго как будущем муже девицы Карон, так что отказ испанца являлся оскорблением девичьей чести последней. Это обстоятельство и было причиной перерыва в деятельности Бомарше в качестве охранителя королевских потех, причиной его путешествия в Испанию. Так объясняется это самим писателем в четвертом мемуаре против Гезмана, так же изображен Бомарше в драме Гёте «Клавиго»: Бомарше – восстановитель чести сестры. Гете написал свою драму, руководясь названным мемуаром. Он был знаком с испанскими приключениями Бомарше под пером того же Бомарше, но другие документы проливают на эту историю совершенно иное освещение или два освещения одновременно… Надо заметить, что оскорбленная девица Карон значительно приукрашена в данном случае. Невинной жертве Клавиго было в это время тридцать три года, т. е. гораздо больше, чем самому Бомарше и даже Клавиго. Гораздо правдоподобнее поэтому допустить, что жертвой был «вероломный» жених, а не наоборот, хотя и Клавиго во всей этой истории не является вполне безукоризненным человеком. Но если допустить даже, что девица Карон, которой тринадцатилетний брат смело расписывал о «товарище другого пола», в тридцать три года оказывалась какой-то наивной институткой, а Бомарше ехал в Испанию восстанавливать ее честь, впрочем, с некоторым сомнением в правдивости мадридских корреспонденток, то зачем понадобились оскорбленному брату 200 тысяч франков Пари-Дювернэ, а он действительно захватил эти тысячи? Ответом на это может служить хронологическая справка: Бомарше пробыл в Испании двенадцать месяцев, тогда как инцидент с Клавиго был улажен в течение одного. Взволнованный мститель за честь сестры приехал в Мадрид 18 мая, 19-го он заставил Клавиго подписать свидетельство о добром поведении девицы Карон и вероломстве ее жениха, и после нескольких дней колебаний с обеих сторон, со стороны Клавиго – готовности жениться или нет на Лизетте, со стороны Бомарше – желания отомстить «злодею» или простить, 18 июня 1764 года в семье Каронов не было уже речи о пресловутой свадьбе, а в королевском архиве не было уже бывшего архивариуса дона Жозефа Клавиго. Бомарше восстановил честь своей сестры, добился наказания ее оскорбителя и затем… надолго остался в Испании.
Все это время, одиннадцать месяцев, он вращается в высшем мадридском обществе, совершенно как равный с равными. У графа Бутурлина, русского посланника, он играет в карты и с большим достоинством требует от него выигранные, но неуплачиваемые деньги. Еще ближе стоял он к графине, даже воспевшей его в стихах. В графских салонах устраивались музыкальные вечера, и Бомарше пел на них и сочинял для них песни на манер испанских сегидилий, там же ставили оперу Руссо «Le devin du village»[5]5
«Деревенский колдун» (фр.)
[Закрыть], причем Бомарше играл Любена, а Бутурлина – Аннету. То же расположение и восхищение питал к нему английский посланник лорд Рошфорд… Все письма Бомарше из Испании проникнуты неподражаемым весельем и необыкновенной бодростью; о Клавиго говорится в них только вначале, в виде довольно сухого сравнительно отчета старику Карону. Но не веселье занимало на самом деле французского путешественника: он предавался веселью только в виде отдыха, не без задней мысли, что все эти посланники и их гости – нужные люди, с которыми необходимо ладить. Остальную часть времени Бомарше посвящал деловым хлопотам. Беззаботный, заразительно веселый собеседник в салонах, он сочинял у себя дома проект за проектом в расчете на податливость испанского правительства. Здесь не в первый и не в последний раз опять раскрывается «эластическая» натура Бомарше, девиз его деятельности, если не совсем, то очень близко определяющийся словами ubi bene ibi patria[6]6
где хорошо, там и родина (лат.)
[Закрыть], немножко в стиле русской пословицы – где кисель, там и сел. Он состоял в это время в переписке с Вольтером, и когда Вольтер спросил его, как он находит Испанию, он ответил, что сказать это можно, только уехав из Испании. Несмотря на это, он льстил и заискивал перед испанским правительством, и даже больше – он хотел взять концессию на то, что бичевал в своей поэме «Оптимизм», и предлагал основать общество для снабжения невольниками испанских плантаторов в Америке. Другой его проект – образование французской торговой компании наподобие Ост-Индской, с монопольным правом торговли в Луизиане, третий – колонизация Сьерры-Морены, четвертый – проект мер для поднятия в Испании земледелия, промышленности и торговли, и, наконец, пятый – план снабжения провиантом испанской армии…
Не одна жажда наживы руководила прожектерством Бомарше. Это прожектерство было потребностью для его могучей натуры, как сильные движения для здорового организма. Своей неутомимой энергией и широтою замыслов он напоминает знаменитых завоевателей, мечтавших о царстве от моря до моря, людей, которых Альфиери называет за грандиозные порывы их духа – людьми-растениями. Бомарше был одним из таких людей-растений. «В конце концов, – писал он отцу из Мадрида, – ты меня знаешь, любезный батюшка. Моей голове не чуждо ничто из самого широкого и возвышенного: она одна понимает и охватывает то, что заставит отступить дюжину обыкновенных и неподвижных умов…» Но и дюжина обыкновенных умов способна побеждать один необыкновенный; Бомарше так и уехал из Испании, не добившись осуществления ни одного из своих проектов.
Глава IV. «Евгения» и «Два друга»
Причины драматических попыток Бомарше: его характер, сочувствие к несчастным, влияние Дидро. – Предисловие к «Евгении». – Общественное значение сентиментализма. – Сюжет «Евгении». – Цензурные затруднения. – Старания Бомарше заручиться успехом. – Первое представление «Евгении». – «Евгения» за границей Франции. – Вторая драма Бомарше. – Ее сюжет и представление. – Автобиографическое значение «Двух друзей». – Бомарше и Полина. – Вторая женитьба его. – Душевное спокойствие накануне бури.
На литературном поприще будущий автор заразительно веселых и остроумных комедий «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро» Бомарше выступает сначала с сентиментальными драмами «Евгения» и «Два друга». Три причины вызывают этот несколько странный литературный дебют, странный, конечно, теперь, при возможности ретроспективного взгляда на деятельность писателя… В семье Каронов все, от мала до велика, чрезвычайно увлекались сентиментальною литературой. Старик Карон даже сравнивал своего сына с героем ричардсоновского романа Грандисоном. «В каких только случаях, – писал он, – не нахожу я верного и благородного сходства между Грандисоном и моим сыном! Отец своих сестер, друг и благодетель своего отца, если Англия, говорю я себе, имеет своего Грандисона, у Франции есть свой Бомарше. Разница лишь в том, что английский герой – только фикция нежного писателя, а французский Бомарше существует на самом деле»…
Это было написано в 1764 году, и как раз в эту эпоху происходила черновая работа писателя над драмой «Евгения». Чувствительное настроение автора пронизало и его произведение, личная склонность к сентиментальности намечала сюжет и его развитие. Таким образом, первая причина драматических опытов Бомарше – личная склонность самого драматурга. Эта склонность была наследственною чертою Каронов, лишь сильнее подчеркнутою в знаменитом представителе этой фамилии. Бомарше никогда не терял этой особенности. Все проявления души всегда получают у него необыкновенное напряжение: его веселье заразительно, его ирония убийственна, мизантропия мрачна до отчаяния, жизнерадостную улыбку сейчас же готовы смыть с его лица неудержимые слезы. Можно думать, что эта быстрая смена ощущений одинаково сильных и глубоких – особенность гениальных людей; расчетливый, как математик, полководец Наполеон не чужд был внезапным приступам плаксивости.
Вторая причина драматических попыток Бомарше – в близком родстве с его пессимизмом, страдание добродетели и торжество порока. Сыну часовщика, как и сыну обойщика Мольеру, лучше других известны были и это страдание, и это торжество; он мог бы насчитать не один десяток Евгений, униженных без отмщения, и как только их образы появляются в его воображении, слезы блестят на его глазах… Но первая и третья причина – вот где главные двигатели Бомарше-драматурга. Драма была новостью во Франции XVIII века, она пришла на смену трагедии и комедии; Дидро, по выражению Ломени, был ее Колумбом, а Бомарше потянуло на роль Веспуччи. Его всегда увлекало все новое, неизведанное: знакомство с испанскими сегидильями и интермедиями сейчас же делает его автором и тех, и других, знакомство с драмами Дидро «Побочный сын» (Fils naturel) и «Отец семейства» (Pére de famille) превращают его в драматурга. Таким образом, увлечение новым – третья причина первых дебютов Бомарше.
Драматическая поэтика Бомарше отмечена влиянием времени. Литературное движение, породившее драму, не исчерпывалось одним желанием новаторов создать новую художественную форму. В XVIII веке, по крайней мере на европейском Западе, совершается великий социальный процесс: на арену деятельности, влияющей и руководящей, вступают или стремятся вступить новые сословия. Литературе поэтому могло грозить забвение и ненужность, если бы она упустила это движение. Но она слишком повинна была в его возникновении, чтобы не взлелеять его первых ростков и не дать этим росткам потребной для них пищи. Таким образом, сложилась драма, которую Дидро называет домашней или мещанской, литературное отражение интересов и стремлений более широкого общественного круга. Этот же мотив слышится и в предисловии Бомарше. Чем вызывается, спрашивает он, интерес, возбуждаемый в нас царями и героями трагедии? «Мы любим, – по его мнению, – роль сочувствующих несчастному принцу, потому что его горести, слезы и слабости как бы приближают его положение к нашему. Но если наше сердце имеет какое-нибудь значение в нашем интересе к героям трагедии, то гораздо менее потому, что они герои или короли, но потому, что они – люди и несчастные». Одним словом, автор «Евгении» требует от драмы верного изображения жизни со всеми ее дурными и хорошими сторонами и, что особенно характерно, – нравоучения, урока.
«Неизбежные удары судьбы, – говорит он о трагедии древних, – не дают уму никакого нравственного направления. Если можно извлечь из зрелища подобного рода какое-нибудь назидание, это назидание было бы ужасно. Оно увлекло бы на путь преступлений столько же душ, для которых судьба была бы оправданием, сколько пошатнула бы их на пути добродетели, так как при этой системе все усилия последних не гарантируются ничем. Если нет добродетели без жертв, то нет и жертвы без надежды на вознаграждение. Фатализм принижает человека, отнимая у него свободу, вне которой нет никакой нравственности в поступках».
Эту тенденцию Бомарше к морализированию в литературе также можно рассматривать как знамение времени. Когда в обществе создается потребность новых социальных форм, накануне революции оно всегда обнаруживает этот запрос на личную нравственность и на средства создания этой нравственности.
Сюжет «Евгении» в основных чертах Бомарше заимствовал из «Хромого беса» Лесажа. Дочь валлийского дворянина Евгения страстно влюбляется в лорда Кларендона, а этот лорд Кларендон фиктивно женится на ней, переодев священником своего управляющего. Он готовится на самом деле вступить в другой, более выгодный брак, и с этого именно начинается драма: беременная Евгения приезжает в Лондон в полной уверенности, что она законная жена лорда Кларендона, отца ее ребенка. Вид обманутой девушки так поражает вероломного аристократа, что он решается жениться на ней уже по закону, – таково заключение драмы. До представления в цензуру «Евгения» носила совсем другой колорит, лорд Кларендон назывался маркизом Розампре, сыном военного министра, а его жертва, героиня драмы, – дочерью бретонского дворянина Кербалека. Французский пейзаж и французские имена не получили, однако, цензурной санкции, и Бомарше пришлось умерить оппозиционный характер своей драмы и придать ей английский couleur locale[7]7
местный колорит (фр.)
[Закрыть]. В таком виде «Евгения» была поставлена на сцене «Французской комедии», в первый раз – 29 января 1767 года. Как и в роли часовщика-изобретателя, драматург-новатор Бомарше не упустил случая подогреть общественное внимание и таким образом обеспечить успех своего произведения. Он старался заинтересовать своей драмой и своих покровительниц – mesdames de France, и семейство маршала де Ноайля, и влиятельного члена французской Академии, герцога де Нивернуа, а бесплатным билетом на первое представление пытался расположить в свою пользу сурового критика Фрерона. Герцог де Нивернуа, познакомившись с рукописью «Евгении», сделал автору много дельных замечаний по поводу усмотренных недостатков; что касается Фрерона, то он разгадал маневр Бомарше и отказался от бесплатного билета. Это не помешало ему дать о драме вполне беспристрастный отзыв с указанием как ее недостатков, так и достоинств. Совсем иначе отнесся к «Евгении» и ее автору известный Грим. «Это произведение, – писал он, – первый опыт г-на Бомарше на сцене и в литературе. Г-н Бомарше, как говорят, человек лет сорока (на самом деле – тридцати пяти – Авт.), богач, обладатель придворной должности, до сих пор джентльмен, а теперь некстати забравший в голову фантазию сделаться автором…»
Первое представление «Евгении» было неудачным, ее длинноты расхолаживали зрителей; но когда автор исправил эти недостатки ко второму представлению, драма имела полный и долго повторявшийся потом успех. Она пользовалась этим успехом не только во Франции, но и за границей: в Германии, Англии и даже России. В Англии она игралась отчасти в переводе, отчасти в переделке, под измененным названием «Школа развратников» (The school for Rakes). «„Школа развратников“, – писал об этом Бомарше знаменитый Гаррик, – скорее подражание, чем перевод вашей „Евгении“, – написана дамой, которой я рекомендовал вашу драму. Эта драма доставила мне величайшее удовольствие, и я думал, что из нее может быть сделана пьеса специально для английской публики. Я не ошибся, с моей помощью наша „Евгения“ постоянно заслуживала аплодисменты многочисленных зрителей». На русский язык, к великой досаде Сумарокова, драма Бомарше была переведена Николаем Пушниковым и ставилась в Москве с феноменальным успехом с Дмитревским в роли Кларендона. Русское общество, как и французское, тоже переживало в эту пору полосу сентиментальности, заставлявшей потом читателей «Бедной Лизы» проливать горькие слезы, так что «Евгения» Бомарше оказывалась как нельзя более кстати. В техническом отношении эта драма написана чрезвычайно ловко, она сразу захватывает зрителя своим интересом, не ослабевающим до конца. Гораздо менее удовлетворяет она строгому разбору с психологической точки зрения. Примирение Евгении с развратным лордом, разыгравшим гнусную комедию фиктивного бракосочетания, производит впечатление неестественности и умаляет трогательный образ героини. Сюжет второй своей драмы «Два друга» Бомарше взял из мира финансистов. Здесь отразилось его собственное увлечение коммерческими предприятиями и, вероятно, всеобщее внимание к финансам страны, которым отмечена Франция XVIII века. Главные герои Меляк и Орелли, первый – сборщик откупов, второй – лионский негоциант. Орелли нужно платить по счетам, но деньги, ожидаемые им из Парижа, запаздывают, и его делу грозит крушение. Негоцианта спасает Меляк: добродетельный сборщик тайком переводит в кассу Орелли деньги, собранные с аренд и откупов. Узел драмы завязывается приездом ревизора. Ревизор требует отчета от Меляка, а тот затягивает дело, не желая прослыть вором и в то же время обнаружить временную несостоятельность Орелли и свою добродетельную проделку. Наконец все разъясняется и улаживается при посредстве того же ревизора, тоже добродетельного человека… Как ни силен был в ту пору интерес французов к финансовым сферам, «Два друга» не имели на сцене никакого успеха. Бомарше упустил из виду, что не механизм коммерческих сделок вызывал внимание французского общества, а отражение этих сделок на интересах страны. Чтобы несколько сгладить деловую сухость драмы, он ввел в нее романический эпизод, любовь Меляка-сына к Полине, племяннице Орелли. Но драма все-таки не имела успеха. «Гораздо лучше было бы, – писал по этому поводу Грим, – заниматься изготовлением хороших часов, чем покупать придворную должность, блистать хвастливостью и сочинять негодные пьесы». Современные остряки также прохаживались по адресу драматурга. «Два друга» были поставлены 13 января 1770 года и едва дотянули до десятого представления. Вот что говорили об этом куплетисты:
Я драму Бомарше видал
И в паре слов скажу, какая это пьеса:
В меняльной лавочке гремит златой металл,
Не возбуждая интереса.
В романическом эпизоде Меляка-сына и Полины отразился такой же эпизод из жизни самого писателя. Молодой Меляк, любитель музыки, – это сам Бомарше, а Полина – существовавшая в действительности и под тем же именем молодая девица, одно время невеста Бомарше. Их знакомство завязывается в 1760 году. Полина, – из боязни обидеть в 1853 году (!) вероятных родственников этой особы щепетильный Ломени не дает ее фамилии, – была родом креолка с острова Сан-Доминго. Она воспитывалась в Париже под присмотром тетки, отличалась прелестною фигурой и была к тому же наследницей большого имения в Капе стоимостью в два миллиона, но разоренного и обремененного долгами. Неизвестно, при каких обстоятельствах началось знакомство Полины с семьей Каронов, но во время испанских приключений Бомарше она считалась уже невестой этого последнего и, судя по его письмам, была серьезно влюблена в него. Свадьба откладывалась только вследствие желания Бомарше устроить дела своей невесты. Он чрезвычайно много хлопотал об этом и послал в Сан-Доминго одного из своих родственников, снабдив его деньгами, всевозможными припасами и рекомендациями от mesdames de France к губернатору острова… Однако история с Полиной закончилась совершенно не так, как можно было ожидать по ее началу. В 1766 году молодая креолка вдруг охладела к своему жениху и потом вышла замуж за другого. Судя по раздражению, которым проникнуты в это время письма Бомарше, он действительно любил Полину, хотя беззаветное увлечение не вязалось с его неустойчивой натурой. Любовь слишком соединялась у него с расчетом, страстное увлечение сменялось почти равнодушием и холодностью. Но он все-таки любил Полину… У великих художников глубоко увлекавшие их женщины всегда оставляют след в произведениях как доказательство очарования, которое они производили на писателей. Такова Татьяна Пушкина, долгий спутник души поэта, вырывающий у него грустное восклицание:
А ты, с которой образован
Татьяны милый идеал, —
О много, много рок отъял!
Полина не так долго, но все-таки сопутствует Бомарше-художнику. Ее имя связано с «Двумя друзьями», оно же стоит вместо Розины в первых набросках «Севильского цирюльника»…
Период драматических опытов – пожалуй, единственная мирная полоса в полной треволнений жизни Бомарше. В 1768 году в апреле он женился на молодой вдове Женевьеве Левек, удвоив ее приданым свое благополучие. При помощи Пари-Дювернэ он купил в это время у государства громадный Шиннонский лес и с увлечением занимался торговлей тесом и бревнами. Безмятежное спокойствие едва ли не в первый раз водворяется в его душе.
«Я живу, – писал он жене из Риварена вблизи своего леса, – в конторе, на ферме, настоящей крестьянской, между птичником и огородом, у живого забора. Моя комната, вместо обоев, с белыми стенами, меблирована скверной кроватью, на которой я сплю, как убитый, четырьмя соломенными стульями, дубовым столом и большим камином без всяких приспособлений. Зато в то время, как пишу тебе, я вижу из окна покрытые лугами склоны возвышенности, на которой живу. Коренастые и загорелые мужики косят траву и нагружают ее на возы, запряженные волами; толпа женщин и девушек, с граблями в руках или на плечах, за работой наполняют воздух пронзительными песнями; они доносятся до моего стола; за деревьями, в отдалении, я вижу извилистое течение Индра и древний замок с башнями моей соседки, госпожи Ронсе. Надо всем господствуют вековые вершины деревьев, насколько хватает глаз все гуще и гуще до склонов гор, окружающих нас и, как кольцом, замыкающих наш горизонт. Эта картина не лишена очаровательности. Большой кусок хлеба, более чем простое кушанье, плохое вино составляют мой завтрак. Говоря правду, если бы я позволил себе пожелать тебе неудобства, недостатка во всем, я пожалел бы, что тебя нет около меня. Прощай, моя милая».