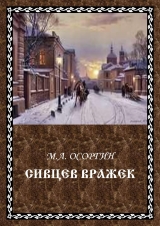
Текст книги "Сивцев Вражек"
Автор книги: Михаил Осоргин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
СМЕРТЬ
В подполе огромное событие: старая крыса не вернулась. Как ни была она слаба, все же ночами протискивалась в кладовую через отверстие, прогрызенное еще мышиным поколением, теперь совершенно исчезнувшим из подполья.
В кладовой стояли сундуки, детская колясочка, были грудой навалены связки старых газет и журналов,– поживы никакой. Но рядом, через коридор, была кухня, под дверь которой пролезть не так трудно. В другие комнаты, особенно в ту, большую, крыса не ходила, помня, как однажды уже попала в лапы кошке. На заре старая крыса подполья не вернулась. Но чуткое ухо молодых слышало ночью ее визг.
Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:
– Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.
Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом – заела век молодых.
К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитриевны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивленными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.
Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть,– и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.
По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитушке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обиженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле, едином-бессмертном, зачалась новая суетливая работа.
У постели Аглаи Дмитриевны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.
Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Сивцевом Вражке. В остальном мире было все благополучно: хотя тоже пресеклись жизни, рождались существа, осыпались горы,– но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.
Только здесь было настоящее:
Бабушка умерла любимой.
...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйа... [10]10
Земнии убо от земли создахомся...– фрагмент надгробной молитвы «Сам Един есй Бессмертный сотворйвый и создавый человека.,.» (Псалтирь. Последование по исходе души от тела. Песнь 6. Икос.).
[Закрыть]
НОЧЬ
Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.
В кресле, удобно просиженном, в ореоле седин, затененных от лампы,– и тихо-тихо кругом, от здешней думы до границ Мира,– сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитриевна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.
Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит в глубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, вновь перечтет написанное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой,– и все не дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, конечно, в соединение в новом бытии,– да и не нужно оно. А в небытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы – и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты – и в прах возвратишься.
Стены книг и полки писаний,– все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда "она" позовет. И видит ее молоденькой девушкой,– ямочкой на щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:
– Обойдите кругом, нельзя мять! А я, так и быть, подожду.
И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем – не светом ли солнечным так запомнилось?
И вместе шли – и пришли. Но теперь не подождала – ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...
Вошла Танюша в халатике и спальных туфлях. Нынче ночью не спят. Ночная птица над домом огородила деда и внучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль не спит.
– Без бабушки будем теперь жить, Танюша. А привыкли жить с бабушкой. Трудно будет.
Танюша у ног, на скамеечке, головой у дедушки на коленях. Мягкие косы не заколола, оставила по плечам.
– Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к нам с тобой добрая. Бабушка наша; бедная.
И долго сидят, уже выплакались за день.
– Спать-то не выходит, Танюша?
– Мне, дедушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы не спите... А если приляжете, хоть на диван, я все равно около посижу. Прилегли бы.
– Прилягу; а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.
И опять долго молчат. Этого не скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносится журчанье словесных монахини струй,– видят и свечи, и гроб, и дальше ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темной парчой,– и вокруг пламенем дрожащие свечи.
Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящий хаос звуков, простую, удобную непонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний,– и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а не в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери – усмешка, и щелкает счетчик турникета.
Вот и все.
Сна нет, но нет и ясности образов. Между сном и несном слышит старик девичий голос по ту сторону последней двери:
– Я подожду здесь...
Пойти бы прямо за ней, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где она ждет, протянув худые руки.
Открыл глаза – и встретил большие, вопрошающие лучи-глаза Танюши:
– Дедушка, лягте, отдохните!
САПОГИ
Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед ним на лавке.
Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были не сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей неимоверным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Роман в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову и замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай знал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот, сапоги Романовой работы кончились.
Не то чтобы кончились они совсем нежданно. Нет, признаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков и две подошвы переменил на них Николай. Были на обеих ногах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизинце человека полагается быть мозоли. Одна заплата – от пореза сапога топором; Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплата на месте, протершемся от времени. И каблуки и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз он поставил Николаю на новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целость каблука на многие годы вперед. И в подошвы набил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной планке. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкими,– но с тех пор о сносе их Николай забыл думать.
И как это случилось – неизвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменить валенки на сапоги. Николай достал их из ящика близ печки, где они лежали, аккуратно с осени намазанные деревянным маслом, чтобы не треснула кожа. Достал – и увидал, что подошва на обеих ногах отстала, на одной совсем, на другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозная. Николай погнул подошву – и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут он увидал впервые, что и голенище так износилось, что просвечивает, а тыкнешь покрепче пальцем – получается горбик, и не выправляется.
Снес их к сапожнику, Романову наследнику, но наследнику мастерской, а не таланта. Тот, как увидал, поднеся к свету, сразу сказал, что больше чинить нечего, кожа не выдержит. Николай и сам видел это и никакой особенной надежды не питал.
– Значит – конченое дело?
– Да уж... и думать не стоит. Пора о новых подумать.
Николай вернулся с сапогами, положил их на лавку и не то чтобы загрустил, а крепко задумался.
Думал о сапогах и вообще – о непрочности земного. Если уж такая пара сносилась – что же вечно? Издали посмотрел – как будто прежние сапоги, и на ногу зайдут привычно и деловито. Ан нет – это уж не сапоги, а так, труха, не годная и на заплаты, не то что на дворницкую работу. А ведь будто и подкова не совсем стерлась, и гвоздь цел; внутри же и он ржавый.
Пуще всего поражали Николая внезапность происшедшей безнадежности. Ставя последнюю заплату, сапожник головой не качал, гибели не предсказывая, просто показал пальцем, что вот отсель и досель наложит, пришьет, края сгладит. Это была обычная починка, а не борьба с гибелью. Была бы борьба – и утрата была бы проще. А так – полная гибель пришла внезапно.
– Видать – внутре оно гнило. И гвозди проржавели, и кожа сопрела. А уж аккуратно. И, главное дело, работа не простая, а Романова, знаменитая. Ныне так не сошьют.
Пока заправлял в лампе фитиль, все думал, и не столько о том, что вот нужно новые шить, сколько о бренности земного. Кажется – ничем не сокрушишь, и снаружи все ладно. А пришел день, ветром дунуло, дождем промочило,– внутри труха, вот тебе и сапоги. И все так! И дом стоит, стоит – и упасть может. И с самим человеком то же самое.
Зашел повечеру соседний дворник, тоже уже пожилой, непризывной. Рассказал ему Николай о сапогах. Посмотрели их, поковыряли:
– Делать тут нечего. Новые надо. Выкладывай денежки. Сейчас такого товару и в заводе нет.
– Справлюсь. Не денег жалко – работы жалко. Работа была знаменитая.
Покурили. Сразу стало в дворницкой дымно, кисло и сытно.
– Тоже вот,– сказал Федор,– все дела сейчас непрочны. И тебе война, и тебе всякий непорядок. Нынче постовой докладывал: и что только делается! Завтрашний день, говорит, может, нас уберут. И на пост, говорит, никто не выйдем, будем дома сидеть, чай пить.
– Слыхал.
– А уж в Питере, говорит, что делается – и узнать нельзя. Может, и царя уберут. А как это без царя? Непонятное дело.
– Как же можно, чтобы царя отставить,– сказал Николай и опять посмотрел на сапоги,– не нами ставлен.
– Кто его знает, время нонче такое. И все от войны, от нее. Выходя из дворницкой, Федор еще раз ковырнул пальцем самый плохой сапог, покачал головой:
– Капут дело!
– Да уж сам вижу,– недовольно сказал Николай.
По уходе соседа, бросил сапоги в ящик и хмуро слышал, как стукнула подкова о дерево. Хорошо еще, что валенки были обшиты кожей. В сенях взял скребок и вышел на вечернюю работу.
«ПЛИ»
Вася Болтановский рано, в начале десятого, звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке. Отворила Дуняша с подоткнутым подолом и сказала:
– Барышня и барин в столовой. На ведро, барин, не наткнитесь, я полы мою.
Танюша встретила:
– Что случилось, Вася, что вы так рано? Хотите кофе? Ну, рассказывайте.
– Многое случилось. Здравствуйте, профессор. Поздравляю вас: революция!
Профессор поднял голову от книги.
– Что нового узнал, Вася? Газеты нынче опять не вышли?
Вася рассказал. Газеты потому не вышли, что редакторы все торговались с Мрозовским. И даже "Русские Ведомости" – это уж прямо позор! В Петербурге же переворот, власть в руках Думы, образовалось временное правительство, говорят даже, что царь отрекся от престола.
– Революция победила, профессор. Точные известия. Теперь уже окончательно.
– Ну, посмотрим... Не так все это просто, Вася.
И профессор опять углубился в свою книжку.
Танюша охотно согласилась пойти прогуляться по Москве. В эти дни дома не сиделось. Несмотря на еще ранний для Москвы час, на улицах народу было много, и видно – не занятого делами.
Танюша и Вася пошли бульварами до Тверской, по Тверской до городской думы. На площади стояла толпа, кучками, не мешая проезду; в толпе немало офицеров. В думе что-то происходило. Оказалось, что пройти туда было свободно.
В продолговатой зале за столом сидели люди, явно нездешние, не думские. От входящих требовали пропуск, но так как пропусков не было, то процеживали публику по простым словесным заявлениям. Вася сказал, что он "представитель прессы", а про Танюшу буркнул: "секретарь". Было ясно, что и за столом подбор лиц довольно случаен. Однако на вопрос: "Кто заседает?" – отвечали: "Совет рабочих депутатов". Совещание было не очень оживленным; какая-то растерянность сдерживала речи. Смелее других говорил солдат со стороны, которого, впрочем, также именовали "делегатом". Солдат сердито кричал:
– О чем говорить? Нужно не говорить, а действовать. Идем к казармам – и все. Увидите, что наши примкнут. Чего еще ждать! Привыкли вы в тылу зря разговаривать.
Вышли небольшой толпой. Но уже у самого входа она разрослась. Кто-то, забравшись повыше, говорил речь к публике, но слова доносились плохо. Чувствовалась обычная обывательская работа. Ободряло только присутствие нескольких солдат и офицера с пустым рукавом шинели. Небольшая группочка двинулась в направлении Театральной площади, за ней толпа. Сначала озирались по сторонам, не появятся ли конные, но не было видно даже ни одного городового. Толпа разрослась, и с Лубянской площади, по Лубянке и Сретенке, шло уже несколько тысяч человек. В отдельных группах затягивали "Марсельезу" и "Вы жертвою пали", но выходило нестройно; своего гимна у революции не было. Пришли к Сухаревке, но в виду Спасских казарм толпа опять поредела; говорили, что из казарм будут стрелять.
Вася и Танюша шли с передними. Было жутко и занятно.
– Вы, Таня, не боитесь?
– Не знаю. Я думаю – не будут. Ведь там уже знают, что в Петербурге революция победила.
– Почему же они не выходят, солдаты?
– Ну, вероятно, еще не решаются. А теперь, когда увидят народ, выйдут.
Ворота казарм были заперты, калитки отворены. Здесь чувствовалась нерешительность, а может быть, был отдан приказ – не раздражать толпы. Поговорили с часовым. К удивлению передних, часовые пропустили, и часть толпы, человек в двести, вошла во двор казарм. Остальные благоразумно остались за воротами.
Только несколько окон в казармах было отворено. В окнах видны были солдаты, в шинелях, с возбужденно любопытствующими лицами. Солдаты были заперты.
– Выходите, товарищи, в Петербурге революция. Царя свергли!
– Выходите, выходите!
Махали листками, пытались добросить листки до окон. Просили выслать офицеров для разговора. И, посылая солдатам дружеские и бодрые улыбки, сами не знали, с кем говорят: с врагами или с новыми друзьями. Боязливо порхало недоверие из окон и в окна.
Казармы молчали.
Подошли толпой к дверям. Внезапно двери распахнулись, и толпа отпрянула, увидав офицера в походной форме и целый взвод солдат, со штыками, занявший лестницу. Лица солдат были бледны; офицер стоял как каменный, не отвечая на вопросы, не произнося ни одного слова.
Было странно и нелепо. Шумной толпе позволяют кричать на дворе казарм, и кричать слова страшные, новые, бунтовские, соблазняющие – но солдаты не выходят. Из некоторых окон кричат:
– Заперты мы. Не можем выйти.
Из других доносятся скептические возгласы:
– Ладно, болтайте! Вот как разнесут вас пулеметами – вот вам и революция.
Как бы в ответ, из боковой двери, быстро, один за другим, винтовки на весу, выбежал взвод солдат и цепью стал против толпы. Командовал молоденький офицер. Было видно, как у него трясется подбородок. Солдатская молодежь была бледна и растерянна.
Почти в тот же момент раздалась команда:
– Пли!
И залп.
Танюша и Вася стояли впереди, прямо перед дулами ружей. Оба, ухватившись за руки, невольно отпрянули. С боков толпа рассыпалась и побежала к воротам. Кто были в центре,– попятились и прижались к стене.
– Пли! Пли! – еще два залпа.
Взволнованным, почти плачущим голосом, дрожа нервной дрожью, Вася бормотал, стараясь заслонить собой Танюшу:
– Танюша, Танюша, они стреляют, они стреляют в нас, в своих, не может быть, Танюша.
Бежать было некуда, либо убьют, либо случится чудо.
Когда залпы прекратились, Вася огляделся: ни стонов, ни раненых, ни мертвых. Была минута гробового молчания. Только от ворот доносились крики: там разбегался народ.
И вдруг – визгливый, тоненький голосок одного из мальчишек, которые всегда и всюду бегут перед толпой:
– Холостыми паляют, холостыми!
И, выскочив вперед, мальчишка стал кривляться перед солдатами:
– Холостыми, холостыми паляете!
Вслед за ними к солдатам подбежали несколько рабочих, стали хватать их за винтовки, спутали их цепь, что-то кричали им, в чем-то убеждали. Кое-как, повинуясь окрику офицера, те отбились от толпы и исчезли в подъезде.
Начался снова шум, крики в окнах, снова с улицы в ворота хлынула толпа.
– Выходите, товарищи, выходите к нам!
Танюша стояла, прижавшись к стене казармы, и дрожала. На глазах ее были слезы. Вася держал ее за руку:
– Танюша, милая, что же это такое! Какой ужас! Какой вздор! Как же это можно – сегодня стрелять. Правда, холостыми, но разве можно. В народ стрелять! Танюша!
Все еще дрожа, она потянула его за рукав:
– Вася, пойдем отсюда. Мне холодно.
Держась у стенки, они быстро вышли со двора казарм, миновали шумную толпу, молча, под ручку, дошли обратно до Сретенки и сели на первого встречного извозчика.
– На Сивцев Вражек.
Танюша вынула платок, вытерла глаза и, улыбнувшись, виновато взглянула на Васю:
– Не сердитесь, Вася.
– Да разве же я...
– Нет, а только я очень взволновалась. Я впервый раз...
– Я и сам расклеился, Танюша.
– Знаете, Вася, мне почему-то стало грустно-грустно. Мне не было страшно, даже когда они стреляли. Но у них такие несчастные лица, у солдат, что мне было жалко весь мир, Вася. Совсем не звери, а жалкие люди. И как стыдно...
– Они не виноваты, Таня.
– Я и не виню, но... как это ужасно, Вася, когда толпа и когда люди с ружьями. Я думала, что революция, это – героическое. А тут все боятся и не понимают...
И прибавила, помолчав:
– Знаете, Вася, мне не нравится ваша революция!
«ЧУДО»
Его ноги округлены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттерли до блеска все его медные части и номер. Он привез сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.
Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казенному встречают светские сестры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.
Старший врач сказал младшему врачу:
– Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!
Доктор хотел сказать: "этот человек", но не договорил: обрубок не был человеком. Обрубок был обрубком человека.
Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.
Родных не было, знакомые не встретили – не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был чудом. Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.
Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились "чуду". Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, все же массировали. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили – смотрел им вслед: вот идут на ногах, как ходил он: раз-два, раз-два...
Ему, как чуду, дали отдельную каморку. Всегда при нем был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истек.
Из старых товарищей, университетских, навестили двое; обоим был благодарен, но сказал, что больше не нужно приходить, что пока ему людей видеть не хочется. Поняли. Да и им тяжело было: о чем говорить с ним? О радостях или тягостях жизни? О будущем? От Танюши передали цветы. Он сказал:
– Передайте спасибо ей. Когда полегче будет, я извещу ее.
Меня отсюда скоро выпишут, нечего лечить. Здоров. Где-нибудь поселюсь... вот с Григорием. Тогда приходите.
Он лежал еще месяца три. Он был "здоров", даже располнел. Доктора говорили: "Чудо! Смотрите, как он выглядит. Вот натура!"
И Стольников выписался из госпиталя. В студенческом квартале, в переулке Бронной, Григорий снял ему и себе две комнатки. И был при нем нежной нянькой.
Что их связывало? Беспомощность одного – бездомность другого. Оба узнали что-то особенное, простоватый солдат и офицер-обрубок. Они подолгу говорили вечерами. Больше говорил Стольников, а Григорий слушал. В темноте чиркал спичкой, всовывал папиросу в рот Обрубка, ставил ему под голову блюдечко, для пепла. Сам не курил. А то Стольников читал вслух, а Григорий, набожно слушая непонятную книгу, по знаку перевертывал страницы. Понемногу Стольников сам научился делать это карандашом с резинкой, своей "магической палочкой", которую он забирал в рот. Вслух прочел Григорию почти всего Шекспира. Григорий слушал удивленно и важно: странные образы, непонятные разговоры. Понимал по-своему.
Как ребенок, Обрубок учился жить. Мозг его вечно был занят изобретениями. Он придумал установить над изголовьем наклонную лесенку подыматься на мускулах шеи; без этого тело перевешивало обрубки ног,– хотя подыматься ему было ни к чему. Со стенной полочки он умел брать ртом папиросу и, держа ее в зубах вместе с "магической палочкой", надавливать пуговку прикрепленной к полке зажигалки и закуривать. Он учился этому больше недели, однажды едва не сгорел в постели и научился.
У Стольникова были небольшие средства, хватавшие для такой жизни. Он купил себе кресло на колесах и придумал сам доступный ему двигатель,– но лишь в пределах комнаты; в том же кресле Григорий вывозил его на прогулку по Тверскому бульвару и на Патриаршие пруды. Он завел себе пишущую машинку и научился писать, держа во рту изогнутую палочку с резинкой и передвигая каретку рычагом, приделанным к креслу у левого плеча. Сердился, что бумагу вставлять должен все же Григорий, велел склеить длинные листы, писал плотными строчками. Весь стол его был уставлен коллекцией странных, им изобретенных приборов, изготовленных либо Григорием, либо мастером – по заказу. Молчаливо надевал Григорий Обрубку на голову обруч с приспособленными ложкой и вилкой, и движением кожи лба Обрубок учился пользоваться этими сложными для него орудиями. Воду и чай пил через соломинку. Часто, видя его усталую беспомощность, Григорий говорил:
– Да позвольте, ваше благородие, я вас покормлю. Зачем зря надрываетесь?
– Подожди. И не зря! Жив – значит, надо учиться жить. Понимаешь?
Деловые их беседы были кратки.
У Обрубка не было протезов. Врачи признали их бесполезными:
– Если хотите – для украшения. А так... За границей еще можно достать, и то только для правой руки; для нее есть кое-какая надежда...
Но для украшения он мог надеть френч с заполненными рукавами.
Он хотел надеть его, когда ждал первого визита Танюши. Но раздумал и на первый раз принял ее, оставаясь в постели.
И Танюша, которая знала точно о несчастии Стольникова, удивилась. "Какой у него здоровый вид,– хоть и лежит неподвижно".
С Танюшей зашел навестить молодого человека и старый орнитолог. Они сидели недолго. Уходя, Танюша обещала прийти, когда он ее опять позовет.
Дома она долго плакала, вспоминая свой визит,– а плакала Танюша редко. Стольников не был для нее ничем,– лишь случайным и недавним знакомым. Но, конечно, он был самым несчастным человеком из всех, кого она знала и могла себе представить.
Ложась спать, полураздетая, она подошла к зеркалу и увидала прекрасные руки, легко закинувшиеся, чтобы заплести волосы в толстую косу. В руках была жизнь, и молодость, и сила. Какое счастье иметь руки! И вдруг, представив себе синие шрамы над отпиленной костью, Танюша вздрогнула, отпрянула, упала лицом в подушки и зарыдала от жалости, от страшной жалости к Обрубку, которой ему нельзя высказать. Это хуже, чем видеть мертвого... раздавленный жизнью и еще копошащийся под нею человек.
"Он, конечно, меня ненавидит; он должен ненавидеть всех..."








