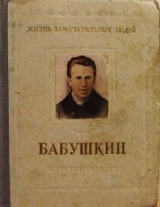
Текст книги "Иван Васильевич Бабушкин"
Автор книги: Михаил Новоселов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Часто Ваня проходил мимо арсенала, расположенного у Петровского парка. Стоящие у входа в арсенал старинные, еще петровских времен, пушки тускло поблескивал освещенные лучами заходящего солнца. Здесь же под небольшими портиками сверкали золотом и блестящей бахромой шведские и турецкие знамена, взятые русскими моряками в славных боях под Выборгом, Наварином, Чесмой. Низко склонялись они над целой группой трофейных пушек с золочеными инициалами короля Густава III. А в самом парке Ваня невольно останавливался перед высоким памятником Петру I. Выпрямившись, с мечом в руке, лицом к морю, словно на страже города-крепости, стоял основатель столицы. Издали виднелась надпись на постаменте:
ОБОРОНУ ФЛОТА И СЕГО МЕСТА ДЕРЖАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ СИЛЫ И ЖИВОТА, ЯКО НАИГЛАВНЕЙШЕЕ ДЕЛО.
Из указа Петра I 1720 г. Мая 10 дня.
Иногда на скамейке вблизи этого памятника Ваня заставал старого, сгорбленного годами и непогодой в кругосветных плаваниях матроса-балтийца. Старик прослужил почти полвека на парусных судах, был участником не одного морского боя. Не торопясь, словно вновь переживая прошедшую жизнь, рассказывал он молодым матросам и ученикам мастерских о дальних странах, о Крымской войне, о защитных укреплениях Кронштадта, заставивших английского адмирала Непира отказаться от нападения на город-крепость. Ваня очень любил слушать рассказы старого балтийца. Но в городе с неласковым морским климатом короток осенний или зимний день, – быстро темнело, нередко не то моросил дождь, не то шел снег, и приходилось со вздохом сожаления вновь на целую неделю уходить в мастерские.
В иной год, обычно осенью, сурово-монотонная жизнь города оживлялась большими маневрами флота или посещением Кронштадта какой-либо иностранной эскадрой. Весь город приходил в движение, повсюду слышались разговоры о числе кораблей, количестве пушек на них, скорости хода.
Еще издали раздавались громовые перекаты орудийных салютов; иностранные корабли показывались на горизонте, и русские суда, расцвеченные флагами, шли им навстречу. К приветственным залпам кораблей присоединялись оглушительные удары крепостной артиллерии, и тогда казалось, что два великана – один в море, а другой на острове – бьют исполинскими молотами по громадной наковальне.
Вечерами кронштадтский рейд и весь небольшой город украшался иллюминацией, прихотливыми фейерверками. В ночной тьме кораблей не было видно, но тем ярче и рельефнее вырисовывались высокие мачты, трубы, корма, сплошь унизанные разноцветными фонариками и лампочками. В городе усердствовала полиция, заставляя домовладельцев, зажигать в каждом окне по пять свечей, а у ворот в баках и бочонках сооружать целые вулканы горящего дегтя и смолы. Перед этим, дня за два, полицейские рьяно очищали от безработных центральные улицы, и сотни землекопов, каменщиков, чернорабочих, не успевших еще найти себе пристанище и работу, ночевали на окраинах города под открытым небом.
Ваня все это видел и не знал, к кому обратиться за ответом на вопросы, невольно появлявшиеся у него при мысли о морских торжествах, иллюминациях и голодных, бездомных людях. В его мастерской большинство составляли такие же рабочие, всего лишь несколько месяцев приехавшие из отдаленных лесных углов северо-восточного захолустья. Эти люди отличались замкнутым характером, безропотностью, старались как можно лучше выполнять все приказания мастеров, боясь потерять с трудом найденное место. Они откладывали буквально копейки, чтобы хоть что-нибудь послать в деревню, где остались голодающие семьи.
Затем шли подмастерья, проработавшие в мастерских уже несколько лет. Они держались более независимо, интересовались текущей жизнью, делились друг с другом своими впечатлениями о городских новостях, выходе эскадры на маневры, прибытии с «визитом дружбы» иностранных кораблей. Подмастерья чаще протестовали по поводу всевозможных штрафов и донимавших всех рабочих «добровольных пожертвований». Но стоило лишь мастеру хорошенько на них прикрикнуть, как они, ругаясь шепотом, расходились по своим местам и продолжали работать.
Среди рабочих мастерской находились и уже довольно пожилые люди – бывшие матросы, списанные с кораблей Балтийского флота за различного рода проступки, главным образом за неподчинение жесткому морскому уставу или попавшие на заметку начальства как неблагонадежные. Они немало повидали на своем веку, держались более независимо, чем подмастерья, и зачастую вели между собой задушевные беседы, к которым чутко прислушивался и юный ученик торпедной мастерской.
Эти разговоры обычно происходили в общей уборной, где можно было хоть на некоторое время скрыться от глаз мастеров. Рабочие делились новостями, рассказывали свои впечатления о проведенном воскресном отдыхе, подсчитывали по старому, замусоленному календарю, много ли в текущем месяце царских дней и прочих вынужденных праздников, примерно прикидывая заработок; говорили о новых заказах военного ведомства, которые, по слухам, должна была выполнить мастерская в ближайшее время. И не только новости текущего дня служили темой для бесед: рабочие в своем «клубе» затрагивали и более интересные вопросы.
«Говорили обо всем и даже о «государственных преступниках». Трудно передать, насколько интересны были эти разговоры, и как трудно было в то же время понять смысл этих разговоров, несмотря на то, что люди говорили очень интимно, не опасаясь ни шпионов, ни провокаторов, ни вообще доносов. Тут не было преступности против существующего строя, а были только одни смутные воспоминания, по слухам собранные сведения, часто извращенно понятые, и передавались они как нечто сверхнеобыкновенное, строго тайное, преступное, очень опасное и потому тем более интересное, сильно приковывающее внимание», – пишет в «Воспоминаниях» И. В. Бабушкин.
Рабочие вспоминали о своем товарище-слесаре из той же мастерской, где теперь проходил обучение Бабушкин. Этот слесарь любил читать и почти каждое воскресенье уходил за город. Там, на валу, уединившись от назойливых хозяйских соглядатаев, он читал какие-то особые, вероятно нелегальные, газеты, а потом подолгу задушевно беседовал со своими друзьями. Рассказы о политических выступлениях на заводах и в особенности во флоте привлекали общее внимание и вызывали интерес рабочих мастерской.
В «клубе» чаще всего вел беседу пожилой рабочий– списанный с корабля матрос. Не спеша, покуривал он короткую глиняную трубочку, придавливая махорку-самосадку изжелта-черным, прокопченным ногтем. Его глуховатый, низкий басок рисовал перед слушателями подробности «охоты на царя» и жестоких ответных репрессий вконец напуганного правительства.
«Рассказчик, бывало, увлекался и говорил убедительно о каком-нибудь заговоре, подкопе, покушении, – писал И. В. Бабушкин, – причем упоминал фамилию кого-либо из казненных через повешение за городом. Не могу я теперь припомнить фамилии или лиц, про которых рассказывали, но впечатление всегда оставалось сильное. Вместе с этим оставалось непонятным: за что были казнены те люди и чего они добивались? При рассказах более понимающих и толковых людей можно было понять, что они (казненные) что-то читали, и читали тайно, читали преступное и что не были дурными людьми, а заступались за рабочих…»
С затаенным дыханием, слушая эти рассказы, Ваня ярко вспоминал «соленую каторгу», «проворную жизнь», беспросветное существование своих сверстников. Много мыслей теснилось в его мозгу.
«Что же это за люди, которые пошли на смерть, стараясь добиться лучшей доли для всего народа?» – напряженно думал Бабушкин.
Рабочие слушали рассказы-воспоминания, не прерывая говорившего, и лишь когда на минуту в «клубе» воцарялось молчание, раздавались пытливые многочисленные вопросы. И Ваня и его товарищи по мастерской увлекались этими беседами. Жадно, не пропуская ни одного слова, ни одной детали, слушали они рассказчика.
В соседнем помещении шумели сотни токарных станков, шуршали широкие приводные ремни, но рассказчик говорил вполголоса, то и дело оглядываясь по сторонам, чтобы оборвать свою речь на полуслове при появлении в дверях мастера или одного из его «ушей» – доносчиков. И от напряженного внимания у слушателей еще более захватывало дыхание, еще более обострялся слух.
Ване хотелось подробно побеседовать об услышанном. Обратиться к кому-нибудь он не решался. А прочитать… но в те годы Ваня почти совсем ничего не читал. На помощь ему еще не пришли книги – эти могучие союзники, помогавшие многим молодым ищущим людям того времени выйти на широкую дорогу революционной борьбы за дело рабочего класса. Юноше приходилось читать книжки лубочных изданий, вроде «Битвы русских с кабардинцами», или старательно распространяемое начальством мастерских «душеспасительное» описание Афона. Не книги, а сама окружавшая его суровая действительность заставляла молодого слесаря глубоко задумываться и искать путь к лучшей жизни.
«Неужели так действительно «от века положено», – думал Ваня: – чтобы одни весь свой век работали, а другие только бы заставляли их работать еще больше? Ведь должна же быть на свете такая сила, которая положила бы конец горькой жизни!..»
На все эти вопросы он не находил пока ответа. Но беседы с рабочими, тесное общение с ними заставляли Ваню пытливо запоминать виденное, накапливать новые впечатления…
У Бабушкина постепенно стали пробуждаться иные запросы, начинало складываться новое отношение к жизни. Влияние рабочей среды формировало в молодом слесаре четкое классовое отношение к своим товарищам-рабочим, с одной стороны, и всевозможным представителям заводской администрации – с другой.
Ваня вспоминал свою деревенскую жизнь, условия работы подростков в кустарных мастерских столицы, и все сильнее ему хотелось поговорить с кем-нибудь «по душам», чтобы найти хоть какой-нибудь удовлетворительный ответ на вопросы, о которых он думал все чаще и чаще…
Ване удалось найти на окраине Кронштадта за недорогую плату маленький уголок в семье старого отставного матроса. Возвратившись, домой, Ваня нередко помогал своему старику хозяину осмолить лодку, починить пошатнувшийся забор, наколоть дров. Хотя ходить на работу было значительно дальше, но Ваню это не пугало: он мог, придя на квартиру, отдохнуть лучше, чем его товарищи в общежитии с казарменным распорядком. Года через два на квартиру к хозяину Вани перешел еще один жилец, старый слесарь, проработавший на столичных заводах много лет. Этот рабочий оказался атеистом, ненавидевшим попов, купцов и всяческие, канон выражался, «наросты на теле народа». Его сильно озлобили долгие годы тяжелого подневольного труда и лишений.
Надвигалась неумолимая старость – слабели ноги, притуплялось зрение, – жизнь была целиком отдана фабрикантам и заводчикам, а впереди, вместо заслуженного отдыха, ожидали безработица и смерть где-нибудь в трущобе.
Приходя в субботу домой, слесарь, не торопясь, закуривал и, произнеся обычную поговорку: «Какая бы ни была работа, а сегодня – суббота», ставил на маленький трехногий столик бутылку водки. Пригласив своего соседа по жилью «отдохнуть от недельки», он наливал в «морской» стакан водки, выпивал его залпом и сразу же начинал рассказывать Бабушкину все, что накипело у него на сердце.
Слесарь сам не знал, каким же способом можно улучшить тяжелую жизнь рабочего, хоть немного облегчить условия поистине каторжного труда, но зато он не скупился на воспоминания.
Каких только фактов, возмущающих душу молодого, еще мало знакомого с заводскими порядками человека, не передавал старый рабочий! Он подробно рассказывал Бабушкину о сложной и возмутительной системе штрафов по малейшему поводу, а чаще всего и безо всякого повода, широко практиковавшейся на заводах и фабриках столицы. Весь, трясясь от негодования и жалости к самому себе за бесцельно прожитую жизнь, он со злобой говорил о притеснениях, которые испытывали рабочие, в особенности о страданиях молодых работниц.
– Мы-то хоть иногда огрызнемся, кулак покажем… а они, бедные, что могут сделать?.. Плачут только да в Неве свое горе топят!.. – кричал слесарь и, помолчав, как бы окинув взглядом десятки загубленных на его глазах товарищей, добавлял: – Ну, подумай, рассуди сам, Ваня: разве можно так жить? Разве бог, если бы он был, допустил это?..
Инстинктивная, неоформленная злоба, душившая слесаря, приводила к совершенно ложным, но, с его точки зрения, правильным и допустимым мерам и способам борьбы с ненавидимым им миром эксплуатации и угнетения.
Однажды он обратился к своему молодому соседу с необычной просьбой – достать какого-нибудь сильнодействующего яда. И на недоуменный вопрос, зачем ему яд, слесарь заговорил взволнованно и страстно:
– А вот что: у меня в деревне жена и ребятишки, и дом есть, и вот я думаю поехать домой и хочу захватить с собой этого яду, чтобы отравить сначала всю скотину попа и деревенского кулака, а потом что-нибудь с ними самими сделать! Я тебе скажу, что попы самые вредные люди. Ты мне поверь: никакого бога нет, и все это выдумка, чтобы дурачить нашего брата. Мастерам нужно глотку резать на каждом шагу, а деревенских попов и кулаков – всячески изводить» а то они не дадут никакого житья нашему брату.
О многом заставляли думать Ваню эти откровенные речи. Он понимал, что ядом вряд ли можно справиться с кулаками и попами в деревне, а в городе – с хозяевами – фабрикантами и их подручными-мастерами. Но такая горечь звучала в речах старого слесаря и так, страстно ненавидя, рассказывал он об обыденных случаях угнетения рабочих, что Ваня и сам невольно сочувственно относился к выводам слесаря.
Наконец Ване исполнилось восемнадцать лет, и, согласно существовавшим правилам, его перевели из учеников в мастеровые. Молодому слесарю, хорошо освоившему свое ремесло, стали поручать обработку сложных деталей и даже дали самостоятельное задание. Но платили немногим больше прежнего, ссылаясь на якобы существующий обычай «мастеровых из бывших учеников не очень баловать». Этот «обычай» был очень выгоден администрации, но заставлял слесарей искать себе места на других предприятиях Кронштадта и Петербурга, где было немало больших механических заводов и мастерских.
Ваня старался устроиться на один из петербургских заводов. В кронштадтских мастерских он теперь получал восемнадцать рублей в месяц, хотя выполнял туже самую работу, что и квалифицированные мастера, получавшие пятьдесят-шестьдесят рублей.
Его отчим, Лепек, посоветовал попытать счастья на Балтийском судостроительном заводе, где хороший слесарь зарабатывал до восьмидесяти рублей. Лепек дал Ване несколько адресов мастеров, от которых зависело принятие на завод новичка. Кроме того, надо было сдать «пробу», то-есть на глазах мастера тщательно обработать какую-нибудь довольно сложную деталь. Этой пробы Ваня не боялся: за годы ученичества в торпедной мастерской он приобрел хороший навык.
Несколько раз ездил Ваня из Кронштадта в Петербург, обращаясь то на Балтийский, то на Путиловский завод с предложением своих услуг. Наотрез ему нигде не отказывали, так как, по совету отчима, Ваня раза два угощал мастеров тех цехов, куда он просил принять его на работу. Через полгода он решился переехать в Петербург и на месте искать работу. Сборы были недолги: Ваня сходил проститься с матерью и отчимом, поблагодарил, как полагается, «за науку» своего старшого по мастерской и через день уже стоял на пристани с небольшим чемоданом, стареньким деревянным сундучком и тюком с постелью.
Екатерина Платоновна, за последние годы все чаще и чаще прихварывавшая, пришла провожать сына. Прощаясь, она замерла, крепко обняв его…
Пароход тронулся, вначале медленно, а затем, миновав канал, пошел быстрее и быстрее. И вскоре перед юношей снова показались неясные очертания города, облака дыма, силуэты фабричных труб, заводских зданий.
Глава 4
Рабочий семяниковского завода
В 90-х годах промышленность России быстро развивалась. В самом конце XIX века число рабочих достигло 2 792 тысяч.
Подъем промышленности наблюдался повсюду: и в центральных районах страны, и на Урале, и на юге. В особенности заметен был рост крупных металлообрабатывающих предприятий в столице, а также в Донбассе и на Урале. Так, например, на юге России в 1887 году было всего лишь два крупных металлургических завода (Юза и Пастухова), а через десять-двенадцать лет возникло семнадцать новых больших чугуноплавильных заводов и еще двенадцать заводов строилось.
На Урале расширялись существующие чугунно и медеплавильные заводы, строились и вводились в действие новые домны, возникали при заводах новые крупные цехи.
Этот бурный расцвет промышленности был связан со значительным и быстрым развитием железнодорожной сети. Если в 90-х годах в среднем ежегодно прокладывалось около двух тысяч километров новых железнодорожных путей, то в последние годы этого периода (1898–1900) рельсовый путь был проложен на протяжении более двенадцати тысяч километров. Шло спешное строительство Великого Сибирского пути, дававшего выход заволжскому и сибирскому хлебу к прибалтийским и черноморским портам. Эта «весна капитализма», закончившаяся очень скоро известным кризисом промышленности в самом начале 900-х годов, требовала в 90-х годах прошлого века немало рабочих рук, прилива в крупные промышленные города новых и новых тысяч рабочих.
Петербург в середине 90-х годов XIX века был центром быстро развивающейся промышленности России. В столице сосредоточивались металлообрабатывающие, судостроительные, судоремонтные и другие заводы. Большое развитие получила и текстильная промышленность. В особенности чувствовался рост промышленности за городскими заставами, где на десятки километров тянулись однообразные фабрично-заводские здания, длинные бараки общежитий и различные подсобные, складские помещения.
Едва ли не самым густонаселенным, застроенным новыми фабриками и заводами был район за Невской заставой – Шлиссельбургский тракт, простиравшийся по левому берегу Невы километров на пятнадцать. Отовсюду поднимались густые клубы дыма механических заводов, текстильных фабрик. Невский механический завод был расположен у заставы. Рабочие нередко называли этот завод Семянниковским – по фамилии одного из его владельцев.
За Семянниковским заводом более чем на полтора километра раскинулись производственные и подсобные помещения общества «Александро-Невской мануфактуры», возглавляемого миллионером немцем Палем. Рядом – корпуса бумагопрядильной и ткацкой фабрики Губбарта и К°, фактическим руководителем которой был ненавидимый рабочими за бесконечные притеснения и издевательства англичанин Максвель.
Поблизости расположились кирпичные здания Александровского сталелитейного завода и мастерские Николаевской железной дороги.
Большое место занимали вагоностроительные и ремонтные мастерские. И совсем уж в тумане от вечного дыма и копоти заводов виднелся фарфоровый завод.
На правом берегу Невы находились корпуса фабрики англичанина Торнтона и К° – «Товарищество шерстяных изделий», выпускавшей десятки тысяч метров сукна, различных тканей.
Весь длинный Шлиссельбургский тракт с его низенькими одноэтажными домишками в 90-х годах казался проходным двором, по которому круглые сутки то на дневную, то на ночную смену шли и шли тысячи рабочих.
Тяжелые условия работы, всевозможные притеснения со стороны мастеров и администрации заводов и фабрик уже давно вызывали глухое недовольство рабочих. То в одном, то в другом городе России вспыхивало открытое недовольство системой заработной платы, непомерными штрафами и прямым обсчитыванием рабочих. В середине 90-х годов рабочие все чаще и чаще стали прибегать к забастовкам. В фабрично-заводских районах столицы зрели новые, грозные силы.
* * *
По приезде в Петербург Бабушкин хотел поступить на Балтийский завод, один из крупнейших в столице. Но как ни старался молодой рабочий устроиться на этом заводе хотя бы подручным слесаря, ни один мастер не взял его в свою мастерскую.
Денег почти т было, и нельзя было ждать, когда, может, был, на Балтийском заводе освободится местечко. Бабушкин решил попытать счастья на других заводах.
Расспрашивая возвращавшихся с работы слесарей, он узнал, что за Невской заставой требуются слесари на большой механический завод Семяжникова. Поступить туда оказалось тоже нелегко: надо было «угостить» мастера, да и еще кое-кого из конторы. Сохранилась запись табельщика в алфавитной книге завода: «Бабушкин Иван, крестьянин Вологодской губернии, Тотемского уезда, села Леденгского, поступил 16 июня 1891 года по рабочему № 323 в механическую мастерскую».
Бабушкина зачислили «в партию», то-есть на сдельную работу, поручаемую группе рабочих. Следовало выставить для всей партии «спрыски». Но денег для угощения такого количества людей у Бабушкина не было. Нарушать обычай не допускалось ни под каким видом.
– Хоть лопни, а спрыски чтоб были! – категорически предложил: новому слесарю механической мастерской старшой партии. Впрочем, он же подсказал Бабушкину взять под поручительство всех членов группы выпивку и закуску в долг, с тем чтобы из первых же получек погасить его.
Бабушкин согласился, и в первый день его работы на заводском дворе состоялись традиционные «спрыски».
Став полноправным членом группы, Бабушкин рьяно принялся за дело. За работу платили, поштучна, и поэтому приходилось трудиться изо всех сил, совершенно не считаясь со временем и думая лишь о том, как бы сосед не обогнал в обработке такой же детали. Рабочие получали; определенный процент на каждый заработанный всей партией рубль. Не состоявшие в партии этого процента, не получал. И фазу сказалась резкая разница в работе ученика – слесаря кронштадтских мастерских и слесаря – рабочего Семянниковского завода. В Кронштадте Бабушкин работал поденно и особенного утомления от работы не чувствовал. Здесь, же он повал словно в. ад.
«Совсем не то – пишет Бабушкин в «Воспоминаниях», – работа сдельная, поштучная: на этой работе человек себя не жалеет, от положительно забывает о своем здоровье, не заглядывает вперед своей жизни никогда не задумывается, как влияет работа на продолжительность его жизни.
Нет! Он гонит и гонит работу вперед, пот градом льется с него, и необтертая капля тяжело шлепается на его работу, вызывая; его неудовольствие и ругань, порывистое движение рукавом по лбу сейчас же следует за этим, и опять работа, работа спешна», торопливая, и все для того, чтобы получить, лишнюю копейку процента на рубль».
Охраны труда, как и в кронштадтских мастерских, не существовало. Никто не заботился о здоровье рабочих, не запрещал работать буквально до истощения сил. Это был поистине капиталистический ад!
В среде рабочих не только Семянниковского и других заводов даже существовало ходячее выражение: «зарвался на работе». Если рабочий в результате непомерной спешки, усиленнейшего труда «на обгон» падал с прервавшимся дыханием, весь в лихорадочном поту, соседа его обычно говорили: «Зарвался».
Бабушкин, описывая подобного рода, потогонные порядки на своем заводе, отмечает:
«Еще хуже в партии, где каждый следит друг за другом.
Особенно трудно, когда нескольким рабочим дается для работы одинаковая вещь: тут уже всякий проявляет самую наивысшую, какая только возможна, степень интенсивности. При таких работах рабочие положительно зарывают свое здоровье. Постоянно попадаются один или два более ловких, которые гонят работу вперед остальных, другие, из сил выбиваясь, стараются не отстать и даже боятся пойти по естественным надобностям, дабы не упустить лишних минут, в которые их могут обогнать в работе».
Это нечеловеческое напряжение, этот изматывающий все силы труд длился по шестнадцать – восемнадцать часов в сутки.
На Семянниковском заводе широко практиковались обязательные сверхурочные часы. Хотя официально рабочий день не должен был превышать двенадцати часов, но на деле почти не было дня, чтобы администрация не заставляла «гнать экстру», работать далеко за полночь.
Рабочий день считался с шести утра и длился, исключая перерыв на обед, до семи вечера, то-есть одиннадцать с половиной часов.
Гудок, извещавший об окончании трудового дня, в большинстве случаев звучал насмешкой: мастер под предлогом «спешной экстры» заставлял всю партию (восемнадцать человек) оставаться на сверхурочную работу.
Сколько здоровья у каждого отнимали эти ночные работы, трудно себе представить. Но дело было обставлено настолько хитро, что каждый убеждался во время получки, что, если он работал мало ночей или полночей, то и получал меньше того, который не пропускал ни одной сверхурочной работы».
Действительно, вся система заработной платы была построена в расчете на обязательное принуждение к ночным работам. Тот, кто по каким-либо причинам не участвовал в «ночах» и «полночах», терял значительную часть заработка.
Но даже при желании отказаться от сверхурочных работ этого сделать было нельзя: табельщик еще до гудка относил мастеру номер рабочего партии, обязанной «гнать экстру». Без номера выйти из ворот невозможно, а мастер разрешения на уход со сверхурочной работы никогда не давал, угрозами и руганью заставляя оставаться на ночь или полночь.
Если же рабочий отказывался особенно упорно или, по заявлению мастера, был непочтителен, то за подобного рода поведение администрация нередко увольняла строптивого.
В один из вечеров Бабушкин спешил закончить отделку хомута для эксцентрика паровоза. Он работал у своих слесарных тисков, стоя на ящике, навалившись всем корпусом на восемнадцатидюймовый напильник.
Два его соседа-слесаря трудились над отделкой таких же хомутов.
«…Мы старались во всю мочь, засучивши по локоть рукава рубашки и снявши не только блузы, но и жилеты, – пишет Иван Васильевич. – Пот выступал на всем теле, и капли одна за другой шлепались и на верстак и на пол, не вызывая ничьего внимания». Некогда было не только передохнуть, но и просто поднять голову, смахнуть заливавший глаза пот.
Кое-кто искоса поглядывал вглубь мастерской, не подаст ли мастер условного знака о прекращении работы, – в субботний вечер рабочий день заканчивался на десять – пятнадцать минут раньше заводского гудка. Но никакого движения, обычной суматохи, предвещавшей конец напряженного труда, еще не было. И вдруг Бабушкин услышал замечание нового слесаря из соседней партии:
– Будет стараться-то, все равно всей работы не переделаешь!..
Эти слова как нельзя более соответствовали настроению Ивана Васильевича.
Бабушкин выпрямился и прежде всего бросил взгляд в сторону мастера и его ближайших помощников: он не раз уже на горьком опыте убеждался, что «забегалки», как называли на заводе соглядатаев администрации, передадут мастеру малейшее подозрительное слово. «Забегалок» поблизости не было, и между молодыми слесарями-смежниками произошел короткий, но имевший большое значение для Бабушкина разговор.
– Оно правда, но мы на пару работаем, и потому я не желаю итти в хвосте других, – ответил Иван Васильевич.
– Завтра воскресенье, как ваша партия – будет работать или нет? – продолжал новый товарищ Бабушкина, Илья Федорович Костин.
Бабушкин ответил, что завтра его партия не работает.
– Что же ты делаешь в свободное время дома? – настойчиво продолжал расспрашивать Костин.
Иван Васильевич обычно с нетерпением ждал воскресенья: в этот день можно было хоть немного отдохнуть, поспав до полудня или даже дольше. Вечер быстро проходил в прогулке по городу или попросту в вялом, скучном ничегонеделании, а там опять ранним утром надо спешить по гудку на тяжелую, выматывающую все силы работу, работу без отдыха и передышки.
– Да ничего особенного. Вот устраиваем скоро вечеринку с танцами… – начал было Бабушкин нерешительно, но сосед его перебил:
– А у тебя книги какие-нибудь есть? Ты читаешь ли что-нибудь?
Иван Васильевич совсем смутился. У него, правда, было около десятка книг, но он почти не касался их. Бабушкин положил книги у себя в комнатке как украшение скромной, бедной обстановки жилища. Он охотно предложил Костину зайти посмотреть книги. Но Костин сам пригласил Ивана Васильевича к себе в ближайшее воскресенье.
Бабушкин обрадовался: до сих пор у него почти не было хороших знакомых, к которым можно было бы пойти побеседовать и повеселиться в редкие часы, свободные от заводской работы.
С завода оба слесаря шли вместе. Костин указал Ивану Васильевичу дом, в котором жил, и еще раз попросил его обязательно заглянуть к нему. Бабушкин расстался с ним дружески.
На следующий день, около часу дня, он уже подходил к квартире своего нового, понравившегося ему товарища. В небольшой квадратной комнате, кроме хозяина, сидели еще его брат и один из слесарей той партии, в которой работал Костин. Во время беседы со своими гостями Костин вынул маленький печатный листок и молча протянул его товарищу, пришедшему ранее Бабушкина. Иван Васильевич думал, что это какое-либо личное письмо, и безразлично смотрел на внимательно читавшего молодого слесаря.
Прочитав листок, рабочий с улыбкой вернул его Костину.
– Ну что? Как? – спросил Костин.
– Что ж, очень хорошо, – сказал его товарищ.
И вдруг Костин неожиданно для Бабушкина дал ему этот листок:
– Может, хочешь почитать? Так почитай.
И Бабушкин впервые в жизни прочитал подпольную революционную листовку. Какое она произвела на него впечатление, лучше всего видно из записи самого Ивана Васильевича:
«Я развернул и приступил к чтению. С первых же слов я понял, что это что-то особенное, чего мне никогда в течение своей жизни не приходилось видеть и слышать. Первые слова, которые я прочел, вызвали во мне особое чувство. Мысль непроизвольно запрыгала, и я с трудом начал читать дальше. В листке говорилось про попов, про царя и правительство, говорилось в ругательской форме, и я тут же каждым словом проникался насквозь, верил и убеждался, что это так и есть, и нужно поступать так, как советует этот листок… Тут же как молотом ударило по моей голове, что никакого царствия небесного нет и никогда не существовало, а все это простая выдумка для одурачивания народа.
Всему, что было написано в листке, я сразу поверил, и тем сильнее это действовало на меня. С трудом дочитывал я листок и чувствовал, что он меня тяготит от массы нахлынувших мыслей».
Листовка была полна резких, сильных протестов против правительства, приводила яркие, вопиющие факты царского произвола и народного бесправия.
Долгое время держалась в памяти Бабушкина эта первая подпольная листовка. Он понял, что Костин его пригласил к себе неспроста, и сразу же почувствовал себя в истинно товарищеской, дружеской среде.
Семена революционной пропаганды упали на вполне подготовленную почву. Состояние Бабушкина можно было сравнить с положением человека, долгое время бродившего в дремучем лесу, стремившегося к изредка мелькавшему впереди узкому лучу света и сразу вышедшего на залитую солнцем поляну.








