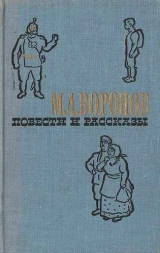
Текст книги "Наш приход"
Автор книги: Михаил Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Михаил Алексеевич Воронов
Наш приход
(Очерки)[1]1
Наш приход. – Впервые напечатано в журнале «Будильник», № 41–42 за 1866 год, по тексту которого рассказ воспроизводится в настоящем издании.
[Закрыть]
I
Здесь каждый увидит нас сначала в общем сборе; после же того познает справедливость поговорки: вместе – душа мрет, а порознь – с души прет
Лето. Праздник. Девять часов утра. Колченогий нищий по имени Прокоп (он же Моргун-шестипалый), исправляющий должность приходского звонаря, уже давно взобрался на высокую нашу колокольню и упорно таращит глаза в ту сторону, где проживает приходский протоиерей отец Никита; Прокоп ждет оттуда условленного знака, чтобы немедля начать благовест к обедне. Наконец знак этот подан, и Моргун, трижды осенив себя крестным знамением, принялся старательно раскачивать тяжелый язык двухсотпудового колокола.
С первым ударом всполошился самый последний, самый низменный слой нашего прихода; второй поднял на ноги мелких чиновников; по третьему крякнули и засопели толстобрюхие купцы; но когда Прокоп властной рукой начал наносить удары в щеки колокола раз за разом, когда удары эти слились в один непрерывный стон-визг, тогда встали с своих мест даже такие люди нашего прихода, пред которыми спокон веку ползком ползет низменность, давным-давно в дугу гнется мелкий чиновник и чуть не за целую версту ломит шапку сам купец толстобрюхий.
Визжит-стонет колокол, из кожи лезет-усердствует разгорячившийся Прокоп, а народ все прибывает и прибывает в божий храм; так что когда Моргун-шестипалый, пустивши в дело свои искалеченные руки и ноги, затряс от восторга головою и ударил во все, – в церкви, истинно говорю, и яблоку бы, кажется, негде уж было упасть!
Отрадно, право, посмотреть на нас, когда все мы в сборе!
Вот направо чиновник Геклов (чин на нем хоть и небольшой, но из себя амур, говорят наши девицы), в новом сюртучке, смирнехонько и близехонько поместился с девицей Синелобовой, наряженной в роскошное барежевое, бутылочного цвета, платье. Ах, какое смирение напечатлено на челе Геклова, и какая кротость блистает во взоре Синелобовой! Ну, кто бы мог подумать, что оба они в обновах? Нет, этого никто не подумает! А направо-то жена квартального Трегубова… Вы думаете, может быть, что она завидует изящной соломенной шляпке на маленькой головке Переполоховой и потому пристально смотрит на нее? Ошибаетесь! Квартальничиха очень хорошо знает, что Переполохова переделала свою шляпу из старой; она не завидует, но соболезнует о суетности владетельницы шляпы, решившейся на недостойную переделку. Даже туземный наш ловелас Семен Курносов – смотрите, как скромен: он поместился чуть не в притворе, чуть не с нищими… Глядя на него, никто не может допустить и мысли, будто не дальше как вчера титулярный советник Перхуров обещался переломить ему ноги, если он, Курносов, будет заглядывать в окна, и будто Курносов пришел сюда именно затем, чтобы назло Перхурову стать рядом с его дочерями, которые действительно красуются возле. Не подумайте также, чтобы купчиха Круглотелова помышляла в настоящую минуту о пироге, который она пред уходом из дома посадила в печь и за который смертельно боится, ибо Матрена ее, как известно всему приходу, пьяница и ленивка, а муж, Кузьма Митрич, человек крутой и подгорелых пирогов в своем доме терпеть не может. Ведь если так смотреть на вещи, то придется, пожалуй, допустить нелепость вроде того, что Трифон Сергеич Перебоев – человек значительный и почитающийся у нас верхом ума – сейчас оглянулся затем, чтобы видеть, с достоинством ли держит себя Спиридон Михеич Гвоздилин – лицо в приходе не малое и по уму не последнее. Ах, как вы жестоко ошибаетесь! Трифон Сергеич, уверяю вас, оглянулся единственно потому, что ему как будто под коленкой что-то неловко сделалось, – короче: так пришлось, вот и оглянулся.
Но обедня кончилась. Прихожане радостно приветствуют друг друга: Геклов перекидывается изящными фразами с Синелобовой, Переполохова обнимает и лобзает квартальничиху Трегубову, Перебоев жмет руку Гвоздилину, Ржавчиха целуется с Кондрихой, Жигалиха – с Бугрихой, Курносов поздравляет с праздником всех; минута, другая – и мы расходимся по домам, дабы предаться всепоглощающей нас житейской сфере, как выразился один приходский мудрец, завертывая в достолюбезный ему кабак. И суета действительно поглощает нас, как только мы переступаем порог нашего жилища.
– Неужто уж кончилась обедня? – спрашивает мать девицы Переполоховой, выбегая из кухни, красноликая и засаленная, навстречу своей дочери.
– Кончилась, – ответствует девица, направляясь к зеркалу в намерении еще раз полюбоваться на свою шляпу.
– И много поди было?
– Ужасти, маменька!
Тут девица изгибается змеей и кажет зеркалу затылок.
– Ишь рюш-то как измяла! – замечает матушка, тыкая пальцем в щеку дочери.
– Ах, постойте, поправлю! Нет, маменька, как квартальничиха Трегубиха пялила на шляпку глаза: кажется, так бы вот она и съела меня!
– Тсс.
– Даже Геклов, маменька, все это заметил.
– А был?
– Был. Очень антересный такой; сюртук новый сшил; говорит: награду дали.
– А из Курносовых были кто?
– Сенька был. Все около Перхуровых жался.
После некоторого молчания дочка, как бы вдруг вспомнив, возопила:
– Ах, маменька, Танька-то перхуровская, – вот смеху-то все положили!..
– А что?
Маменька даже рот разинула.
– Вообразите, тоже шляпку себе переделала… И ведь вот дурища-то: перьев этих разных насажала, цветов, тюлю, – просто страсти! Все, кто ни взглянет, едва удержаться может…
Маменька всплеснула руками от ужаса.
– Нет, я этому Сеньке Курносову, клянусь, башку сломлю! – свирепел Перхуров-отец, прикладываясь к анисовой.
– Если ты мне шляпку не купишь, то вот сдохни я на сем месте, если не продам твой сюртук и не куплю тогда сама! – стращала квартальничиха Трегубиха своего благоверного. – Чтобы я допустила какой-нибудь падали Переполоховой передо мной важничать, – ни за что в свете!
– Ни на ком, папенька, такого сюртука не было, – прикладываясь к руке отца, восклицает довольный Геклов. – С праздником, папенька-с! Ей-богу, папенька, ни на ком такого не было-с.
– Опять, вдоль вас разорвать, пирог-от сожгли! – выносит купец Круглотелов.
– Да ведь, Кузьма Митрич, пошла я к обедне, и сколь Матрене ни наказывала, она меня не слушает, – уныло бормочет супруга.
– А вот я вдругорядь, ежели эвдакой мне подадите, так, лопни глаза, в морду али еще и того плоше! Право слово, сделаю! Что это за каторга в самом деле: ждешь, ждешь праздника, ровно бы утехи какой, – а они, на-ка: угольев тебе заместо божьего дара подвалят.
– Что, Гордеевна, где была-побывала? – судачит у калитки востроглазая бабенка.
– Ох, уж и не говори! Как только ноги меня носят, дивлюсь…
– У обедни поди была?
– Была давеча.
– Ну что?
– Да что, – один грех. Веришь ли, мать, подходит ко мне этта Бадейчиха, насурмленная да набеленная, и целоваться лезет. Ну, при народе, известно, должна была…
И Гордеевна жестом пояснила свое безвыходное положение.
– Вот уж правду, верно поют наши парни про этих-то щеголих:
Щикатуров нанимали,
Свои рожи натирали…
– Еще какую правду-то, волдырь им на нос!..
Так, склеенное было поутру согласье нашего прихода начало мало-помалу расползаться; и чем дальше время шло за полдень, тем ожесточеннее и усиленнее шли пересуды кумушек, так что наступивший тихий летний вечер застал лишь повсюдную злобу, накипевшую в долгий, жаркий день.
Не умирит ли хоть ночь ваши горящие гневом души, любезные моему сердцу сограждане!
II
Повествование, равно для всех обязательное, ибо в нем изображены столбы прихода: будочник Шленка, квартальный Трегубов, регистраторша Кобылья Голова, приходский мудрец Верховщиха, знахарь Павел и повитуха Марья
Приход наш сам по себе очень невелик; но так как и в малом цикле, по выражению мудрого, может совершиться великое зло, то, для отвращения сего последнего, в виде ближайшей власти к приходу приставлен рядовой Шленка, будочник, или – бутырь, как проще величают его прихожане. Шленка – крещеный еврей, ветхий старик, глух, холост, имеет колесообразные ноги и крайне оригинальный, сизый и усеянный щетиною нос. Обязанности этого стража в нашем мирном приходе очень немногочисленны: он трет табак для двух писцов, примешивает к этому же табаку донник-траву для отставного капитана Лодыжкина и раз в сутки, именно в глухую полночь, призывает обитателей к бдению и осторожности, пугая дребезжащим и унылым «слушай!» безмятежный сон наших детей. Случается, правда, иногда и Шленке как бы развернуться и показать во всей широте свою власть: так порою он принужден бывает забирать в будку шумливых наших пьяных; но и тут страж не выдерживает роли, ибо в конце концов и власть и захваченные ею неминуемо засыпают в ближайшем кабаке… Миролюбивый кроткий Шленка имеет и врагов, к которым питает непримиримую злобу, враги эти – уличные мальчишки: вот уже третью алебарду украли они у него, пользуясь сном дряхлого стража! Другая категория врагов – коровы: много потерпел подслеповатый старик от их рогов, на которые неоднократно натыкался он, пьяный, в ночной темноте.
Однако если Шленка, как ближайшая власть, имеет так мало отношения к нашему приходу, то что же я скажу о квартальном Трегубове, арена деятельности которого, говоря высоким слогом, еще ограниченнее? Действительно, Трегубов, кроме ссор и драки с собственной женой и пристрастия к хмельному, ничем особенным не заявил себя среди нас. Слова нет, что обязанности свои Трегубов исполняет как следует, именно: он наблюдает за поведением подведомственного ему Шленки, приказывает доставлять себе должную часть масла из приходских фонарей, для употребления такового с кашею, осматривает всевозможные товары в наших лавках, а лучшие из них даже требует относить к нему на квартиру для надлежащего опробования, – но, говорил и повторяю: все это не выдвигает Трегубова из ряда вон, почему мы и не будем на нем долго останавливаться.
Но вот уж кто блещет яркой звездой в нашем приходе, так это, по совести сказать, регистраторша Промеждуухова, Кобылья Голова тож. Почему она Кобылья Голова – никто того объяснить не может, хотя называет ее так всякий; регистраторшей же Промеждуухова именуется по покойном своем муже, скончавшемся от удавления гусиной костью в праздник пасхи, лет за пятнадцать до описываемых мною дней. Кобылья Голова издревле живет в нашем приходе, прежде была сама-четырнадцать, потом сама-тринадцать и, наконец, теперь сама-шесть, с пятью малолетними дочерями, из которых старшей, Прасковье, двадцать восьмой год, а младшей, Зинаиде, – двадцатый. Если Шлейка и Трегубов могут считаться хранителями нашего спокойствия со стороны, так сказать, внешней, то Кобылья Голова поистине должна быть признана строительницей и оберегательницей внутренней, семейной жизни нашего прихода. Так, из двенадцати ее дочерей (а прежде их именно было столько) семь уже давно замужствуют, образовав столько же маститых семейств, из коих Прудищевы пошли уже в третье колено и насчитывают двадцать три наличных члена обоего пола, Затылкины, в двух коленах – одиннадцать членов, Шкворневы в трех – семнадцать, Подмахаевы в двух – три (прискорбная случайность), Злобищевы в двух – семь, Дырины в одном – пять, и Оплевакины в одном – шесть. Сама Кобылья Голова лет уже тринадцать как обложилась вдовьим жиром и мирно доживает теперь седьмой десяток к утешению и славе своих детей, внуков, правнуков и всех доброжелателей прихода… Недруги – эта язва, существующая повсюду, – правда, нашлись и тут. Так они смеются, например, над оставшимися в девицах дочерями регистраторши, уверяя, что сказанные девицы уже в семена пошли; те же недруги распускают слухи, что Кобылья Голова ловит и женит приходскую молодежь с помощью различных хитрых штук; они, наконец, стараются набросить тень даже на самую чистоту девиц Промеждууховых. Однако, как бы то ни было, а дочери Кобыльей Головы все-таки выходят и выходят замуж, несмотря на отчаянные вопли недоброжелателей и странное упорство самой регистраторши, положившей выдавать своих детей не иначе как по очереди. «Хоть сам генерал приходи, так и тот не в очередь не выдернет!» – стоически произносит обыкновенно она. Хотя, как видит каждый из сказанного, приход наш и обставлен довольно удовлетворительно со всех сторон, но, как человеку, отправляющемуся в дорогу, естественно на случай надевать поверх шинели еще шубу, как бы для вящего тепла, – так и у нас в приходе, кроме сил поименованных, есть еще силы запасные, если можно так выразиться. С этими-то последними мы и познакомимся сейчас.
Купчиха Верховщиха, дом которой, как известно всякому, стоит близ Бумажного кабака, давно знакома нашему приходу как редкая подательница советов в трудных случаях жизни, искусная истолковательница снов, гадальщица на картах и вообще пособница в делах экстренных и важных. Верховщиха весит девять пудов с походом (фунтов пять до десяти недостает), с места на место передвигается неохотно и с великим трудом, имеет до ста тысяч наличного капитала, боль в пояснице и единственного сына, который достиг уже в настоящее время до семипудовой тяжести, холост и подвержен изнурительному запою. Верховщиха, приходский мудрец тож, страдает постоянной ипохондрией, почему с утра до вечера и мажет себя ворванью, лежит на кровати под нагольным тулупом и неустанно пьет мяту с медом в ожидании посетителей.
– Здравствуйте, матушка! – всхлипывает наконец чиновница Реброва, неожиданно приступая к ложу распростертой мудрицы.
– Ох, здравствуйте! Что скажете?
– Да я к вам, благодетельница: нельзя ли мне на картах раскинуть?
– А что так?
– Да уж очень мой-то драться стал, – плачет Реброва.
– Отчего же так?
– Известно, с водки: ее все лопает.
– Какой он у вас? – вопрошает мудрица.
– Трефовый, чтоб ему сдохнуть!
Мудрица раскидывает карты.
– Скоро перестанет, – говорит она. – Видите, как жлудями обложился, – это хорошо. Опять же вы в головах-то у него лежите: уж когда допустил в головы – конец! Это верно – конец!
– А я к тебе мать, Мавра Парфеновна, – кланяется вновь прибывшая купчиха Знобишина, – уж уважь…
– Что тебе, Дарья Спиридоновна?
– Пашутку сватает…
А Пашутка – замечу – тридцати лет от роду и из себя – во!..
– Кто?
– Известно кто: жених…
– Купец, что ли?
– Нет, он этот… военной, что ли, эдакой какой…
– Ох, смотри, непутевый!
– А ты бы на картах, мать, тронула.
Мудрица разом раскинула.
– Ну? – любопытствует Знобишина.
– Так, голодрыга какой-то…
– Что ты, мать?!
– Право! Видишь, все прячется: вон куды залез.
– Ну, спасибо, Мавра Парфеновна. Эх мы дуры, дуры, – уходя, бормотала Знобишина, – а ведь думали отдать: товар, мол, оченно уж залежался. То-то бить нас, дур, некому! На-ка! Тьфу!..
Распростившись с посетительницей, Верховщиха опрокинулась навзничь и задремала в ожидании новых гостей и новых приемов мяты с медом.
Но мы не воротимся больше к ней, так как нам предстоит еще взглянуть на приходского знахаря Павла и жену его Марью – повитуху.
Кто такой Павел, откуда он, давно ли попал в наш приход, – никто этого сказать не умеет. Известно только, что прежде Павел занимался исключительно лечением лошадей, и очень с недавного времени, именно когда он пустил поповой лошади в глаз какое-то снадобье, от которого глаз лопнул, – так с этого времени Павел бросает коновальство и зачисляется во врачи нашего прихода. Павел лечит заговором все: запой, боль желудка, зубную боль, лихорадку, горячку, переломы, ушибы, вывихи – короче, все, что крючит и корчит человека. Но специальность Павла, это – лечение кликуш и поврежденных… Сначала Павел жил с женой своей Марьей, правящей по приходу обязанности повивальной бабки, и жили они мирно, любовно; но вдруг он ушел из дома и поселился у дьячка в бане; все старания возвратить его снова в лоно семейной жизни с этих пор остались тщетны; даже отцу Никите Павел сказал наотрез: «Батюшка, я на нее плюнул, а вы не мешайтесь». По приходу Павел, кроме ремесла знахаря, несет еще тяжелое ремесло повсеместного опаривателя бань: то есть он охотно идет в только что истопленную баню и первый выхватывает оттуда злейший угар. Павел также рубит дрова, где позовут; режет кур, гусей и поросят в тех домах, где кухарки трусливы; бьет неустанно и безвозмездно целую ночь в караульную доску, если караульщик пьян или нездоров: нянчит детей прихожан, купает лошадей в летнюю пору и гоняет на водопой в зимнюю. Словом, для нашего прихода Павел золотой человек!
Ну, о жене Павла нельзя сказать того, что сейчас мы о нем, ибо язык Марьи – враг ее. Проникая в качестве повитухи в недра семейств, вызнавая там самое сокровенное, Марья почасту делится с приходскими кумушками тем, что таилось и береглось долгие дни. Кто бы, например, мог узнать, что у девицы Самостреловой бок на вате, – а еще такая видная девица!.. Или думал ли кто, что мадам Енотова белится, румянится и сурмит брови, – помилуйте, такой чудный цвет лица! Все продала злодейка Марья: она пустила эту славу по скромному нашему приходу! Марья, помимо повивального мастерства, занимается также сватовством, и уж куда какая искусница сбыть залежавшийся товар, особенно женской руки: вон купец Раскусов и до сих пор грозится поломать ребра: «Этакого одра, – говорит, – подсудобила – перед товарищами стыдно».
Таковы в основных чертах столбы нашего прихода. Все остальное сосредоточено около лиц, описанных мною, и или отражает, как зеркало, деяния этих лиц, или, затертое и отброшенное, потеряло всякий образ, уступив место своим колоссальным противникам.







