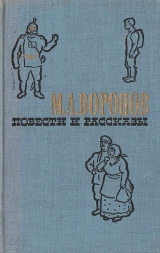
Текст книги "Братья-разбойники"
Автор книги: Михаил Воронов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
IV
Купанье было одним из лучших удовольствий летнего периода и начиналось скорехонько же после схода льда, почти тотчас же за первой ловитвой рыбы. Первые ванны, как очень ранние, были немножко холодноваты, и мы выскакивали из воды синие, словно утопленники, и долго после не могли свести зубов и тряслись, как в злейшей лихорадке; но зато впоследствии купанье делалось, особенно жарким летом, чуть ли не главнейшим времяпрепровождением. Так, например, на практике было доказано, что в хороший летний день, то есть когда воздух раскален приблизительно градусов до тридцати пяти и солнце, словно подернутое какой-то дымкой, тусклое такое стоит в вышине, – в подобный удачный день можно было выкупаться так разиков двадцать – двадцать пять, а то так и все тридцать. Купанье частию зависело от хорошего места, – а если таких мест набиралось десяток, то от всех десяти хороших мест, – частию от товарищества, – а если таких товариществ попадалось пятнадцать, то от всех пятнадцати товариществ, – частию от времени, – а иногда такого времени было, с небольшими, впрочем, перерывами, ровно полсутки; и вот, совокупность-то всех этих разнообразных условий и приводила к указанному выше счастливому результату, выражавшемуся числом 30. Бывало, например, так, что, спустившись на хорошее купальное место как раз против нашего дома, купальщики, выкупавшись здесь, не одеваясь, перебегали на другое место, отсюда, также для большей быстроты неся одежду под мышкой, перекочевывали на третье, с третьего тем же порядком на четвертое, с четвертого на пятое и т. д. и т. д. Так что когда наступала пора бросить купаться, то есть когда при тридцатиградусном жаре начинали коченеть члены от холода, купальщики озирали местность, в которой они находились, и к удивлению и восторгу своему видели, что они прошли нагие так версты две-три.
– Вот так махнули! – восклицает, дрожа, кто-нибудь.
– Что же за «махнули»? Я намедни так еще дальше, вон туда к заводу, этак же ушел, – и счастливец тычет пальцем по направлению к заводу, отстоящему так версты на две еще.
– А ведь это мы все нагишом.
– Так нешто из-за таких-то пустяков одеваться? Что мы за дураки.
– Эх, братцы, сколько хороших-то местов развелось!
– Местов – страсть: закупаться можно!
– А вам дома-то ничего за это не бывает? – спрашивают нас товарищи.
– Нет, если папенька, так высечет, а маменька, так ничего, – равнодушно отвечаем мы.
– Ну, господа, как хотите, а без отца лучше жить, – сообщает товариществу Паша Трубкин, бойкий, черноглазый карапуз, певец и первый по околотку буян.
– Еще бы! – прежде всех соглашаемся мы.
– Мать-то когда еще соберется палку взять, а я уж, мах, да и за ворота! – поясняет Паша, почему без отца лучше. – Ну, а от отца так-то не убежишь!
– Ишь ты сравнил: этот прытче…
Раз, я помню, во время купанья со мною случилась презабавная история. Нужно заметить, что нередко мы отправлялись купаться с Максимом или, лучше сказать, не с Максимом, а с лошадьми, потому что кучер ходил на реку не для собственного прохлаждения, а водил туда лошадей купать. Так как я был побольше других братьев, то кучер предложил мне искупать одну из лошадей, для чего посадил меня на нее верхом, дал в руку поводья и затем вогнал лошадь в воду; сам же Максим сел на другую лошадь и тоже направился в воду. Не помню теперь хорошенько, что было причиной, но только лошадь моя вдруг задурила, сделала несколько прыжков, рванулась из воды и, выбравшись на берег, стрелой помчала меня к родительскому крову. Напрасно я натягивал поводья, кричал и молил о помощи, – ничто не помогало: упорный конь фыркал лишь и несся, куда ему хотелось, да еще, как нарочно, не через заднюю калитку, а через главные, передние ворота, показывая меня удивленным гражданам в двенадцать часов дня в костюме праотца Адама. В таком виде конь представил меня прямо на родительский двор и устремился к конюшне, но, к счастью моему, умерил свой бег пред низкими дверями конюшни и тем дал мне возможность одуматься и свалиться через круп этого злодея-коня на навозную кучу, наваленную обок с дверями. Едва я успел опомниться и, гонимый стыдом и страхом, запрятался в ближайший сарай, как вижу, за мной следом, в таком же костюме, влетает на двор кучер Максим, бросившийся догонять и спасать меня; несколько минут спустя, тоже голые, прибегают домой братья и приносят с собою одежду, которую, к счастию, догадались захватить. Все мы сбиваемся в сарай и начинаем одеваться; у ворот же и во дворе уже теснятся целые толпы любопытных. Как кажется, истинная причина этого события для публики так и не разъяснилась, и мы долго были предметом разных кривых толков и рассуждений.
– Ну, уж братья-разбойники! Отличились! – толковали соседские кумушки, обвариваясь жгучим чаем.
– И не говорите лучше…
– По берегу-то ходили-ходили нагишом, а теперь уж по улице на лошадях стали в этаком же виде закатывать. Тьфу!
– На выгонки, слышь, скакали-то: Мишка-то, говорят, об заклад с кучером бился… на парей то есть.
– Ска-ажите?!
– Да уж что и толковать: совсем отъемные головы!
– И махонькие и те туда же: хоть на своих на двоих, а в этаком же виде за ними бегут.
– От родителей всё: он-то не доглядывает, а она – баловница. Ежели бы да на хороших на родителей, так взял его, озорника, да тут же, где он бежит, тут же и разложил бы, да на публике-то и тово… «Смотрите, мол, добрые люди, чтобы на меня никакого сумнения не было», – да и порядочно-таки прихворостинил бы и того, и другого, и третьего. А то, разве это порядки: утром бы, примерно, они эту самую езду состряпали, а вечером, слышим-послышим, уж бурлаку-татарину на реке камнем голову проломили.
– Проломили?!
– До крови проломили. Он, слышь, шутя там сапожишки, что ли, у кого-то из них взял, – так вот за это.
– Так… уж я и то своим-то все наказываю: ежели из вас кто слово, – запорю!
– Жаловался татарин-то?
– Жаловался.
– Драли?
– Драли, – холодно отвечает кумушка. – Да разве уж поможешь?
– Набалованы…
– Страсть как набалованы, – страсть!
Огромное удовольствие всегда доставляло нам катанье на лодке, разумеется, главным образом потому, что у нас не было своей лодки, и доставать ее у кого-нибудь приходилось с большими хлопотами и затруднениями. Эти-то затруднения и хлопоты в значительной степени и увеличивали размеры удовольствия, потому что, как известно, то именно дорого, что трудно достается. Лодку мы или выпрашивали у кого-нибудь из знакомых, или брали напрокат, для какового проката целую зиму прикладывали грош к грошу в нашу общую казну. Но бывало и так, что, пользуясь, например, сумерками или ранней утренней порой, мы просто-напросто отвязывали чью ни попало лодку и разгуливали на ней по широкому лону вод. (Лодки на Волге, вообще, стереглись довольно плохо.) Надо сказать правду, что иногда такие легкомысленные уводы чужих лодок сходили нам с рук, но нередко за подобные самовольства нам порядочно-таки доставалось от хозяев лодок. Ну, да мы за тычками не гнались: сладость полученного удовольствия скоро заставляла забывать всю горечь расплаты за это удовольствие. Но однажды, помню, мы дорого поплатились за нашу смелость. Было это так…
Как теперь помню, как раз во всенощную, то есть ровно в шесть часов вечера, отвязали мы чью-то лодку и недолго думая направились по теченью. И на воде и в воздухе было совершенно тихо, солнце блистало полным блеском, и лишь какие-то совершенно незначительные тучки ползали то там, то сям по небу. Вода быстро несла нас вниз. Болтая и напевая песенки, посвистывая и отпуская разные прибаутки, мы и не заметили, что забрались уже довольно далеко, а, главное, не заметили, что солнце спряталось в тучи, начал подувать довольно резкий ветер, и река почернела, надулась и вот-вот готова закипеть волнами. Вдруг рванул ветер и разом поставил нашу лодку поперек реки. Мы дружно ударили в весла; но было уже поздно. Еще мгновенье, и налетевший шквал бросил нашу лодку, как легкую щепку, на гребень волны, затем лодку подхватила другая волна, за этой третья и т. д. и т. д.,– словом, волны совершенно овладели нами и, пенясь, клокотали вокруг, грозя опрокинуть лодку и поглотить всех нас. Река ревела и бушевала, как разъяренный зверь. Свистал ветер, с рокотом сшибались волны, целые тучи брызг носились в воздухе и обильным дождем опускались на воду. Страх охватил нас. Побросавши весла, мы сбились в кучу посредине лодки и словно закаменели. Еще и теперь помню я исполненные ужаса лица братьев, с широко раскрытыми ртами и остолбенелыми глазами. Не знаю, как у других, но у меня близость чего-то рокового, как только я сознал всю неотразимость этой близости, сейчас же зажгла в голове мысль о нашей доброй, кроткой матери: несказанно мне стало ее жаль в эту минуту! Маленькая, худенькая, слабая, с глазами, полными слез, прощающая и благословляющая, встала она предо мной. Я сам готов был зарыдать – нет слез; хочу сказать что-то – скован язык; хочу поймать и поцеловать руку матери – руки мои отказываются меня слушать. А голова все продолжает работать и подсказывает мне мои вины, совершенные против этой редкой женщины. Я делаю последнее, страшное напряжение, чтобы заговорить, заплакать, словом, каким бы ни было путем выразить свое полнейшее раскаяние, – как вдруг лодка совершает какой-то неимоверный скачок вверх, потом на секунду с бортами врезывается в волны и затем быстро выбегает на берег. Мы спасены!
– Что, щенята, набрались страху! – вытаскивая нас из лодки, грубо ворчат какие-то неизвестные люди, по-видимому, бурлаки.
Мы опускаемся на землю и громко, истерически рыдаем в три звонких голоса.
– Лекше бы вы потопли, кажется! – хватая нас за руки, с непритворной горечью бормочет точно из земли выросший Максим и ведет домой, строго следуя приказу отца, «отыскать и доставить немедленно».
Максим знает, почему он желает нам смерти.
. . . . .
Зимняя Волга была уже гораздо менее разнообразна и любопытна. Начиналась эта наша Волга так с конца октября или, вернее, с первых чисел ноября, то есть именно с тех пор, когда суда уйдут на зимние стоянки и мороз примется заковывать Волгу в ледяной покров, затягивая тонкой корой воду сначала у берегов, а потом подвигаясь все дальше и дальше. Скользить на ногах по этому тонкому льду и пробивать его каблуком до воды, разумеется, было очень приятно; но ведь долго ли наскользишь и много ли напробиваешь, когда мороз хватает за ноги и делает их словно какими-то деревянными? Конечно, не много. Потому настоящая-то наша Волга начиналась даже еще позже, именно – с настоящей зимой, когда выпадает вдоволь снегу и лед на реке станет такой, по которому уже свободно пойдет переправа с одного берега на другой, и, что всего важнее, когда нам выдадут шерстяные чулки, с строгим наказом отнюдь не промачивать сапог, – вот тогда начиналось настоящее дело, вот тогда приходила настоящая наша зимняя Волга! Если вы, читатель мой, не катывались на салазках с горы сажен в пятьдесят вышиною, по наклонной плоскости длиною в полверсты или даже больше, если ваше сердце не замирало от какого-то сладостного томления, когда вы с быстротой хорошей скаковой лошади неслись по этому наклону, если ужас не охватывал вашу душу, когда раскатившиеся санки стрелкой перескакивали через зловещие полыньи и проруби, и если вы не выскакивали, как резиновый мяч, из этих самых санок, с разбегу ударившихся о какую-нибудь преграду, – вы едва ли поймете всю прелесть заправской детской зимы! Что за дело, что можно отморозить уши или нос, – уши не отвалятся, то же будет и с носом! Но вы сумейте-ка пролететь от вершины горы до ее подошвы, не забывая, что гора эта служит подъемом с Волги и что по ней беспрестанно тянутся десятки подвод и сотни разного народа, сумейте направить между всеми этими препятствиями или по крайней мере попасть под лошадь и вывернуться из беды, сбить кого-нибудь с ног и удрать вовремя, – вот в чем настоящая прелесть, вот где истинная задача каждого маленького рыцаря! Не скажу, чтобы особенно блестяще, но, надеюсь, достаточно добросовестно исполняли мы эту нелегкую задачу, подтверждением чего могли бы служить наши постоянно лупившиеся от зноба уши и носы да целый ворох всевозможных жалоб, поступавших на нас от разных врагов наших…
V
– Ну, дети, мы отправляемся с папашей в гости, так вы уж, смотрите, ведите себя хорошенько.
– Слушаем, маменька.
– Мальчики, не смейте обижать девочек, и вы, девочки, тоже…
– Нет, не будем, маменька.
– Да няни слушайтесь.
– Хорошо-с, маменька.
– Савельевна! – обращается маменька к няньке, – ты уж присмотри за ними. А если покушать захотят, так вели Домне подать – она там знает что. А если спать кому…
– Нет! нет! нет! – восклицаем мы хором. – Мы ни за что спать не ляжем: мы будем вас дожидаться.
– Да ведь мы в двенадцать часов вернемся. Глупенькие!..
– Нет! нет! нет! – повторяет хор, – мы будем дожидаться.
– Ну, хорошо; только – не шалить!
– Не будем, не будем.
– Ну, прощайте!
Матушка перецеловывает всех нас и идет к двери.
– Да Домну позовите из кухни – пусть она с вами играет! – оборачивается на пороге матушка и затем уходит.
Такими наставлениями обыкновенно сопровождалось отбытие родителей из дома, причем наставления делались в возможно строгом тоне, а принимались с покорностью и лицемерными уверениями в намерении им следовать. Но лишь только грохот отъезжающего экипажа возвещал, что родители за воротами, маленькая республика вступала в свои права. Прежде всего открывался поход на Домну.
– Что же, господа? Домне велели играть с нами, а она на кухне сидит.
– Идемте, господа, за ней.
– За Домной! за Домной! – раздаются голоса.
– Мы, мы, вперед мы! – бросаются к дверям сестры.
– Нет, мы!
– Не пускать, не пускать мальчиков: они здесь гости.
– Как, гости?!
– Так и гости – мы хозяйки!
– Валяй этих хозяек, ребята! – командуем мы и бросаемся в схватку.
Схватка начинается жаркая; крики сражающихся мешаются с воплями раненых и увещаниями няньки и наполняют комнату. Дверь переходит из рук в руки, и первенство над ней долго колеблется между сторонами, до тех пор, пока Домна не догадается вылезть из своей кухни и не появится на поле битвы.
– О, ну вас к лешаку! Ишь разодрались, петушье! – бросается между сражающимися кухарка и разводит бойцов.
– Что, взяли! Что, взяли! – дразнят нас сестры.
– А все-таки не пустили первых.
– И мы вас не пустили.
– А мы вас зато за волосы отодрали.
– А мы вас за уши. Что?..
– Вы космы-то подберите, – ворчит на сестер Домна. – Гляди-ка, как раскошлатились, бесстыдницы, ровно русалки какие! А еще барышни прозываетесь!
– Домнушка, давай с нами играть, – приглашают сестры кухарку.
– Нет, Домаша, с нами, с нами!
– Нет, с нами. Мы тебе сейчас кукол принесем, а ты будешь как будто барыня и придешь к этим куклам в гости, а они угощать тебя будут. Хорошо, Домнушка?
– Ну, ладно, ладно!
Сестры бегут за куклами, а мы тем временем усаживаем Домну около себя, держим ее крепко за руки и начинаем какой-нибудь разговор, так, больше для видимости, чтобы только показать, что она занята с нами.
– Ну, что же это такое? – с огорчением бормочут возвратившиеся сестры, – мы Домну было себе взяли, а тут мальчишки проклятые отбили.
– Что? Что?! – радуемся мы, мальчики.
Стороны обмениваются плевками, и сестры, делать нечего, присаживаются к няньке.
– Няня! хочешь в гости к куклам приходить?
Няня, у которой под старость, словно в награду за ее долгую жизнь, осталось только два недуга: глухота и слепота, не слышит и молчит.
– В гости, в гости приходить! – кричат ей на ухо сестры.
– Какие, барышни, теперь гости: теперь добрые люди спать ложатся.
– Ах, какая она противная, эта глухая тетеря! – сердятся девочки. – Вот к куклам, к куклам! – тыкая пальцами в кукол, еще громче кричат они.
– И куклы, матушки, пойдут спать, – заговоривши о сне, все на ту же тему бормочет Савельевна. – Братцы лягут, вы ляжете, мы с Домной поляжемся, – все бай-бай будем! – протяжно, себе под нос, изъясняет старушка и, увлекшись, даже уже заранее зажмуривает глаза и уныло запевает:
Баю-баю, солдатский сын,
Войной повитая головушка,
С острой шабли вскормленная,
Из пригоршней вспоенная,
Жгучей лозой взбодренная! – и т. д.
Но едва только наша нянька начинает распеваться и подробно излагать горькую долю солдатского сына, то есть кантониста, едва она доходит до того места песни, где рассказывается, как «жгучей лозой взбодренный» солдатский сын «ронит из глаз слезиночку», – как сестры зажимают певунье рот, и песня прекращается.
– Ну, что это заныла с которых пор! – с досадой обрушиваются на старуху девочки.
Старуха покоряется и умолкает. Сестры видят, что с этим олицетворением глухоты и слепоты ровно ничего не поделаешь, и обращаются к нам, но на этот раз уже вполне дружелюбно.
– Мальчики, отдайте нам Домну, – упрашивают нас сестры, – ведь она вам ни на что не нужна, а с нами бы она играла в куклы.
– Как же, так и отдали…
Мы еще крепче вцепляемся в кухарку.
– Да ведь вон она так же молчит, не играет с вами.
– Теперь она отдыхает, – толкуем мы о Домне, точно о какой-нибудь корове или лошади, – а зато перед этим рассказывала нам про колдуна.
– Это, как бабе колдун собачью морду вместо лица наколдовал?
– Да-а…
– О, это мы давно знаем!
– А потом еще расскажет что-нибудь. Нет, она нам самим нужна.
– Ну, слушайте, мальчики! – решительно обращаются к нам сестры. – Если не хотите так отдать, так продайте нам ее.
– Нет, не продадим.
– А мы бы вам орехов за это дали. И орехов бы дали, и вот еще няньку в придачу: она песни хорошо поет, сказки отлично сказывает, – обольщают нас сестры.
Но мы ни на какие обольщения не поддаемся и упорно удерживаем Домну за собою до тех. пор, пока баба не уразумеет сама, что ею распоряжаются точно вещью какой-нибудь.
– Что это я вам, крепостная, что ли, какая далась? – вламывается она в амбицию.
– Ну, Домнушка!..
– Ишь волю-то взяли! На-ка, какие торговцы объявились!
Домна с сердцем вырывается от нас и садится прямо на пол, вдали и от покупателей и от продавцов. Минуту она сидит молча, отвернувшись от нас, потом откашливается, подпирает ладонью щеку и тонко-тонко, пронзительно затягивает:
Что за мальчик, разудальчик,
Что за душенька, шельма, хорош:
Вложил мысли в мое сердце —
Не могу вовек забыть!
Мы начинаем приставать к ее песне, затягивая, кто в лес, кто по дрова; голоса наши будят прикорнувшую было няньку, и она некоторое время вслушивается, а затем и сама присоединяется к певцам, – и скоро комната наполняется самыми разнообразными звуками, то сливающимися в общий рев, то словно разбегающимися в разные стороны, как испуганные зайцы, почуявшие близость своих врагов, собак. По окончании пения, то есть после того как все мы накричимся до сипоты, а Домна объявит, что она «инда взопрела, горло драмши», следует игрище, известное под именем «жированья» и состоящее ни больше, ни меньше, как в том, что мы набрасываемся на Домну, вытягиваем ее на полу во весь рост и потом начинаем перекатывать из одного конца комнаты в другой. Гвалт при этом идет ужаснейший, потому что Домна баба ражая, и, чтобы своротить ее с места, нужно порядочно-таки повозиться с нею. Сначала Домна принимает это «жированье» шутя, потом просит нас отвязаться от нее, наконец, видя, что ни шутки, ни просьбы не помогают, озлобляется и принимается нас тузить со всем азартом рассвирепевшей глупой бабы. Хотя наши бока и спины достаточно-таки страдают от тяжеловесных кулаков кухарки, но мы не скоро уступаем, и начавшееся игрой «жированье» оканчивается уже вовсе не шуточно. Картина этого конца, сколько можно припомнить, бывала такая: в одном углу комнаты, растрепанная и растерзанная, стоит Домна и горько рыдает, в другом, сбившись в кучу и перемешавшись мальчики с девочками, толпимся все мы; на полу валяются опрокинутые стулья, разбитая посуда и клочки разных рукавов, воротников, платков и проч.; нянька, как потерянная, торопливо топчется среди погрома и со страхом приговаривает: «Ай, батюшки вы мои! Ай, батюшки, беда какая стряслась!»
– Да я этакой жизни отродясь не привидывала! – горючими слезами обливается Домна в углу. – Кажется, в аду, вот которых грешников нечистые горячими кочергами жарят, так и там легче, ничем с этакими идолами, прости господи!
Мы поджали хвосты и молчим.
– У других, у прочих, – продолжает причитывать кухарка, – ежели мальчишки озорничье, так хоть девки поумнее да посмирнее, а у нас и мальчишки и девки – один черт на дьяволе!
Домна принимается осматривать свой костюм.
– Фартук вон совсем новенький, всего только одна дырочка и была, намедни об уголь прожгла, ситец-то по восьмнадцати копеек за аршин брат, – а теперь куда его – бросить! А бу-усы! – снова рекой заливается кухарка, – они мне от тятеньки, может, заместо бласловения дадены, тут, может, одних наказов сколько было, – а теперь где он-ни-и-и?..
И Домна начинает лазать по полу и собирать зерна бус.
– Ну уж, – приподнимаясь, ударяет она кулаком по столу, – если я да не разжалоблюсь отцу, – вот расстрели меня пострел! Дай мне вот, господи, с места не сойти, если да не разжалоблюсь! – решительно произносит Домна и быстро, точно ураган, вылетает из комнаты, крепко хлопнув дверью.
– «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – крестясь, шепчет нянька.
На нас нападает уныние.
– А ведь она пожалуется? – решается наконец предложить вопрос кто-то из сестер.
– Вы спать ложитесь, что тут толковать.
– Ну, а вы как, мальчики?
– А мы дождемся, когда наши приедут, поскорее простимся с ними, да и мах к себе!
– А если спросят: как себя вели?
– Так что же, мы скажем, что хорошо. Разве не сумеем сказать?
– Ну, а если она после вас пожалуется?
– Так разве ночью искать будут?
– Вот и отлично! – радостно заключает старшая сестра. – Стало быть, если даже она и пожалуется без вас, так мы все на вас свалим, скажем, что это мальчики.
– Да, ишь ты какая ловкая! Это, чтобы он к нам пришел…
– Так как же?
– Просто притворитесь, что вы спите, – вот и конец.
На этом все рассуждения и повершаются: сестры ложатся спать, а мы сидим точно на иголках и ждем возвращения родителей. Тишина стоит в комнате такая, что, кажется, слышно, как муха пролетит. Кто бы мог подумать, что в этой именно комнате сидят и бодрствуют три страшных и известных всему околотку брата-разбойника? Да, в эти минуты я бы никому не пожелал быть на нашем месте!
Однако, по большей части, все страхи оказывались напрасными, потому что родители возвращались из гостей усталыми и тотчас же отсылали нас, мальчиков, к себе спать, даже и не спрашивая о том, хорошо или дурно вели мы себя. Даже бывало и так, что пока родители раздевались в прихожей и мы не только что не успели доложить о своем хорошем поведении, но даже не видели еще их, как Домна, принимая верхнее платье, слышим, уже жалуется:
– А они у мене, барин, бусы разорвали…
А отец, слышим, ей на это:
– Ну, ну, матушка, завтра с твоими бусами: на это день есть, а теперь пора спать. Завтра всех разберу, – прибавляет он и входит в комнату. – Марш по местам! – командует отец нам.
Мы как пули просвистываем мимо.
А на следующий день, смотришь, Домна успокоилась, а отец – тот и совсем позабыл, – так что вот как широко вздохнешь… кажется, чуть не до разрыва легких! Большая бывает радость тогда!








