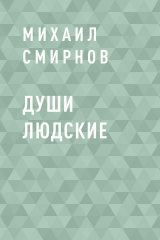
Текст книги "Души людские"
Автор книги: Михаил Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– О, значит, с меня подарок, – заторопился дядька Ефим. – И не противься! Так принято…
– Ладно, дядька Ефим, я побегу, – сказал Андрей. – Мне ещё к Петровне нужно заскочить, потом к Авдеевым и Гусаковым загляну и домой поеду – устал сегодня, – и взглянул на Романа. – А ты, Ромка, надолго прикатил?
– Пока есть время, – так, неопределённо сказал Роман. – Успею надоесть.
– А, ну ладно, тогда ещё увидимся, – закивал головой Андрей. – Посидим, повспоминаем. Всё, я помчался.
И вышел, захлопнув дверь.
– Ай, молодца, Андрюшка, – покачивая головой, опять повторил дядька Ефим. – Никогда не отказывает. Попросишь его, всегда привезёт. И так для всей деревни старается. Молодца!
И принялся рассказывать про деревенскую жизнь.
Роман сидел за столом, прислонившись к стене, и слушал неторопливый говорок дядьки Ефима, который поглядывал в окошко, говорил, потом надолго умолкал, о чём-то думая и снова начинал прерванный разговор. Громыхал чайником. Наливал в кружки, незаметно пододвигал Роману, сам отхлёбывал и говорил, говорил и говорил…
– Дядяка, тяжело без магазина жить? – перебивая, сказал Роман. – Хлеб, соль, спички – это же самое основное. Помню, хоть каждый день готов был бегать в магазин. Зайдём с пацанами, у всех глаза разбегаются. Так бы и съели все конфетки. А сейчас…
И Роман махнул рукой.
– Андрей привозит, – кивнув, сказал дядька Ефим. – Если уж некогда ему, тогда два-три человека собираемся и потихонечку идём в Леснинку – это пять километров отсюда. Там ещё работает магазин, не успели закрыть. Пораньше выходим, по холодку добираемся, пока всё купим, а берём не только для себя, но и другим, вот и говорю, пока купим, пока посидим возле магазина, новости послушаем да свои расскажем, а потом возвращаемся. Глядишь, уж обед давно прошёл, а мы ещё телепаемся. Летом можно ходить, а вот в слякоть да в пургу не набегаешься. Одна надёжа – это Андрюшка, а без него, хоть ремень туже затягивай. Так и живём…
– Дядька, где сейчас ребятишки учатся? – опять спросил Роман. – Школа-то развалилась, как заметил. Пустыри и груды мусора.
– В нашей деревне ребятишек не осталось, – сразу нахмурился дядька Ефим. – Детей нужно учить, а не закрывать школы. Поэтому люди стали уезжать, чтобы детей на ноги поставить. Что говоришь, Ромашка? Работа… Да работы непочатый край. Вон, выгляни в окно. Поля обрабатывай, выращивай всё, что душе угодно, главное – не ленись, земля заботливых любит, но видать, кому-то это стало ненужным. Ну и… – он махнул рукой, закряхтел, налил стопку, опрокинул и даже не поморщился. – Ну и живём: один живёт и руки потирает, а пятеро с голоду подыхают. Оглянешься, позади жизнь была, вокруг посмотришь, всё разрушается, а вперёд заглянешь, тьма-тьмущая, одна чернота, а не будущее – это наши деревни во тьме стоят. Понял? Эх, заматериться бы, да Боженька осерчает…
Дядька Ефим взглянул на икону и размашисто перекрестился.
Допоздна засиделись за столом. Всё не могли наговориться. Много разговоров скопилось за долгие годы, пока Романа не было в деревне, а сейчас приехал, и решили наверстать упущенное время…
Роман подошёл к комоду. Постоял, посматривая на маленькую гармошку. Нахмурился. Для чего напомнила о себе гармошка – не мог понять…
– Дядяка, откуда она появилась? – он ткнул пальцем в гармошку. – Знакомая вещь. Глянул на неё, аж в груди полыхнуло.
И поморщившись, Роман стал растирать грудь.
– А, гармонь, что ли? – дядька Ефим искоса взглянул, продолжая что-то искать среди фотографий и всяких бумаг. – Это же гармошка нашего Володьки – дурачка. Она много лет тебя дожидалась… – всплеснул руками дядька Ефим. – Ох, голова садовая! Помнишь внука бабки Авдюхи? Ну, который дурачок, его прозвали Соловушкой, если память не изменяет…
– Ну, как же – хорошо помню его. Часто Соловушку вспоминаю, как услышу на улице гармошку, сразу поворачиваюсь. Всё кажется, что Вовка играет. А почему к тебе гармошка попала, да ещё целая? Вовка сломал, вся гармонь развалилась. Сам, своими глазами видел. Я думал, что её выбросили, а она целая… Эх, если бы ты видел, как Вовка убивался по ней! До сих пор перед глазами…
Роман частенько вспоминал старую Авдотью, и внука её, Вовку – друга своего…
Володька Ляпунов появился в деревне где-то весной, перед каникулами. Роман с ребятами играл в футбол на поле возле школы, когда он подошёл.
– Пацаны, я хочу играть, – донёсся пронзительный визгливый голос и на футбольное поле показался парень в галифе, в расстёгнутом кителе, была видна майка, в фуражке с оторванным козырьком, но со звёздочкой на околыше и в стоптанных тапках на босу ногу, а под мышкой держал небольшую гармошку. – Дай мячик, а? – и растерянно затоптался на месте, осматривая поле.
– Пацаны, кто это? – схватив мяч, Роман отскочил в сторону и удивлённо взглянул на парня, на его большую лысую голову, но маленькое морщинистое лицо, словно в кулак сжатое, заросшее клочковатой щетиной, с носом – пуговкой, маленькими глазками, а во рту окурок. – Сейчас мяч отнимет, а потом попадёт от бати.
– Ай, – небрежно махнул рукой пацан, стоявший рядом. – Это же Володька – дурачок. Вчера бабка Авдотья привезла его. Ты, Ромка, не бойся его, он хороший, хоть и дурак. Не бойся. Володь, айда к нам, – крикнул и побежал навстречу. – В нашей команде будешь играть.
– Здорово, пацаны! – закартавил Володька, осторожно положил гармошку позади ворот, оглянулся на неё и, вихляя задом, медленно побежал к мальчишкам. – Дай мячик. Я стукну. Я умею!
Так деревенские мальчишки познакомились с Володькой – большим ребёнком.
…Володьку Ляпунова привезла старая Авдотья, а по-простому, бабка Авдюха. Ему было лет двадцать, может, чуточку поменьше или побольше. Говорили, что бабка Авдюха получила письмо, быстро подхватилась и в тот же день укатила, оставив домовничать соседку, тётку Надю. Недели две-три её не было. Роман этого не помнил, но запомнил разговор дядьки Ефима с тёткой, когда вечеряли. Тётка Варвара стала рассказывать, что бабка Авдюха умчалась к старшей дочке, а доченька подсунула этого Володьку, сына своего. Дурачок. Видать, надоело возиться, вот и сплавила матери, а сама взяла билет и на край земли укатила, поехала деньги зарабатывать. Обещала, что станет Вовке помогать. Говорила матери, что ему лучше в деревне жить, потому что в городе его обижают, издеваются над ним, а она не может с утра и до вечера за ним присматривать. У неё же своя жизнь, которую нужно устраивать. В общем, золотые горы наобещала старой Авдотье, Вовку сплавила, а сама смоталась. Лучше будет в деревне… Многие смеялись над Володькой, когда он в деревне появился. Некоторые издевались. Особенно, подвыпившие. Мальчишки, первое время, когда сталкивались с ним, пальцами показывали на нескладную грушевидную фигуру, на галифе и стоптанные тапочки, на линялую грязную майку и китель с блестящими пуговками. Показывали на него, смеялись над ним и обзывали – дурачком. А старухи жалели, всё конфетку норовили ему сунуть. Убогонький, ласково называли. Володька был слаб умишком, мало говорил, но был добрым, даже слишком добрым, а ещё наивным и безобидным – этим пользовались взрослые и ребятня. Володьку быстро научили материться. И Вовка ругался: долго, всяко, многоэтажно – это деревенские мужики научили. Так ругался, что любой боцман позавидует. Мужики, частенько просили, чтобы он поматерился и Володька вовсю старался и, услышав громкий смех, тоже вслед за всеми смеялся: тоненько, долго и визгливо. Володька, не умея читать и писать, не зная ничего из жизни, не понимая людей, он в то же время умудрялся любить всех и вся, и относился к людям и ко всему живому с добром, потому что, по-другому не умел…
Володькой никто не занимался. Старая Авдотья поднималась утром, потихонечку занималась хозяйством, а Вовка брал свою гармошку и отправлялся на улицу. Садился на скамейку возле двора и, склонив голову к гармошке, нажимал на кнопки и, растягивая меха, тоненьким, пронзительным голосом начинал петь непонятную песню, если это можно было назвать пением. Собаки, первое время, едва услышав его визгливый голос, поднимали разноголосый лай, а соседи ругались, грозили кулаками, чтобы заткнулся, но Вовка никого и ничего не слышал, он играл и пел…
– Здорово! – Володька заулыбался, когда на дороге заметил соседа. – Как дела?
Он здоровался со всеми, кто встречался по дороге и улыбался всем: радостно, искренне. Так может улыбаться лишь человек с чистой душой или малый ребёнок, кем он и был, собственно говоря.
– Здорово, Вовка, – мужик подошёл, протягивая руку. – Что сидишь?
– Песню пою. Хорошую! – Володька улыбнулся. – А я умею на гармошке играть.
– На другом конце деревни слышно, как гармонь мучаешь, – сказал мужик и вытащил пачку папирос. – Ты бы потише горло драл, а то гляди, соседи отлупят, или собаки порвут. Вовка, закуришь?
– Ага, – радостно закивал башкой Володька и быстро оглянулся на дом. – Бабка Авдя ругает, когда курю. Нехорошая она.
– Кури, я не скажу, – мужик протянул папиросы, дал прикурить и засмеялся, когда Володька закашлялся. – Ладно, Вовка, я пошёл на работу. Пока.
– Пока, – шмыгая носом, пробубнил Володька.
Володька смотрел вслед, а потом снова брался за гармошку и начинал беспорядочно нажимать на кнопки и петь. Щекой прижмётся к гармошке, губы вытянет трубочкой и заливается. О чём поёт – этого никто не знал, знал лишь Вовка. Но всегда говорил, что песни хорошие, что поёт для всех. Он любил всех, а вот многие люди избегали его, не здоровались, не протягивали руку, когда он тянул свою. И общаться избегали. О чём можно говорить с дурачком? Он же словно ребёнок. Многие взрослые видели не человека в Володьке, а дурака, над которым можно посмеяться. Старухи жалели его. А вот ребята любили Володьку. Он добрый и хороший, ну, а то, что умишком слабоват… Ну и что? Главное, Вовка такой же, как и они. И мальчишки не смотрели, что с ними играет взрослый парень. Володька стал своим среди ребят…
Роман бросал все дела и бежал ко двору бабки Авдотьи, едва заслышав рвущиеся звуки гармошки и непонятные песни. Прибегал. Садился рядом на лавку, а бывало, что на траву перед Володькой и, обняв колени, всё пытался понять его непонятные песни. А Вовка не замечал его, как не замечал других. Он пел и играл – это главное, а остальное для него не существовало…
– Вовка, пошли с нами на речку, – закричали ребята, подбегая к лавке. – Вода тёплая-претёплая!
Володька поднимался и, держа под мышкой гармошку, вихлясто спешил за мальчишками к реке. Все купались, а Вовка садился на берегу и опять играл и пел песни для них, для своих друзей…
– Что ты орёшь, как оглашенный? – на крыльце появилась бабка Авдюха. – Ни днём, ни ночью никакого покоя не даёшь, ни мне, ни соседям. Ишь, тоже мне, объявился Соловушка из Васильевки! Ну-ка, зайди в избу. Я пшённую кашку потомила. С пенками. Вкусная – страсть!
И Володька уходил, но вскоре возвращался, размазывая остатки каши по лицу, усаживался на скамейку возле двора, осторожно брал гармошку и, склонив голову, опять начинал растягивать меха и петь свои песни.
– Авдюха, уйми своего полоумного, – доносилось с улицы. – Ишь, привезла соловья залётного! Громче радио орёт. Всех кур перепугал. Нестись перестали. Уйми его, говорю! Иначе, заставлю свои яйца отдавать.
– Откуда у меня яйца-то? – всплёскивала руками бабка Авдя, появляясь на крыльце. – Полтора петуха да одна курица. И как же уйму Вовку-то? У него умишко – кот наплакал, – и тут же кричала. – Вовка, зараза такая, хватит орать!
А Володька ничего и никого не слышал. Он играл и пел…
– Ребятки, ребятки, – тогда кричала бабка Авдюха, заметив мальчишек на дороге. – Возьмите с собой Вовку, пусть с вами играется, а то соседи на него жалуются, а я вас карамельками угощу.
И каждому совала по слипшейся конфетке. Мальчишки тормошили Вовку, а потом бежали с ним на речку, в лес или на футбольное поле.
Роман помнил, Володька с ними всё лето пробегал. Везде побывал. На рыбалку с пацанами ходил, в колхозный сад лазили за яблоками, а Вовка караулил, горох драли на поле или молодую кукурузу и охапками тащили куда-нибудь на берег речки, а бывало, если попадали на маслобойку, выпрашивали зёрнышки или жмых и делили на всех, а потом мчались на свои места. И Вовка везде был, и всегда с ним была его гармошка. Ни на секунду не расставался. Выдавалась свободная минутка, Вовка усаживался на траву, на бревно, на камень или на голую землю, прислонялся к гармошке щекой и начинал петь свои непонятные песни. И ничего не могло его отвлечь в эту минуту: ни семечки, ни яблоки, ни карамельки бабки Авдюхи…
Не успели оглянуться, а лето ушло. Ребята пошли учиться, а Вовка остался дома. Все уходили в школу, а Вовка усаживался на скамейку возле двора и начинал играть. А бывало, приходил к школе и тогда срывались уроки, учителя начинали ругаться, когда он появлялся перед окнами и тонким голоском начинал петь свои непонятные песни. И все ребята прилипали к окнам и стучали, а Вовка сидел, играл и никого не слышал. Иногда, чтобы ребята не баловались, учителя зазывали Володьку в класс. И тогда он, вихляясь, появлялся в классе, здоровался со всеми и всем улыбался, потом усаживался за последнюю парту и все уроки тянул руку, тоже хотел отвечать, а бывало, что поднимался посреди урока, опять выходил на школьный двор и принимался играть и петь.
С наступлением холодов, Вовка стал пореже приходить. Бабка Авдюха не пускала, и одежды не было. Случалось, появлялся в старой фуфайке-раздергайке, верёвкой подпоясанный, на ногах огромные разношенные ботинки, которые шлёпали и спадали при ходьбе, на голове солдатская фуражка и в руках неизменная гармошка. Сядет на бревно, нахохлится, плечики поднимет и начинает красными пальцами нажимать на кнопки, и снова своё запоёт. А ветра студёные. Посидит, озябнет, оглянется на окна, потопчется и, никого не дождавшись, медленно вихляет по разбитой мокрой дороге в сторону своего дома. А ребята сидели за партами и смотрели ему вслед…
Зимой Володька не выходил. Бабка Авдюха строго-настрого запретила шляться по улице. Околеть можно, как в деревне говорили. Суровая зима была, с морозами да метелями. Как завьюжит, ни зги не видно. По три-четыре дня метели бушевали. По крышу дома заносило. В светлые дни, когда непогодь отступала, ребята выбегали на улицу. Играли в войнушку, с горок катались или крепости строили, а Вовка сидел дома. Не пускала бабка. Одёжки не было, а купить не на что. Дочка, как умотала на край земли и ни слуху, ни духу, ни одного письма не прислала, не то, что деньгами помочь. Вот бабка Авдя и тянула Вовку на свою пенсию.
По весне, едва потеплело, и снег стал подтаивать, а дороги превратились в сплошное месиво из снега, грязи и воды, Вовка вырвался на улицу. В последние дни криком исходил, никакого покоя бабке Авдюхе не давал, всё на улицу просился. И бабка Авдя не выдержала, отпустила его. Видать, самой уж до чёртиков надоело слушать всю долгую зиму Вовкины песни, и она махнула рукой – иди. И Вовка подхватился. Напялил растрёпанную фуфайку, сунул ноги в сбитые огромные ботинки, на голову свою неизменную фуражку, в руках гармошка и пошлёпал по деревне. К ребятам заторопился, к друзьям. Соскучился за зиму. И ребята загалдели, к окнам бросились, когда услышали рвущиеся звуки гармошки и протяжный Вовкин голос. Соловушка появился. Он сидел на своём месте, на толстом бревне напротив окошек и, прислонившись щекой к гармошке, тонким пронзительным голосом пел свои непонятные песни. Уроки были сорваны, а может, сами учителя отпустили. И Роман с мальчишками выскочили на улицу, заталкивая учебники под ремень, и помчались через пустырь к речке. Вовка бросился за ними. Завихлял, заторопился за пацанами и споткнулся, не удержался и во весь рост растянулся в глубокой залитой колее. Пацаны смеялись, и Володька вслед за ними закатывался, стараясь подняться, а потом неожиданно вскрикнул и, стоя на четвереньках, стал руками шарить в грязном месиве. Заплакал, когда достал из залитой колеи гармошку с оторванными мехами. Видать, на неё упал. Сидел в глубокой колее, в весенней слякоти и плакал, словно маленький ребёнок. Хотя, если взглянуть, Володька был большим маленьким ребёнком. А Роман с ребятами стояли возле лужи и не знали, что им делать. Весенний ветер – промозглый, до костей пробирает. А на Вовке одёжка насквозь мокрая. И он, заливаясь слезами, медленно поплёлся домой, и всё продолжал обнимать свою гармошку. А ребята стояли и смотрели ему вслед…
А вечером прибежала бабка Авдюха. Роман сидел за уроками. Услышал, как бабка Авдя запричитала. Володька огнём заполыхал. В бреду заметался. Всё плакал, что гармонь не сберёг, что для друзей играть не сможет.
Вовка не смог оклематься, сожгла его простуда. Он помер на майские праздники. Последние дни бредил, в себя не приходил. Даже воду не пил. Всё бормотал про гармошку и пытался петь свои непонятные песни. Роман заходил к нему. Подолгу сидел возле него. Сказки читал. Вовка сказки любил. Разговаривал с ним, но Володька не отвечал, не слышал его. Он был в своём мирке. Частенько Роман сидел и слушал, как Вовка в бреду поёт и казалось, что Ромка стал понимать его песни, но понимал не слова, а душой чуял, о чём Вовка поёт…
День ясный был, солнечный, когда Вовку похоронили. Всем миром в последний путь собирали. И Роман впервые увидел его в поношенной, но чистой рубашке, в потёртом пиджаке, видать, кто-то из деревенских мужиков отдал, полоска на лбу, а на лице была улыбка, казалось, что Вовка сейчас откроет глаза, поздоровается и улыбнётся, а потом возьмёт гармошку и начнёт играть. Играть и петь для своих друзей. За телегой шла бабка Авдюха, рядом деревенские старухи, несколько мужиков, а чуть поодаль, чуть в сторонке, тянулись за телегой пацаны и девчонки, с кем Вовка дружил, кому песни свои непонятные пел… Старухи вытирали редкие слезинки. Мужики покряхтывали, хмурились, взглядывая на Вовку, и отводили глаза. А девчонки плакали, не скрывая слёз. И мальчишки толкались, смотрели под ноги, не поднимая головы, и нет-нет, незаметно уходили за кусты, а потом снова возвращались и опять взгляд в землю.
Тихо стало в деревне. Непривычно тихо. Некому надрывно рвать гармошку, некому стало петь. Мальчишки перестали играть в футбол. Всё казалось, что сейчас подойдёт Володька, осторожно положит гармошку на траву и скажет: «Пацаны, я тоже хочу играть. Дайте мячик». И люди, проходя мимо двора бабки Авдюхи, невольно взглядывали на лавку, где всегда сидел Вовка и играл на гармошке, никого не слыша, никого не замечая. И люди отводили взгляды, словно какую-то вину чувствовали перед ним, перед Вовкой – дурачком. А может, и была вина – кто знает…
Бабка Авдюха сильно убивалась по Володьке. Каждый день собиралась и уходила на кладбище. Садилась возле простенького крестика, где стоял небольшой венок, да лежали несколько маленьких букетиков. Сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, поглаживала холмик земли и не плакала, видать, все слёзы уже выплакала, а смотрела вдаль и шептала.
– Володенька, соловушка мой, я пришла, а ты молчишь. Прости меня, что на улицу отпустила… Моя вина, что занемог. А ныне… Я должна лежать в земле, а ты раньше меня туда ушёл… Прости, соловушка…
Бабка Авдюха сидела, гладила морщинистыми пальцами холмик, уголком платка прикрывала впалый рот, всё прощения просила у Володьки, а бывало, начинала заунывно тянуть какую-то непонятную песню. Казалось, что она Володьке подпевала, а остальное вокруг неё не существовало.
Уже лето прошло. Рябина заполыхала. А бабка Авдюха продолжала ходить на кладбище. Садилась на своё место возле креста и начинала просить прощения, поглаживая холмик, а потом начинала тянуть одну и ту же непонятную песню, и всё вдаль глядела, словно хотела что-то рассмотреть, а может и видела то, чего остальные люди не замечали. Кто её знает…
Давно уж бабки Авдюхи нет. Рядом с Вовкой похоронили, как она просила. Всё дочку ждали, а она не приехала. Даже ни одного письма не прислала. И ей некуда было написать. Адрес не оставила, когда на край земли умотала. Двери и окна заколотили. Тоскливо стало ходить мимо избы бабки Авдюхи. Крыльцо обвалилось, следом крыша просела, обнажая стропила, двор в зарослях крапивы да репейника. Забор давно обвалился, а скамейка, на которой всегда сидел и играл Володька, до сих пор стоит. И тоска накатывала, когда люди проходили мимо пустого дома. Всем слышались рвущиеся звуки гармошки и тоненький пронзительный голос Володьки Соловушки, который пел свои непонятные песни…
– Забыл сказать, гармошку принёс дядька Николай – он мастер на все руки был. Бабка Авдюха попросила починить, и сказала, когда её похоронят, чтобы гармошку отдали тебе, Ромашка. Это память о твоём друге, Володьке – дурачке или Соловушке, как его прозывали в деревне.
Роман взял гармошку. Долго сидел, о чём-то думал, может, Вовку вспоминал, а потом прислонился щекой к гармошке, разнеслись рвущие звуки и Роман затянул непонятную для других песню. Песню, которую всегда пел Вовка – дурачок, в которой нужно понимать не слова, а её надо чувствовать душой…
И Роман понял душой.
Соловушка вернулся…
Чужая жена
На улице смеркалось. Там и сям зажигались фонари. Запестрели вывески на магазинах: яркие, цветные, зазывающие. Юрий Борисыч засобирался, взглянув в окно. Поздновато. Пора домой. Сегодня ездил к племяннице. День рождения отмечали. Своих детей не было. Как-то не получилось. Всё времени не было на детей: работа, переезды, снова работа и карьера, а оглянулся, время упущено, как сказала жена и добавила, что в наше нелёгкое время заводить детей – это лишняя и никому ненужная обуза, и друзья не поймут. И Юрий Борисыч смирился, а может уже привык к размеренной жизни, где не нужно было ни о чём думать, потому что всё расписано на долгие годы вперёд. Смирился, но привязался к племяннице, к Ларочке и всё, что было в душе, отдавал ей, словно родной дочери.
Они весь долгий летний вечер просидели за столом. Веселились так, будто в свою давнюю молодость вернулись. Давнюю… Неужто в старики записался, Юрий Борисыч мотнул головой. Недавно был молодым, а уж списал себя. Он хмыкнул и расхохотался, когда брат стал вспоминать Ларочкины проделки в детстве и в школьные годы. Казалось, девчонка росла, но такая шкода была – это ужас! Мальчишки во дворе опасались с ней связываться, а в школе учителя жаловались на неугомонную Ларочку. А сейчас сидит за столом и глазки в пол, видите ли, она стесняется, видите ли, она повзрослела, а у самой нет-нет, бесенята в глазах мелькают. Вот уж кому-то достанется жена – не соскучишься…
Юрий Борисыч сидел за столом, от души смеялся и, как обычно, напрочь забыл про жену, которая выискивала любые предлоги, лишь бы не ходить в гости к его родственникам. С самого начала семейная жизнь не заладилась. Прошла свадьба, гости поразъехались, и жена стала избегать общения с ними, особенно не любила застолья, где выпивали, а бывало, вылетало крепкое словцо. Все смеялись, а она хмурилась, сразу бровки к переносице, губы полосочкой сжаты и цедит, что шагу не сделает в гости, пусть хоть обзовутся. И не делала, всё причины искала, лишь бы дома остаться, а то к подругам уходила, к таким же, как сама: холодным, неприступно-гордым и холёным. Не было в ней тепла. Чужой оказалась. Первые годы это тяготило Юрия. Всё не мог смириться, как же можно так жить, а потом привык. У неё своя жизнь, которую он тоже избегал, где было скучно и сухо, словно на официальном приёме, где только и приходилось с дежурной улыбкой расшаркиваться, да ручки лобызать. А у него была своя жизнь, когда он отправлялся в гости к родственникам. Пусть не такая яркая и светская, как называл, но более тёплая, где ему всегда были рады. И до сих пор не мог понять, почему они живут вместе, хотя никто и ничто не связывает. Казалось бы, муж и жена, а на деле два чужих человека под одной крышей…
Юрий засобирался домой. Долго прощались в прихожей. Всё наговориться не могли. Потом вышел на улицу. Помахал рукой племяшке Ларочке, которая стояла на балконе, его провожала, и неторопливо зашагал в сторону остановки.
На улице теплынь. Позднее время, а по тротуарам неторопливо прогуливаются люди. Старики не спешат. Останавливаются, подолгу разговаривают и снова куда-то неспешно шагают, а некоторые сидят на многочисленных скамейках. Лишь молодёжь торопится. Ну, ей положено торопиться. Годы такие, когда хочется обнять необъятное, когда хочется нестись куда-то в дали дальние, хочется всю землю перевернуть и показать, глядите, мол, вот я какой! И молодёжь мчалась по улицам. Мчались в сторону центра, где вовсю полыхали разноцветные витрины и вывески, зазывая прохожих. Там кипит жизнь, там молодёжь бежит впереди времени, его обгоняя, а здесь, на лавочках, где сидят старики, время замедлило бег, стало тягучим, да и куда торопиться, если позади прожитая жизнь, а впереди всего лишь маленький отрезок времени остался. Не успеешь оглянуться, а твоё время ушло…
Юрий Борисыч вздохнул. Вроде ещё не старый, а мысли стариковские, словно долгую жизнь прожил. Да и какая долгая, если всего лет пятнадцать, а может и поменее, прошло с той поры, как в город перебрался. Служил в армии, собирался на дембель, мечтал, когда вернётся, сразу женится, а тут письмо принесли, что Алёнка выскочила замуж. Не дождалась, а почему – не захотел спрашивать, потому что гордый. Алёнка всегда писала, что скучает, всё про любовь говорила, а сама замуж вышла. И Юрий вместо того, чтобы домой вернуться и поговорить с ней, понять, что произошло, взял и уехал на край земли и мотался по стройкам и городам, по тайге и тундре, а потом в город перебрался. По улицам ходил и в каждой девчонке видел свою… нет, уже чужую Алёнку. Не выдержал. В деревню поехал. Неделю пожил и вернулся в город. А вскоре женился. Не думая, назло женился, всё доказать хотел, что счастлив будет. А стал ли счастлив – он пожал плечами…
На остановке несколько человек дожидались автобуса. Одни стояли, а другие сидели на скамье, а возле ног тяжёлые сумки и корзины – это огородники. Весь день на работе, а потом ещё торопятся на садовые участки и до позднего вечера ковыряются там. Работа найдётся, а времени как всегда не хватает. И поэтому они припоздняются. До последнего работают, а потом с полными сумками и корзинами тащатся на остановку. В автобус усядутся, не успеешь оглянуться, а они задремали и вздрагивают, когда водитель объявляет следующую остановку. И так, пока не закончится дачный сезон…
Подъехал полупустой автобус. Юрий пропустил вперёд огородников, которые неторопливо уселись на свободные места, а сам остался на задней площадке, возле последнего сиденья, в уголочек забился. Он всегда, когда ехал на автобусе, там вставал. Никому не мешает и выход близко. Юрий Борисыч прислонился к стенке, схватившись за поручень, и стал осматриваться. Огородники сидели, поклёвывая носом. Видать, уже дремлют. Умаялись на своих участках. Другие ехали, вполголоса разговаривали. Кто-то стал возмущаться, что из-за этих корзин не пройти по автобусу, весь проход заставили. А молодёжь веселилась. Шумно говорили, тут же знакомились с девчонками, а некоторые уже и в любви успевали признаться. Автобус, как жизнь – всё рождается на глазах и проходит перед глазами…
Автобус останавливался. Одни выходили, следом поднимались другие пассажиры. Суетились возле входа, а потом каждый находил для себя место, кто-то усаживался на сиденья, а другие хватались за поручни и автобус трогался.
Юрий закрыл глаза, держась за поручень. Устал. Тяжёлый день выдался. Вымотался на работе, а потом ещё поехал через весь город на день рождения. Нет, не жалеет, что поехал. Посидели с роднёй, пообщались, вволю наговорились и повеселились, и всё это под обильную выпивку и хороший стол. Так было всегда, когда собирались у брата. Полный стол простенькой еды без всяких деликатесов, но глаза разбегаются от изобилия и столько выпивки, что пугало, как казалось, но оттуда расходились не пьяные, а именно весёлые, потому что от хозяев зависит, каким уйдёт гость. А брат и его жена, Танечка, всегда отличались хлебосольством, чего не было в доме у Юрия и его жены. Юрий вздохнул… Не хочешь, а всегда сравниваешь. Он взглянул в окно. Темно. Изредка мелькали освещённые витрины закрытых магазинов. Устал… Разморило после выпитого. Ещё несколько остановок и он будет дома. Сполоснётся в душе, а потом отдыхать. Время позднее, а завтра на работу…
Он нахмурился, когда в проходе начали ругаться, и кто-то стал пробиваться к выходу, толкаясь локтями, а следом ещё пассажиры заторопились. Юрий не любил суету. Хоть и пришлось помотаться по свету, многое успел повидать, но так и не привык к суете. И, перебравшись в город, где свои порядки, утром, едва поднявшись, ему приходилось торопиться. Доберётся до работы, весь издёргается в переполненном автобусе или в трамвае, где все торопятся, все стараются обогнать время. Не успеет появиться на работе, и началась беготня до самого вечера, пока не закончится рабочий день. То авралы, то совещания или заседания, то остановка цеха или запуск новой линии и всё бегом, и все торопятся и подгоняют друг друга. И так беспрерывно: каждый день, недели, месяцы, годы… И однажды он заметил, что в этой непрерывно-суматошной жизни начинают стираться лица и люди, превращаясь в какие-то расплывчатые маски, перед глазами мелькают неуклюжие бесформенные фигуры, даже события стираются, тускнеют на фоне этой суматошно-хмурой жизни. Словно ластиком провели, и жизнь любого человека получается смазанной, незапоминающейся. Так, промелькнула перед глазами и всё, а оглянись и ничего из неё не вспомнишь. Всё серо, тускло и уныло, и люди такие же: суетливые и безликие, а потому и незапоминающиеся, потому что суетная и скоротечная городская жизнь со своими законами и привычками превращает людей в серые маски-лица. И торопятся по городским улицам безликие люди, забегают в магазины и автобусы, выходят и снова торопятся, растекаясь по улицам и переулкам, дробясь на ручейки, и капельками-живчиками исчезают в подъездах своих домов. Смотришь на них, а перед тобой сплошные серые и невзрачные лица-маски, которые не запомнишь, а встретишь – не узнаешь…
Юрий Борисыч ехал в автобусе и вспоминал детство. Он родился и вырос в деревне. И всегда, хотелось ему или нет, но перед глазами вставали яркие картинки из далёкого детства. Он вспоминал, как с друзьями, начиная с ранней весны, едва сходил снег, но в ложбинах ещё лежали сугробы, они брали картошку, краюшку хлеба с солью и мчались к реке. Лед только сошёл, кое-где на берегу лежали грязные льдины, вперемешку с поваленными и принесёнными течением деревьями, и всяким мусором, который по весне приносило половодьем. Они прибегали на берег и разводили костры. Пекли картошку, потом выхватывали озябшими руками и ели её, полусырую, всю чернущую, но такую вкусную, аж… Юрий звучно сглотнул, вспоминая картошку из детства. Наступал вечер, и они возвращались домой. Получали нагоняй от родителей за порванные штаны и грязную одежду, за то, что без спроса убежали на речку, где могли утонуть, где могло с ними что-нибудь случиться, и тогда что делали бы без них, без своих ребяток… Родители ругались, даже ремнём могли отходить, но потом остывали, заставляли мыться и усаживали за стол: голодных, озябших, но счастливых…








