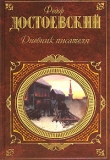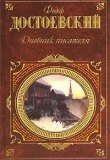Текст книги "Очерки, фельетоны, статьи, выступления"
Автор книги: Михаил Шолохов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
На юге
Из-за мрачной дымящейся пирамиды угольного шлака встает солнце. Лиловые тени на снегу удивительно быстро светлеют, а затем крыши шахтерских домиков и запушенные изморозью стекла окон, и одетые инеем ветви придорожных кленов, и далекие синие, заснеженные перевалы холмов вдруг вспыхивают под солнцем ослепительным розовым пламенем, и еще нестерпимее становится блеск натертой до глянца дороги.
С востока на запад по широкому шоссе движутся черные колонны людей. В задних рядах одной из колонн несколько человек, сбавив шаг, на ходу делают самокрутки, закуривают. Мой спутник спрашивает:
– Что за народ? На оборонительные работы идете, что ли?
Коренастый широкоплечий человек в замасленной ватной стеганке, сладко дохнув махорочным дымком, отвечает:
– Хозяева Донбасса – вот кто мы такие, а идем приводить в порядок взорванные и затопленные шахты. Понятно?
Оставшиеся бегом догоняют колонну, и снова в морозном воздухе шаги их сливаются с гулкой и согласной поступью сотен таких же настоящих хозяев Донбасса, идущих восстанавливать свои разрушенные шахты.
В рядах – старики, пожилые шахтеры, подростки. И если возвращающийся на производство, согнутый годами мастер как бы олицетворяет собою прошлое Донбасса, то пожилые шахтеры и подростки представляют его настоящее и будущее. Но цвета шахтерской молодежи среди идущих не увидишь: молодые и сильные, они далеко отсюда, на западе, в дивизии Провалова, в многочисленных частях Красной Армии сражаются за освобождение родного Донбасса, добывают победу своей великой родине.
* * *
Раскатисто погромыхивают итальянские тяжелые орудия. Им отвечает наша артиллерия. Бой, не затихавший и ночью, с рассветом возобновляется с новой силой. Находящиеся в Донбассе немецкие и итальянские части защищаются с яростью отчаянья. Трудно им покидать теплые хаты, расставаться с богатыми топливом населенными пунктами и бежать в снежную степь, где зловеще шипит текучая поземка и лютый ветер жжет огнем, пронизывая до костей.
Но бежать им все-таки приходится. Под ударами наших войск все чаще и чаще меняют они квартиры и торопливо перемещаются на запад, бросая на путях бегства оружие и снаряжение.
На Южном фронте, пожалуй, как ни на одном из фронтов, широко представлено разноязычное фашистское воинство. Кого только нет в составе захваченных нашими частями военнопленных! В мутной накипи обезоруженных головорезов, еще недавно глумившихся над мирным населением Украины, преобладают немцы, итальянцы, румыны, но есть также венгры и финны. Вот уж воистину:
…Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Именно стяжание и разбой объединили эту банду бестий и висельников, промышлявших под черным знаменем с раскоряченной фашистской свастикой. Это про них, грабителей, поджигателей и убийц, с мрачным человеконенавистничеством превращавших наши цветущие области в «зону пустыни», сказано словами Пушкина:
…Опасность, кровь, разврат, обман —
Суть узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства;
Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье,
Кто не прощает, не щадит,
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.
В плену их внешний облик разительно меняется. Вот они толпятся в просторной комнате, ежатся от холода и зябко дуют на руки. Обросшие лица их грязны и скучны, в глазах – грусть почти такая же, как у людей. От давным-давно не мытых тел и засаленного обмундирования их прет густым, острым запахом псины. На касках итальянских берсальеров жалко повисли обтрепанные петушиные перья. С запаршивевших в окопах гитлеровцев недавний лоск и наглую самоуверенность словно ветром сдуло. Итальянский офицер в женских шерстяных чулках, снятых с какой-либо колхозницы, униженно протягивает руку за папиросой и лепечет о том, что он не курил уже пятьдесят дней.
Так они выглядят здесь. Но предоставим слово тому, кто видел их в другой обстановке. Старик колхозник Колесниченко, недавно вырвавшийся из фашистского плена, часто трогает воротник своей старенькой рубахи, словно этот просторный воротник его душит, и медленно рассказывает:
– …Перед вечером проскакали через деревню ихние мотоциклисты. Потом прошло шесть штук танков, а следом за ними пошла пехота, на машинах и походным порядком. К ночи стала на постой часть какая-то особая: у каждого солдата по бокам каски нарисованы черные молнии, каждый глядит чертом…
Тут и началось такое, о чем вспоминать-то горько и тошно. В школу согнали девок наших, иных прямо волоком тянули по снегу. Измывались над ними сколько хотели, а потом трех из них – Марфу Солохину, Дуняшку Пилипенко и молодую замужнюю бабу из соседнего поселка – убили там же, в школе, вытянули их во двор и сложили возле крыльца крест-накрест.
Всю ночь шастали по дворам, птицу, скотину резали, заставляли женщин стряпать им, по сундукам, по кладовкам шарили… Ну, как во время пожара было в деревне! Скотина ревет, собаки воют, девки голосят по-мертвому. От этого шума во двор было ужасно выйти, право слово!
К утру угомонились. Вышел я на рассвете за калитку. Гляжу – сосед мой, Трофим Иванович Бидюжный, лежит возле колодца убитый, и ведро возле него валяется. Убили за то, что ночью вышел воды зачерпнуть, а по ихним законам мирным жителям ночью и до ветру выйти не разрешается. Утром они еще одного, хлопчика двенадцати лет, застрелили. Подошел он к ихней мотоциклетке поглядеть – ребятишки-то ведь до всего интересанты, – а фашист с крыльца прицелился в него из револьвера, и готово. Мертвых хоронить не разрешали. Матери-то каково было глядеть на своего сынишку! Глянет из окна, а он лежит около сарая, снегом его заносит, глянет – и упадет наземь замертво. Водой ее домашние отливают. Видал и я его, когда на собрание нас сгоняли. Шел мимо и видал… Что же, лежит малое дитя, согнулось калачиком и к земле примерзло. Девки возле школы лежали: юбки поверх голов завязаны телефонной проволокой, ноги в синяках. Кому надо мимо школы проходить, стороной обходят. Только тогда и прибрали убитых, когда эта часть ушла…
Старик рассеянно взял предложенную ему папиросу, повертел ее в руках и после короткого молчания продолжал рассказ:
– У меня в хате четверо квартировали. В первый же день зарезали супоросую свинью и двух овец. Что тут пожрали, а остальное с собой увезли. Овчины и то забрали. По сундукам, по кладовке с утра начали шарить. Что им было подходящее – забирали. Много добра с собой увезли, а в последний день дошла очередь и до моих валенок. Оделись они выступать, машины позавели, а тут один из них, высокий такой, с нашивкой на рукаве, указывает на мои валенки и рукой помахивает – снимай, мол. Жалко мне стало лишаться последней обувки, начал я их просить, а этот, с нашивкой, сукин сын, побелел весь от злости, как схватит винтовку, штык мне к горлу приставил и орет что-то. Старуха моя в слезы, шумит мне:
– Сыми! Сыми скорее, а то убьет он тебя!
А я оробел, молчу, нагнуться не могу, только и подумал: «Вот и конец мой». Ногой ударил меня фашист в живот, упал я на лавку, не вздохну. Зеваю ртом, а воздуха никак не наберу, даже в глазах потемнело… Старуха ко мне подскочила, проворно, как молодая, сняла с меня валенки и протягивает фашисту. Он было еще раз замахнулся на меня, колоть хотел, но увидел у старухи в руках валенки и чего-то смилостивился. Взял валенки, плюнул мне в лицо и начал обуваться. Остальные трое стоят у порога, смеются. Обул высокий валенки, сапоги свои в мешок положил, нехорошо, как-то вкось усмехнулся и первый вышел из хаты.
Ушли они, а спустя время новая часть вступила в деревню. Так все они одинаково хозяйствовали, что через несколько суток всю деревню нашу очистили, облупили, как вареное яичко.
– Хороша армия! – воскликнул присутствовавший при разговоре молодой веснушчатый и веселый лейтенант.
– Нету у них армии! – строго сказал старик. – Раньше, может, была, а сейчас нету. Не видал. Сам я служил в армии, в японской войне участвовал, с папашами нынешних немцев воевал, знаю армейский порядок, но такого, извините, не видал.
Разве раньше солдатам дозволялось грабить и мешки с награбленным за собой таскать? Греха нечего таить, брали и мы съестное, но уж детских пеленок не трогали, со стариков и старух обувку, одежку не стаскивали, с малыми ребятишками не воевали, женщин не казнили. А ныне им на то запрета нет. Им все дозволено, что на ум взбредет, то и сделают. Потом – армия по форме должна быть одетая. А у них как? Один – в шинели, на другом – нагольный полушубок, с соседа моего снятый, на третьем – поверх мундира обыкновенное бабье, серого драпа, пальто. Конечно, все они при оружии, но ведь и лихие люди, которые раньше на больших дорогах промышляли, тоже при оружии были…
И вот пошли в моей хате меняться постояльцы. Нынче – одни, завтра, глядишь, – другие, и всё разных держав. Один говорит: «я – поляк», другой: «я – венгерец», а третий молчит, но его по глазам, по воровской ухватке видно, что он – обязательно гитлеровец! Ну, я этим, какие себя называли, не верил. «Брешете, – думаю, – вы, проклятые! Никакие вы не поляки, не венгерцы. Будь ты поляк – воевал бы ты за свою Польшу, а венгерец – за свою венгерскую землю. А то так вы – вроде грибов поганок, выросли из одной навозной кучи, одним духом и дышите».
Был при мне такой случай: входит в хату ихний унтер и быстро что-то говорит солдату, какой назвался венгерцем, а венгерец, вижу, ни черта ничего не понимает, плечи то поднимет, то опустит, руками разводит, и глаза у него глупые-преглупые. Потом венгерец начал по-своему лопотать, а унтер плечами вздергивает и серчает, даже щеки у него краснеют.
Лоб в лоб уперлись, как бараны, лопочут каждый по-своему, никак один другого не поймут. Между собой нет у них одной речи, а по разбою у всех один язык: хлеб, яйки, молоко, картошки давай, капут – все говорят, и каждый либо штыком смерть показывает, либо коробкой спичек гремит – сжечь грозит. А вы говорите – армия. Какая же это армия, когда все они как будто из одной тюрьмы выпущенные?
За окном стояла морозная ночь. В печурке жарко горел угольный штыб. Старик снял со спинки кровати поношенную шубейку, кряхтя стал одеваться и, уже просунув руку в рукав, еще раз упрямо повторил:
– Нету у них армии, точно говорю.
С почтительной сдержанностью обращаясь к нему, лейтенант сказал:
– Вы, папаша, конечно, правы, но у них тоже есть идея, за которую они воюют.
Старик на секунду застыл с распяленной на руках шубой, но потом, как бы опомнившись от изумления, сурово спросил:
– Какая такая идея? Нету у них никакой идеи, да и слово это для них неподходящее.
– А вот есть она, – утверждал лейтенант, пряча в глазах чуть приметную улыбку.
Присев на кровать, старик молча всматривался в лицо лейтенанта и хмурил рыжеватые седеющие брови. Голос его звучал с ехидной официальностью, когда он попросил:
– Тогда объясните мне, товарищ командир, об ихней идее, потому что я человек малограмотный и, может, не так это слово понимаю.
– Вы не серчайте, папаша, – примирительно сказал лейтенант. – Идея у них точь-в-точь такая, как вы рассказывали. Дней пять назад окружили мы их обоз из тридцати с лишним подвод. Залегли они возле повозок, отстреливаются. Дело их конченое, деваться им некуда, но они не сдаются. Рядом со мной лежал молодой боец, только недавно прибывший в часть с пополнением. Видит он, что они так упорно обороняются, и говорит мне: «Видно, это идейные фашисты, товарищ лейтенант. Смотрите – не хотят сдаваться». – «А вот, – говорю, – перебьем их, тогда посмотрим, что у них за идея».
Ну, перебили их, как полагается, вчистую, начали тюки рассматривать. Обоз-то шел в тыл, а в тыл, кроме раненых, известно, что они отправляют. Распороли один тюк – детская обувь, отрезы ситцу и всякий другой материал, женские пальто, демисезонные и меховые, пшено в мешочках, калоши и прочее барахло. В другом мешке – такая же история. Подзываю я бойца, который заподозрил гитлеровцев в идейности, и говорю: «Видишь, что у них в мешке?» – «Вижу». – «Ну вот, – говорю, – и вся их идея, за какую они сражались. Идея-то их целиком в мешок влезет, а подкладка у нее ситцевая. Понятно?» – «Понятно теперь», – говорит красноармеец и смеется.
Старик внимательно выслушал лейтенанта, потом заговорил, и в голосе его зазвучало нескрываемое превосходство:
– Не так ты говоришь, сынок, хотя ты и командир по чину! Не знаешь ты, что такое идея, а вот я тебе объясню. Наш председатель колхоза Иван Иванович Черепица, бывало, скажет: «Есть у меня, граждане, идея плотину на Сухой балке насыпать и зеркального карпа в том пруду разводить». Всем миром взялись, сделали и перед войной уже полторы тонны карпа на базар вывезли, не считая того, что пошло на общественное питание.
Или так скажет: «А как, граждане колхозники, насчет такой идеи, чтобы мельницу-турбинку построить?» Глядишь – спустя время мельница готова, и даже из соседних колхозов везут к нам зерно молоть. Такая же была идея и с пасекой, и с шленскими овцами, и мало ли еще с чем по хозяйству.
Теперь тебе понятно, что означает идея? Это, милый человек, означает такое дело, от какого происходит народу одна польза. А ты это хорошее слово к грабежу припрягаешь. Грабеж, он так и называется грабежом. Грабят фашисты? Очень даже грабят? Значит, слово это им недоступное, и рядом с фашистами его ставить нельзя, а то оно вымажется около этих сукиных сынов. Молодые вы люди и кое-чего в жизни недопонимаете. Это я точно говорю!
* * *
…Враги еще дерутся с ожесточением, поговаривают даже о весеннем наступлении, но весной будут воевать не те гитлеровцы, которые топтали нашу землю в прошлом году. Под сокрушительными ударами Красной Армии полиняли они и полиняли безнадежно. Пленный обер-ефрейтор 3-й роты 160-го мотострелкового батальона 60-й мотодивизии Вильгельм Войцик говорит:
– Слова «домой», «назад в Германию» сделались просто паролем среди солдат.
Этот не лишенный наблюдательности ефрейтор на вопрос о том, каково качество поступавших в батальон резервистов, заявил: «Появилась новая черта в солдатах пополнения: они все время молчат и очень много курят».
Любопытная черта! Что ж, пусть попробуют наступать с такими резервистами.
1942
Письмо американским друзьям
Вот скоро уже два года, как мы ведем войну – войну жестокую и тяжелую. О том, что нам удалось остановить и отбросить врага, вы знаете. Вы, может быть, недостаточно знаете, с какими трудностями для каждого из нас связана эта война. А мне хотелось бы, чтобы наши друзья знали об этом.
В качестве военного корреспондента я был на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах. Сейчас я пишу роман «Они сражались за Родину». В нем я хочу показать тяжесть борьбы людей за свою свободу. Пока же роман недописан, я хочу обратиться к вам не как писатель, а просто как гражданин союзной вам страны.
В судьбу каждого из нас война вошла всей тяжестью, какую несет с собой попытка одной нации начисто уничтожить, поглотить другую. События фронта, события тотальной войны в жизни каждого из нас уже оставили свой нестираемый след. Я потерял свою семидесятилетнюю мать, убитую бомбой, брошенной с немецкого самолета, когда немцы бомбили станицу, не имевшую никакого стратегического значения, осуществляя свой разбойничий расчет: они попросту хотели разогнать население, чтобы люди не могли увести в степи скот от надвигавшейся немецкой армии. Мой дом, библиотека сожжены немецкими минами. Я потерял уже многих друзей – и по профессии, и моих земляков – на фронте. Долгое время я был в разлуке с семьей. Мой сын тяжело заболел за это время, и я не имел возможности помочь семье. Но ведь в конце концов это личные беды, личное горе каждого из нас. Из этих тяжестей складывается всенародное, общее бедствие, которое терпят люди с приходом в их жизнь войны. Личное наше горе не может заслонить от нас мучений нашего народа, о которых ни один писатель, ни один художник не сумели еще рассказать миру.
Ведь надо помнить, что огромные пространства нашей земли, сотни тысяч жизней наших людей захвачены врагом, самым жестоким из тех, что знала история. Предания древности рассказывали нам о кровопролитных нашествиях гуннов, монголов и других диких племен. Все это бледнеет перед тем, что творят немецкие фашисты в войне с нами. Я видел своими глазами дочиста сожженные станицы, хутора моих земляков – героев моих книг, видел сирот, видел людей, лишенных крова и счастья, страшно изуродованные трупы, тысячи искалеченных жизней. Все это принесли в нашу страну гитлеровцы по приказу своего одержимого манией крови вождя.
Эту же судьбу гитлеризм готовит всем странам мира – и вашей стране, и вашему дому, и вашей жизни.
Мы хотим, чтобы вы трезво взглянули вперед. Мы очень ценим вашу дружескую, бескорыстную помощь. Мы знаем и ценим меру ваших усилий, трудностей, которые связаны с производством и особенно с доставкой ваших грузов в нашу страну. Я сам видел ваши грузовики в донских степях, ваши прекрасные самолеты в схватках с теми, которые бомбили наши станицы. Нет человека у нас, который не ощущал бы вашей дружеской поддержки.
Но я хочу обратиться к вам очень прямо, так, как нас научила говорить война. Наша страна, наш народ изранены войной. Схватка еще лишь разгорается. И мы хотим видеть наших друзей бок о бок с нами в бою. Мы зовем вас в бой. Мы предлагаем вам не просто дружбу наших народов, а дружбу солдат.
Если территория не позволит нам драться в буквальном смысле слова рядом, мы хотим знать, что в спину врагу, вторгнувшемуся в нашу землю, обращены мощные удары ваших армий.
Мы знаем огромный эффект бомбардировки вашей авиацией промышленных центров нашего общего врага. Но война – тогда война, когда в ней участвуют все силы. Враг перед нами коварный, сильный и ненавидящий наш и ваш народы насмерть. Нельзя из этой войны выйти, не запачкав рук. Она требует пота и крови. Иначе она возьмет их втрое больше. Последствия колебаний могут быть непоправимы. Вы еще не видели крови ваших близких на пороге вашего дома. Я видел это, и потому я имею право говорить с вами так прямо.
1943
Могучий художник
Алексей Толстой – писатель большой русской души и огромного разностороннего таланта. Любовь миллионов читателей, которую он снискал своим долголетним творчеством, кипучим неустанным трудом и высокой требовательностью к слову, велика и заслуженна.
Детская сказка, исторический роман или военный очерк – все в строгих и взыскательных руках Толстого обретало искрящиеся жизнью краски и поражало своей почти осязаемой скульптурной выпуклостью, могучим мастерством истинного художника.
В своих публицистических статьях в дни Великой Отечественной войны Толстой-писатель, пламенно любивший родину и всем сердцем ненавидевший фашизм, заговорил гневным языком трибуна, и к голосу его с напряженным и пытливым вниманием прислушивались бойцы на фронте и те, кто в тылу помогал Красной Армии добывать победу.
В тяжелые для родины дни, когда гитлеровцы рвались к Москве, Толстой, верный сын разгневанной России, исполненный глубокой веры в свой народ, воскрешал перед советскими людьми историческую славу русского прошлого, заветы наших великих предков. «Сдюжим!» – звучало в его статьях. И сами заголовки статей Толстого звучали как призывы: «К подвигам, к славе!», «Упорство», «Самоотверженность», «Вера в победу», «Разгневанная Россия», «Несокрушимая крепость», «За Советскую Родину!», «Я призываю к ненависти».
Простыми и волнующими своей душевностью словами выразил он свою любовь к советской отчизне в статье «Что мы защищаем», написанной 27 июня 1941 года:
«…Моя родина, моя родная земля, мое отечество, в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе…»
В другой статье он вдохновенно писал о советском человеке, о «психологии советского и, в первую голову, русского человека, который, крепко хлебнув от напитка свободы, познал, что помимо человекоубийственных цифр германского империализма, под живоносным солнцем существует высшая справедливость… и существует Советская Родина – страна отцов и дедов, уготованная для счастья сыновьям нашим и внукам».
В благодарной памяти народа не забудутся эти слова любви и веры, сказанные в тяжелые дни.
Толстой был верным продолжателем лучших традиций русской литературы и ревнивым хранителем чистоты русского языка. Молодое поколение советских писателей, чьим верным другом всегда был Толстой, многим обязано ему.
В дни войны Толстой-художник не ограничивался публицистическими выступлениями и напряженно работал над монументальными художественными произведениями – романом «Петр I» и драматической повестью «Иван Грозный».
Все мы испытывали чувство большой, теплой радости оттого, что вот он – жизнелюбивый, брызжущий искрометным русским талантом, Толстой живет и творит рядом с нами, с любовью и надеждой следили за его творчеством, жадно листали страницы журналов в поисках его имени… Тем тяжелее и горше теперь постигшая нас утрата.
Еще в первые дни войны Толстой писал:
«Разбить армии „Третьей империи“, с лица земли смести всех „наци“ с их варварски-кровавыми замыслами, дать нашей Родине мир, покой, вечную свободу, изобилие, всю возможность дальнейшего развития по пути высшей человеческой свободы – такая высокая и благородная задача должна быть выполнена нами, русскими, и всеми братскими народами нашего Союза».
И становится по-человечески грустно, что он не дожил до дня окончательной нашей победы, которая так близка.
1945