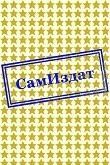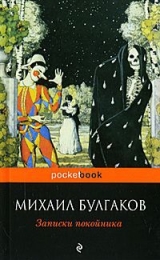
Текст книги "Записки покойника "
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Да, это поразительно! – заметил я. – Я все-таки не понимаю, как же это он выкрутился!
– В этом-то и есть чудо, – ответил Бомбардов, – оказывается, что под влиянием первого же впрыскивания саркома Герасима Николаевича начала рассасываться и рассосалась!
Я всплеснул руками.
– Скажите! – вскричал я. – Ведь этого никогда не бывает!
– Раз в тысячу лет бывает, – отозвался Бомбардов и продолжал: – Но погодите, это не всё. Осенью приехал Герасим Николаевич в новом костюме, поправившийся, загоревший – его парижские врачи, после Парижа, еще на океан послали. В чайном буфете прямо гроздьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рассказы про океан, Париж, альпийских врачей и прочее такое. Ну, пошел сезон как обычно, Герасим Николаевич играл, и пристойно играл, и тянулось так до марта... А в марте вдруг приходит Герасим Николаевич на репетицию «Леди Макбет» с палочкой. «Что такое?» – «Ничего, колет почему-то в пояснице». Ну, колет и колет. Поколет – перестанет. Однако же не перестает. Дальше – больше... синим светом – не помогает... Бессонница, спать на спине не может. Начал худеть на глазах. Пантопон. Не помогает! Ну, к доктору, конечно. И вообразите...
Бомбардов сделал умело паузу и такие глаза, что холод прошел у меня по спине...
– И вообразите... доктор посмотрел его, помял, помигал... Герасим Николаевич говорит ему: «Доктор, не тяните, я не баба, видел виды... говорите – она?» Она!! – рявкнул хрипло Бомбардов и залпом выпил стакан. – Саркома возобновилась! Бросилась в правую почку, начала пожирать Герасима Николаевича! Натурально – сенсация. Репетиции к черту, Герасима Николаевича – домой. Ну, на сей раз уж было легче. Теперь уж есть надежда. Опять в три дня паспорт, билет, в Альпы, к Кли. Тот встретил Герасима Николаевича, как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание – и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич ходит по веранде, а через три просится у Кли – нельзя ли ему в теннис поиграть! Что в лечебнице творится, уму непостижимо. Больные едут к Кли эшелонами! Рядом второй, как рассказывал Герасим Николаевич, корпус начали пристраивать. Кли, на что сдержанный иностранец, расцеловался с Герасимом Николаевичем троекратно и послал его, как и полагается, отдыхать, только на сей раз в Ниццу, потом в Париж, а потом в Сицилию.
И опять приехал осенью Герасим Николаевич – мы как раз вернулись из поездки в Донбасс – свежий, бодрый, здоровый, только костюм другой, в прошлую осень был шоколадный, а теперь серый в мелкую клетку. Дня три рассказывал о Сицилии и о том, как буржуа в рулетку играют в Монте-Карло. Говорит, что отвратительное зрелище. Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять Кли, потом на Мадейру, потом в заключение – Париж.
Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона, и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку. И, действительно, в позапрошлом году она сказалась только легкими болями в гайморовой полости и тотчас у Кли пропала.
Но теперь уж за Герасимом Николаевичем строжайшее и неослабное наблюдение, есть боли или нет, но уж в апреле его отправляют.
– Чудо! – сказал я, вздохнув почему-то.
Меж тем пир наш шел горой, как говорится. Затуманились головы от Напареули, пошла беседа и живее, и, главное, откровеннее. «Ты очень интересный, наблюдательный, злой человек, – думал я о Бомбардове, – и нравишься мне чрезвычайно, но ты хитер и скрытен, и таким сделала тебя твоя жизнь в театре...»
– Не будьте таким! – вдруг попросил я моего гостя. – Скажите мне, ведь сознаюсь вам – мне тяжело... Неужели моя пьеса так плоха?
– Ваша пьеса, – сказал Бомбардов, – хорошая пьеса. И точка.
– Почему же, почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете?.. Пьеса не понравилась им?
– Нет, – сказал Бомбардов твердым голосом, – наоборот. Все произошло именно потому, что она им понравилась. И понравилась чрезвычайно.
– Но Ипполит Павлович...
– Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу, – тихо, но веско, раздельно проговорил Бомбардов, и я уловил, так показалось мне, у него в глазах сочувствие.
– С ума можно сойти... – прошептал я.
– Нет, не надо сходить... Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего...
– Говорите! Говорите! – вскричал я и взялся за голову.
– Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику, – начал говорить Бомбардов, – отчего все и стряслось. Лишь только с нею познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. На Бахтина назначили Ипполита Павловича. Петрова задумали дать Валентину Конрадовичу [122].
– Какому... Вал... это, который...
– Ну да... он.
– Но позвольте! – даже не закричал, а заорал я. – Ведь...
– Ну да, ну да... – проговорил, очевидно, понимавший меня с полуслова Бомбардов, – Ипполиту Павловичу – шестьдесят один год, Валентину Конрадовичу – шестьдесят два года... Самому старшему вашему герою Бахтину сколько лет?
– Двадцать восемь!
– Вот, вот. Нуте-с, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас этого в театре за все пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись.
– На кого? На распределителя ролей?
– Нет. На автора.
Мне оставалось только выпучить глаза, что я и сделал, а Бомбардов продолжал:
– На автора. В самом деле – группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет – Герасиму Николаевичу.
– Я вовсе не претендую, чтобы мою пьесу играли основоположники! – заорал я. – Пусть ее играют молодые!
– Ишь ты как ловко! – воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. – Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин, Благосветлов, Стренковский выходят, кланяются – браво! Бис! Ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться – значит, мол, мы не нужны уже? Значит, нас уж, может, в богадельню? Хи, хи, хи! Ловко! Ловко!
– Все понятно! – стараясь кричать тоже сатанинским голосом, закричал я. – Все понятно!
– Что ж тут не понять! – отрезал Бомбардов. – Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что нужно невесту переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Павловна или Настасья Ивановна..
– Настасья Ивановна?!
– Вы не театральный человек, – с оскорбительной улыбкой отозвался Бомбардов, но за что оскорблял, не объяснил.
– Одно только скажите, – пылко заговорил я, – кого они хотели назначить на роль Анны?
– Натурально, Людмилу Сильвестровну Пряхину.
Тут почему-то бешенство овладело мною.
– Что-о? Что такое?! Людмилу Сильвестровну?! – Я вскочил из-за стола. – Да вы смеетесь!!
– А что такое? – с веселым любопытством спросил Бомбардов.
– Сколько ей лет?
– А вот этого, извините, никто не знает.
– Анне девятнадцать лет! Девятнадцать! Понимаете? Но это даже не самое главное. А главное то, что она не может играть [123]!
– Анну-то?
– Не Анну, а вообще ничего не может!
– Позвольте!
– Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и изодрал занавеску, играть ничего не может.
– Кот – болван, – наслаждаясь моим бешенством, отозвался Бомбардов, – у него ожирение сердца, миокардит и неврастения. Ведь он же целыми днями сидит на постели, людей не видит, ну, натурально, испугался.
– Кот – неврастеник, я согласен! – кричал я. – Но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услыхал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь. Он был шокирован! Вообще, что означала вся эта петрушка?
– Накладка вышла, – пояснил Бомбардов.
– Что значит это слово?
– Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибается, или занавес не вовремя закроют, или...
– Понял, понял...
– В данном случае наложили двое – и Августа Авдеевна и Настасья Ивановна. Первая, пуская вас к Ивану Васильевичу, не предупредила Настасью Ивановну о том, что вы будете. А вторая, перед тем как пускать Людмилу Сильвестровну на выход, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. Хотя, конечно, Августа Авдеевна меньше виновата – Настасья Ивановна за грибами ездила в магазин...
– Понятно, понятно, – говорил я, стараясь выдавить из себя мефистофельский смех, – все решительно понятно! Так вот, не может ваша Людмила Сильвестровна играть.
– Позвольте! Москвичи утверждают, что она играла прекрасно в свое время...
– Врут ваши москвичи! – вскричал я. – Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и кричит «бабье лето!», а глаза у нее беспокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Она не актриса!
– Однако! Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении...
– Не знаю этой теории! По-моему, теория ей не помогла!
– Вы, может быть, скажете, что и Иван Васильевич не актер?
– А, нет! Нет! Лишь только он показал, как Бахтин закололся, я ахнул: у него глаза мертвые сделались! Он упал на диван, и я увидел зарезавшегося. Сколько можно судить по этой краткой сцене, а судить можно, как можно великого певца узнать по одной фразе, спетой им, он величайшее явление на сцене! Я только решительно не могу понять, что он говорит по содержанию пьесы.
– Все мудро говорит!
– Кинжал!!
– Поймите, что лишь только вы сели и открыли тетрадь, он уже перестал слушать вас. Да, да. Он соображал о том, как распределить роли, как сделать так, чтобы разместить основоположников, как сделать так, чтобы они могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя... А вы выстрелы там какие-то читаете. Я служу в нашем театре десять лет, и мне говорили, что единственный раз выстрелили в нашем театре в тысяча девятьсот первом году, и то крайне неудачно. В пьесе этого... вот забыл... известный автор... ну, не важно... словом, двое нервных героев ругались между собой из-за наследства, ругались, ругались, пока один не хлопнул в другого из револьвера, и то мимо... Ну, пока шли простые репетиции, помощник изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалось дурно – она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал «убью тебя, негодяя!» и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр и три года не разговаривал с директорами, но Иван Васильевич остался тверд...
По мере того, как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.
– Вы скажите мне, скажите, – просил я глухим, слабым голосом, – зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится у них, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им? Зачем?
– Хорошенькое дело! Как зачем? Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех! С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр?
Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи «автор не имеет права» и какое-то слово «буде»... и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет, показалось, что запахло духами.
– Будь он проклят! – прохрипел я.
– Кто?!
– Будь он проклят! Гавриил Степанович!
– Орел! – воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленными глазами.
– И ведь какой тихий и все о душе говорит!..
– Заблуждение, бред, чепуха, отсутствие наблюдательности! – вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылала папироса, дым валил у него из ноздрей. – Орел, кондор [124]. Он на скале сидит, видит на сорок километров кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвивается и вдруг камнем падает вниз! Жалобный крик, хрипение... и вот уж он взвился в поднебесье, и жертва у него!
– Вы поэт, черт вас возьми! – хрипел я.
– А вы, – тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов, – злой человек! Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам, трудно вам придется...
Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о волчьей улыбке...
– Значит, – зевая, говорил я, – значит, пьеса моя не пойдет? Значит, все пропало?
Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе:
– Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо...
Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но, несмотря на то, что были противные объедки, в блюдечках груды окурков, я, среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-то последней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотом коне.
Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришел!
– Я новый, – кричал я, – я новый! Я неизбежный, я пришел!
Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, и выскакивала Людмила Сильвестровна, взвывала, махала кружевным платком.
– Не может она играть! – в злобном исступлении хрипел я.
– Но позвольте!.. Нельзя же...
– Попрошу не противоречить мне, – сурово говорил я, – вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозь нее.
– Однако!
– И никакая те... теория ничего не поможет [125]! А вот там маленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках... не нужна ему теория!
– Аргунин [126]... – глухо донеслось до меня из-за завесы дыма.
– Не бывает никаких теорий! – окончательно впадая в самонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тут совершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большое масляное пятно с прилипшим кружочком луку. Я растерянно оглянулся. Не было ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве стали выступать все предметы во всем своем уродстве.
Ночь была съедена, ночь ушла.
Глава XIV
ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОТВОРЦЫ
Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудный результат – пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь – пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно – но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.
Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в «Вестник», страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и Бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом» дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.
Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.
А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, в полутьме, роясь в пыльных журналах, и, помнится, видел чудесную картинку...
Триумфальная арка...
Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их – невозможно.
Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл – «третьим действием». Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом [127], поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?
Да я и не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого – почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?
Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.
Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву».
И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и натыкался на известия о моих знакомых.
Так, пятнадцатого декабря прочитал:
«Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу „Монмартрские ножи", из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру [128]».
Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие:
«Известный писатель Е. Агапёнов усиленно работает над комедией „Деверь" по заказу Театра Дружной Когорты [129]».
Двадцать второго было напечатано:
«Драматург Клинкер [130]в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно „Приступ"».
А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета – и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно лунной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И. С [131]. Драма. Кончает третий акт.
Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов.
Второго января я обиделся.
Было напечатано:
«Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема – сочинение современной пьесы для Независимого Театра».
Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем, – писала газета, – именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».
Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.
Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.
– Позвольте, – обиженно надувая губы, бормотал я, – как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?
Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.
Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:
«Телом в Калькутте, душою с вами» [132].
– Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, – шептал я, зевая, – а я как будто погребен.
Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.
Хромая, гладя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.
Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, – было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти – ничего не помню.
Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.
Громадный зал во дворце, и я будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.
Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.
И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы «Н. Т.» сверкали на нем.
Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой!). В конверте был лист опять-таки с золотыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:
«Дорогой Сергей Леонтьевич!
Немедленно в Театр! Завтра начинаю репетировать „Черный снег" в 12 часов дня.
Ваш Ф. Стриж».
Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.
В дверь тем временем стучали властно и весело.
– Да, – сказал я.
Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:
– Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.
И, встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок.
– Как же это могло случиться? – спросил я, наклоняясь к полу.
– Этого даже я не пойму, – ответил мне дорогой мой гость, – никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали – неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.
Конец I-й части
Часть вторая
Глава XV [133]
Серой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.
Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.
Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: «Волки и овцы – 2». Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов – молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.
В зале было душно, на улице уже давно был полный май.
Это был антракт на репетиции – актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.
Мысли мои вертелись только вокруг одного – вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.
Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время – даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.
В первом наичаще снился вариант – автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих – что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал...
– Ваня! – слабо доносилось со сцены. – Дай желтый!
В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.
Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:
– Гнобин! Давай!
Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», – думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.
– Гнобин! Стоп! – кричали на сцене. – Гнобин, дай назад!
Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка...» – думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал...»
Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.
«Романус идет [134], значит, сейчас произойдет что-то...» – думал я, заслоняясь рукой от лампы.
И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная бородка, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «Н. Т.».