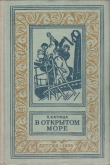Текст книги "Ни цветов ни венков"
Автор книги: Мейлис де Керангаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Майлис де Керангаль
Вступление Марии Липко

7 мая 1915 года у берегов Ирландии произошло одно из самых трагических событий Первой мировой войны. Немецкая подводная лодка торпедировала огромный пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Ливерпуль. Один за другим послышались два взрыва. Гордость британского судоходства, слывшая непотопляемой «Лузитания» затонула меньше чем за двадцать минут. Из почти двух тысяч пассажиров 1198 погибли. Вероломство Германии, осмелившейся напасть на мирное судно, вызвало бурю негодования. Гибель находившихся на борту лайнера граждан США отозвалась резкими протестами в Америке и стала поводом для вступления Штатов в войну. Между тем немецкое командование утверждало, что подлодка выпустила лишь одну торпеду, а второй и более мощный взрыв вызвали хранившиеся в трюме боеприпасы, перевозить которые гражданский корабль не имел права. Впоследствии тому нашлось немало доказательств. «Дело» «Лузитании» справедливо слывет грязной историей.
Французская писательница Майлис де Керангаль оставляет международные распри за скобками. Ее повесть «Ни цветов ни венков» вырастает из скупого свидетельства: «Местное население принимало активное участие в спасательных операциях». Трагедия «Лузитании» предоставляет ирландскому подростку Финбарру Пири шанс вырваться из опостылевшей родной деревушки… Автор воздерживается от моральной оценки своего героя, предоставляя судить о его поступках читателю.
Все персонажи повести вымышленные, за исключением известного американского миллионера и филантропа Альфреда Вандербилта, и в самом деле оказавшегося в списках погибших. По рассказам очевидцев, свой спасжилет он отдал женщине с младенцем. Его тело так и не было найдено.
Ни цветов ни венков
Повесть
Между Корком и Кинсейлом, в верховьях ледяного морского залива, стоит городок Белгули. Вокруг, одна другой плоше, теснятся чахлые деревеньки – грязь, да глина, да клочья раскисшей травы. Среди них, в стороне от дороги на Карригалин, ближе к морю, есть местечко Сугаан[1]1
Читатель без труда отыщет на карте современной Ирландии и Корк, и Кинсейл, и другие упомянутые в повести топонимы – за исключением Сугаана, по всей видимости, выдуманного автором. (Прим. перев.).
[Закрыть]. Там-то и появился на свет Финбарр Пири, упитанный здоровяк, от еле живой матери и хилого, грубого отца.
Финбарр стал десятым в выводке братьев, но живых на ту пору насчитывалось лишь двое, остальных же по очереди заворачивали в жесткие простыни и опускали в яму на кладбище при католической церкви в Белгули – глубокую, бездонную яму, глотавшую одного за другим, позже так и стали говорить: яма детей Пири. Отец хоронил их в тот же день. Сам выкапывал, сам же и засыпал. Закончив, собирал лишнюю землю, кивал священнику и плелся восвояси, толкая перед собой тачку, на которой лежал ком грязи величиной с тельце ребенка. Он знал одну хижину по дороге на Кинсейл, у самой дороги. Там сидит человек: целый день лепит торфяные брикеты – на топку, а затем сбывает их на рынке. Земля на кладбище торфянистая, уж отцу ли не знать, он везет ее на продажу. Человек из хижины сделает из нее несколько брикетов, которые будут медленно тлеть, распространяя вокруг сладковатый запах, уже давно ставший для отца Пири запахом самой смерти. Семь раз брал он в руки заступ – яма, беленький сверток, тачка, черная грязь – и тащился к хижине. Семь раз возвращался, зажав в кулаке монету. Семь раз спускал все до пенни, заливал жажду. Пить, пить. Что тут скажешь. Если в Белгули и на многие мили вокруг, до Югала, до Дангарвана, до самого Уотерфорда – на всем юге Ирландии – царит такая нищета, что, говорят, ворон, и тех не заманишь, небо как вымерло – можете себе представить. Итак, в Сугаане дома кишели чумазыми заморышами, которых снедали вши, порок, голод. Финбарр родился в 1899-м, седьмого мая – возьмем на заметку, этим объясняется очень многое, чуть ли не вся жизнь десятого Пири. Весна в самом разгаре. Дома уже начали подсыхать, снова заскрипела под ногами солома, грязь превратилась в тонкую серую корку, ушли в землю дожди. Малютка не трясся от холода в отсыревших пеленках, не мок на соломенном тюфяке, хлюпающем, чуть повернешься. Ему было тепло. Он выжил – да еще как.
Финбарр набирался уму-разуму в шайке таких же, как он, мальчишек. Ставить силки, тащить все, что плохо лежит, пускать в ход кулаки – не из хлюпиков, молчаливый, он был крупным для своей семьи, сильным, как грузчик, и вскоре уже сам задирал кого хочешь. Ему не было и шести, а он уже рыскал повсюду с ватагой сугаанской детворы. Отродье, сплевывали при встрече с ними. Но отродья все прибывало: чем больше их мерло, тем больше их шастало. Откуда только они брались. Столько детей. Повсюду. Они появлялись по двое, по трое, кучками. Вдруг раздвигали кусты и вырастали на вершине откоса, у дороги. Глазели на упряжки, молча рассматривали пассажиров, таращились на шелковые шляпки, кожаные ботинки. По правде говоря, они наводили страх, эти дети подлесков, – коротко стриженные, в корках запекшейся крови, совсем еще ребятишки – надо думать. Дамы из Кинсейла, Корка и Квинстауна очень на это сетовали. Не детские у них взгляды, шептали они, усаживаясь вечером за стол. Они вздрагивали, озабоченно морщили лоб, но затем гнали прочь мысли о сугаанских детях – суп дымился, скатерть похрустывала.
У Финбарра было два брата, Фленн и Шон, старшие Пири. Что эти двое хотят уехать, знали все. Поговаривали, в Квинстауне есть работа. Там останавливались огромные атлантические пароходы, державшие путь в Нью-Йорк, к причалам Эллис-Айленда, где с грохотом разверзались трюмы и тысячами сходили на берег уроженцы Ирландии.
И вот однажды Финбарр увидел, как братья топчутся перед оградой, о чем-то вполголоса переговариваясь. Он не спускал с них глаз, а они какой-то новой походкой вдруг зашагали через двор и в последний раз толкнули дверь дома Пири. Дальнейшее было ему известно. Он знал, что там, в полумраке, Шон и Фленн торопливо прощаются с матерью, склоняются над ее восковым лбом, над смутно белеющей ночной сорочкой, вдыхая тот кисловатый душок, какой всегда исходит от лежачих больных, и тотчас отходят, чтобы обнять разинувшего рот отца. Еще издалека он заметил, что братья вышли и направляются в его сторону, вот они уже бегло машут ему рукой и, не оглядываясь, устремляются по дороге на Квинстаун. И такую решимость выражали их спины, что Финбарр, не отрываясь, глядел им вслед, пока братья, два темных пятна, не скрылись за поворотом. Вот осталась позади лесная развилка, и они со всей дури швыряют в небо картузы. Хоть зажмурься – он так и видит, как старшие Пири чуть не кубарем скатываются с косогора и на радостях подвывают, как дикари. А малыш – ему нет и десяти – остается сидеть на ограде. Он недотепа, дерьмо на палочке, мелочь сопливая. Сугаанские мальчишки освистят его как пить дать. Эй, Финн, куда это ты подевал своих братьев? Ноги в руки, а тебя позабыли? Олух же ты, Финн! Он поворачивает голову и долго смотрит на дом. Пропади он пропадом. Он тоже охотно дал бы отсюда деру. А тут еще и отец подошел. Штаны на нем полощутся, как пустые, веки гноятся. Что ж, Финбарр, теперь ты последний из Пири, говорит он, сузив глаза и поглаживая подбородок.
* * *
Завтра Финбарру исполняется шестнадцать. Он единственный сын Пири, старший из детей на деревне. Он один, как камень. По Сугаану шагает он теперь размашисто, попутно раздавая мелкоте плюхи, чтоб не вертелась под ногами. Лапищи у него здоровенные, как вальки, пальцы на сгибах красные, вокруг ногтей заусенцы, которые он без конца скусывает. Груда мышц, которая прет напролом, непробиваемое, как глухая стена, тулово, мощная, плотная шея выставлена вперед – нет ли чем поживиться, – зыркают исподлобья голубые глаза, на лбу ссадины. Прекрати, кричат ему, остановись, но его ничто не остановит. На его счет пожимают плечами. Выродок, говорят про него, дуболом, бездарь. На него посматривают с недоверием. И не зря. Ведь в его походке нет той унылой покорности, которая на юге Ирландии спутывает всем ноги со времен Великого голода. Его точно распирает взявшаяся откуда-то извне природная сила, густой живительный сок, кровь пузырится, как взбитая венчиком, то ли кураж в нем говорит – а нищета непролазная, мать плюет кровью в истертых до дыр простынях, отец роет ямы на кладбище при католической церкви в Белгули, от старших Пири ни слуху ни духу, хоть бы весточку передали с земляком, ирландцев-то в Нью-Йорке бог знает сколько, а Финбарр все же смеется, пьет, пускает в ход кулаки, – то ли злость.
Прошлым вечером, досыта накачавшись пивом, парень, как был в одежде, растянулся на кровати. Дело шло к полуночи. Он подсунул под голову руку, устроился на ней повольготнее, облизнул разбухшим языком губы. По телу разливалась приятная тяжесть, ему было тепло, ему было хорошо. Сон все не шел. Глаза понемногу привыкли к темноте и уже различали гуляющие по стенам тени. Он принялся считать, сколько кружек выдул за вечер. Но ворочаться меньше не стал. Все эта девка – честная давалка из Белгули, труженица кожевенного завода, с которой гуляли, как заступали на вахту, мысль о ее налитых грудях с буравчиками сосков, теплых ляжках и мясистых бедрах с мыском блестящих черных волос мешала ему улечься поудобнее. Какой уж там сон. Он скорчил гримасу. Мутное бесчувствие, накатывавшее мягкими волнами, вдруг отхлынуло, и в голове наступила небывалая ясность. Финбарр подумал о своей жизни. Она была – вот она, дикая кобылка, которую тихонечко подвели к нему за недоуздок, он мог бы погладить ее рукой. Может, и верно, что он дуболом, – так смутно, загадочно, путано казалось ему то, что творилось у него внутри, – и все же, к своему удивлению, он был способен об этом задуматься. Финбарр впервые осознал свою отдельность от мира, и этот мир завертелся перед ним сияющим шаром, приятно горяча лоб. Финн откинул одеяло, откинул мысли о пиве, о куреве, о том, не наведаться ли ему в паб, раз уж не спится, а то и подкараулить какую кралю за фабрикой, откинул мысли о девках из Белгули. Отбросил все это, и перед ним осталось голое будущее, уходящее за горизонт. Завтра тебе стукнет шестнадцать, пора уезжать. Теперь твой черед. Весь Сугаан это знает. Но кому-кому, а Финбарру, полагали они, хватит и Сугаана, а Сугаан – это ноль, дырка от бублика. Парень ворочался, не мог уснуть.
* * *
Когда «Лузитания» показалась у берегов Кинсейла, Финбарр шагал поверху в прибрежных скалах. Он решил, что проведет этот день в одиночестве, прошвырнется к морю, а чтобы не так далеко идти, срежет через лес. На него это было непохоже: Финбарр по целым неделям торчал в Сугаане, в лучшем случае выбирался в Белгули, да и то лишь в базарные дни. Он не стал говорить, куда идет. Дурак, чудило, припечатала его ребятня – в Сугаане сознательное одиночество было заказано: он предал товарищей, выступил против них, пренебрег тесным соседством ртов, гениталий и ног, – с гоготом, с криками за ним бежали до первого поворота, затем отстали, повернули назад.
Земля под ногами была довольно упругая, шагалось легко. Вскоре начался лес, и Финбарр стал забирать к морю. Он валил напролом: сметал все, что вставало у него на пути, отталкивал мокрые папоротники, свисающие на тропинку, топтал ежевичные петли, перешагивал через сломанные кусты. Где-то неподалеку у него были расставлены силки, – он без труда ориентировался в подлеске, припоминал расположение деревьев, следы от вырезанного мха, форму камней, узнавал землю, полого бегущую под уклон, – но силки он сейчас проверять не станет. Некогда. Он шел так уверенно, будто знал, что именно должен сделать, будто наметил уже план действий. Когда он вышел из леса, вокруг просветлело, в воздухе сияла мельчайшая водяная пыль, небо стояло высокое. Его точно обтянули голубым муслином, таким легким и невесомым, что недолго поверить и в покров Богородицы, распростертый над миром чудотворный покров, в который парень по вечерам порой направлял струю – захлебнитесь, спасители.
Вокруг зеленела равнина, а впереди лежало будничное море. Финбарр достал из кармана жестянку: на крышке девица в сиреневом капоре, прикрыв веки, подносит ко рту печенье. Взял табаку для самокрутки и опустился на траву. Он все не мог прийти в себя, – один здесь, у моря, курит, решает поставить крест на Сугаане – примерно в это самое время борт «Лузитании» пробила торпеда, Финбарр даже не оторвался от жестянки, зажатой между колен, звук был слишком слабый, рвануло глухо – точно где-то хлопнула дверь, скажут потом те, кто выжил, – да и мысли у него были заняты другим: он все твердил про себя, что довольно, пора ему делать ноги, все в таком духе, слова вертелись у него в голове, не находя выхода, а девица в сиреневом капоре на крышке жестянки все никак не могла надкусить печенье, и он корябал ей ножичком руки и думал о братьях, о Шоне и Фленне, – в первую ночь они тряслись от страха в какой-то конюшне в предместье Квинстауна, чтобы на рассвете явиться в портовые доки; но в порту на них никто не смотрит, с ними не заговаривают; они топчутся, вытянув шеи, зажав картузы в заложенных за спину руках; приходят парни из синдиката и пальцем указывают на сегодняшних счастливцев, всего-то несколько минут, после чего оставшиеся не у дел расходятся или двигают в паб; и так день за днем, неделями, с папиросой в зубах, заломив козырьки, Шон и Фленн снова и снова пристраиваются в очередь, и вот однажды – это должно случиться – их назначают, их выбирают; завтра тоже, и на следующий день; и вот они уже грузчики в Квинстауне и живут, как собаки, чтобы скопить деньжат на билет третьего класса, а значит, на Северную Атлантику и Эльдорадо; продолжение всем известно – ну а мне, думал он, придется уезжать одному. Его грубые башмаки продавили в земле под травой жирные вмятины. Наконец он откинулся назад. Над ним простиралось пустынное, до тоски ясное небо, хоть бы чертова птица взбаламутила его, что ли. Голое, как коленка. Сугаан. Могила отпрысков Пири. Мышиная нора. Дыра захолустная. В сущности, он терпеть не мог этот табак, отдающий затхлой соломой, – курево бедных.
Вдруг над утесом, едва не чиркая по нему крылом, заметались с полоумными криками чайки, и Финбарр рывком сел. Перед глазами поплыла черная пелена – резко поднялся, от выкуренной лежа папиросы закружилась голова, – а когда она спала, вдалеке показался дымок и поплыл в безнадежно синевшее небо, где только что маячило жалкое будущее сугаанского недоросля. Птицы рассеялись, хлопая крыльями. На юге над четырехтрубным лайнером ширилось бледное облачко. Финбарр узнал «Лузитанию», ее отплытие из Нью-Йорка наделало шуму, и судно уже примелькалось в заголовках газет – их в баре всегда валялось две-три штуки. Паренек поднялся, уронив на траву девчонку в сиреневом капоре, с глупо раскрытыми губками и исчирканными руками. Подошел к обрыву и, сунув руки в карманы, посмотрел вдаль. Трубы лайнера накренились назад, а вокруг, по-видимому, плавали черные обломки – кажется, на борту все застыли, а на самом деле все мечутся с перекошенными лицами, отчаянно жестикулируют, и всё заглушают крики ужаса. Было установлено, что «Лузитания» затонула за двадцать минут.
И тут Финн вспомнил, что в излучине реки, там, где лес становится похож на мангровые заросли, стоит лодка. Он знал, что найдутся и другие охотники, и заспешил вверх по косогору. Пригревало солнце, и Финбарр щурился от белого как мел света, заливающего луга, низкие каменные ограды, редкие дома, теряющиеся в густой зелени. А ведь лодка, вдруг пришло ему в голову, всю зиму простояла в соленой речной воде, она небось прогнила, ее облюбовали сорняки, крепко опутали черные лианы. А на дно наверняка нападала листва и слежалась в золотисто-коричневый перегной, пухлый и плотный, как перина архиепископа. Ее не сразу и сдвинешь с места. Он нащупал в кармане ножичек и припустил дальше. Вот и опушка; чуть погодя Финбарр уже бежал по лесу, по знакомой широкой тропе. Где-то неподалеку должна была находиться хижина бондаря. Он ни разу еще не подбирался так близко, но хозяина хижины – вернее, юркую его спину – мельком видел, когда наведывался в эти края. Конечно, бондарь ни разу не тронул его силков, но этот молчаливый сговор, этот негласный раздел лесных угодий не столько обнадеживал, сколько возбуждал любопытство. Бондарь стоял к нему спиной и возился с чем-то похожим на верши. Столом ему служил поставленный на попа чурбан. Лодку ищешь? Финн встал как вкопанный и в тон ему уверенно, четко ответил – это Финн-то, в принципе не способный выражаться по-человечески, он вечно цедил сквозь зубы, а нет, так орал, – да, лодку. Бондарь продолжал заниматься своим делом, но чем именно, Финбарру было не видно. Эхом отдавался металлический лязг. Наконец бондарь выпрямился и повернулся к нему. Финбарр знал, что он стар, и представить себе не мог, что тот окажется таким рослым и кряжистым, его поразила квадратная голова, ловко посаженная между плечами, седая грива до пояса, поразила исходившая от старика степенная мощь. Кожа у него была плотная, бледная, как у людей, всю жизнь проживших под пологом леса, а губы до того иссохшие, что в уголках образовались серые корочки. Веки над линялыми глазами состояли сплошь из сборок и складок, точно там росли листья, исчерченные прожилками. Ни слова не говоря, старик зашагал в лес, и его крепкая фигура, еще довольно проворная, замелькала между деревьями. Наконец он остановился и подозвал Финбарра к себе, а когда парень подошел, оказавшись ему по плечо, старик махнул в сторону просеки, чуть заметно светлеющей в глубине, и тотчас пропал, скрылся в зарослях.
Финбарр углубился в чащу. Он порядком струхнул и старался теперь сосредоточиться на дороге. Тропинка была такая узкая, что папоротники сплетались на высоте человеческого роста. Вечереющий лес наполнялся кваканьем, зловещими кликами ночных птиц, шепотливой возней в кустах. Финбарр то и дело вздрагивал, раздвигая перед собой листья. Вскоре под ногами зачавкало, к подошвам начала липнуть грязь. Папоротники расступились и вокруг показались лужи, чернеющие по мере того, как догорал день, они растекались все шире и шире, пока не сливались в целые болотца, извилистые и топкие. Паренек выломал себе палку и поминутно останавливался, нащупывая дорогу. Он боялся упасть в эту зловонную жижу, в которой толклось полудохлое комарье и кишели черви, – засосет с головой, и песенка спета.
Тропинка исчезла, лес сделался реже. Река была близко. В лицо ему пахнуло свежестью. Вскоре в просветах между ветвями замелькала вода, тихо колеблемая течением. На берегу вверх килем лежала лодка. Чистая, выскобленная, сухая – но Финбарр не стал ломать голову над этими чудесами, так ново все было в нем со вчерашней ночи, так дико казалось, что в день своего шестнадцатилетия он бродит тут по лесу в темноте, пока дружки из Сугаана и Белгули ищут его, чтобы пойти опрокинуть пинту-другую, они устроили, чтобы именинник мог навестить ту шлюшку с завода, – рывком он перевернул лодку и обнаружил под ней два весла и пару уключин, конечно же, смазанных, их вкрутить, и готово. Он побросал все в лодку и потащил ее к воде. И только тут его кольнуло сомнение. Он никогда еще не спускался на воду на ночь глядя, он не умеет плавать. Река неторопливо струилась вдоль берегов. Уж не спятил ли я, подумал Финн и улыбнулся. Вчерашнее возбуждение не давало ему покоя, обдавало жаром, и от этого путались мысли и чесались руки. Финбарр Пири запрыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и, раздвигая веслами ветви и колючие плети, медленно выплыл из мангровых зарослей.
* * *
Когда, мокрый до нитки, Финбарр наконец-то вышел на пристань, дома все стояли настежь, повсюду горели наддверные фонари, люди высыпали на улицу и сбились в группки. Никогда еще по корявым улочкам Квинстауна в столь поздний час не мчалось столько лошадей, волоча кэбы, коляски, скрипучие колымаги. Новость о том, что «Лузитанию» протаранила торпеда, разнеслась, как по дорожке из пороха. К месту крушения немедленно выслали крейсер «Юнона», буксирные суда «Стормкок» и «Вэрриор», были задействованы все траулеры, стоявшие в порту на причале. Горечь отступила перед возбуждением. Весь Квинстаун слился в едином порыве, все рвались в бой. Реквизировали все комнаты в гостиницах, крытый рынок, давно уж не действующий, превратили в мертвецкую. Все кричали, командовали, распоряжались. С чувством поддерживали за плечи немногих выживших, мгновенно сделавшихся героями. Растирали их сухими полотенцами. Поили грогом с горячим вином. Расспрашивали. Молчали. Рассказывали все заново. Кляли Германию и торпедные подлодки.
Финбарр вошел в первый же паб и стал проталкиваться между чужими спинами. Теснота была страшная, посетители крепко пахли взопревшим исподним и во весь голос толковали о числе жертв и репатриации выживших. Среди них выделялся один молоденький, в узком полосатом пиджаке, на поясе у него сверкала пряжка в виде подковы. Он представился: репортер, прибыл освещать кораблекрушение. И обронил, как бы в воздух, что в Квинстаун направляется представитель Кунарда, – с пакостной дрожью в голосе, событье-то из ряда вон. Другие качали головами. О мертвяках пусть подумают, заметил, побалтывая кувшином, малый за стойкой, с угреватой физиономией, гнилыми зубами и налитыми кровью глазами, сколько их теперь плавает между мысом Кинсейла и Коркским заливом, поди всех разыщи. Финбарр прислушался, глядя в пол, публика в пабе взбудораженно переминалась. Что ж, он готов, хорошо, что додумался спрятать лодку за пирсом; вот он и повзрослел, дождутся его теперь в Сугаане, как же. Попыхивая желтым дымом, он краем зрения заметил чемодан и две ножки в ботинках, безучастно поставленные на перекладину стула. Он поднял глаза: боком к нему, неестественно прямо держа спину, сидела девица в сером пальто и сиреневой шляпке. Перед ней стояла полная до краев кружка. Явно заблудшая, а в пабы, видно, не ходит и пиво не жалует. И приехала ради кого-то с «Лузитании», это тоже как пить дать. Совсем ошалела в этом бедламе. Ее толкали, она вяло отодвигалась и снова занимала прежнее положение, задевали шляпку – равнодушно оправляла ее и роняла руку. Никому не было до нее дела. Финбарр уже не раз наклонялся над стойкой, чтобы разглядеть ее мордашку, но отсюда было видно только пряди волос, падающие на чересчур бледные виски. Одно пиво, второе, третье, Финбарр пил, глотки вокруг разорялись, а девица и не думала поворачивать головы.
Вслед за всеми Финбарр вышел на узкую уличку. Ночь была яркая, небо чернильно-синее, в вышине дрожали звезды. Молодчики с репортером во главе устремились в порт, гомоня так, что чертям тошно. Вдруг – и не слышно было даже семенящих шажков за спиной – Финбарра обогнала девица из бара. Шляпка на ней подпрыгивала, чемодан колотил по ногам, она неуклюже спотыкалась на мостовой – неловкая, жалкая, видать, одурела от горя. Чуть погодя раздался ее голос: она просила тех впереди ей помочь. Голос дрожит, девчонка явно кого-то ищет. Мужчину, своего мужчину, ясное дело, бедняжка, у нее есть деньги, она заплатит. Нужно просто вернуться туда. Где затонул лайнер. Луна полная, в море светло как днем. Он был на борту «Лузитании». Молодчики молча переглянулись. Сунули руки в карманы, скребут носком землю. Та еще компания – юнец в поясе, с жадно отвисшей губой, шкодливый пацан в кепке, стоит, лыбится, толстяк-забулдыга с короткими ручками – разглядывают ее, гнусно подталкивают друг друга локтем: совсем рехнулась девица, да ни за какие тыщи. Придется подождать до завтра, мисс. Ничего не поделаешь. У репортера ходит туда-сюда кадык, глаза обшаривают ей грудь, оценивают всю ее чудную фигурку. Тощая, да и жалкая. Подкова на поясе поблескивает в темноте. Повремените до завтра, мисс. Они с гоготом ушли. И тогда девчонка повернулась к Финбарру. Уж такая, наверно, образина, думал он, раз те парни ее даже не поприжали, и то правда, тревога часто отталкивает, – что аж сердце захолонуло, когда увидел ее лицо.
Подошла к нему так близко – еще немного, и двинула бы ему своим чемоданчиком, не отступи он назад, схватила за руку – а она сильная, удивился он, такая тонкая, костлявая лапка, ручонка, он даже плечо потер, больно, – ты, да, ты, помоги мне. Жутковатое белое лицо сердечком – ну и черепушка, это же надо, умора, острый подбородок, бледная, как молоко, вылитая сова-сипуха – смоляные глаза блестят, волосы растрепаны. Еще чистенькая, хотя платье уже не первой свежести, видно, с дороги – как станет известно, Теодора Доун выехала из Корка с чемоданчиком из папье-маше, который держала на коленях, чтобы никого не обеспокоить, и весь путь, прильнув лбом к оконному стеклу, беззвучно шевелила губами, другие пассажиры думали, что она молится. В шляпке, без перчаток, ломает пальцы. У меня есть лодка, сказал Финбарр. Они двинулись к насыпи. Она шла, вся подавшись вперед, опережая его на полшага, а он рассматривал ее шею, спутавшиеся пряди, бьющиеся жилки, грошовые серьги в ушах, дрожащий выступ подбородка. Не то чтобы она была хороша собой – она была жуткая, даже страх пробирал, – но девиц, как она, он прежде не видел. Мещаночка из городских, нервная, пожалуй, швея. Ленты, сборчатый корсаж, пристяжные воротнички. Они вышли на пирс. По огромным лужам бежала волнистая рябь, но девчонка и бровью не повела, ступив в воду. Финбарр первым оказался по другую сторону дамбы, где в темноте громоздились обломки скал. Ни отблеска портовых огней не лежало на этих сырых, обомшелых уступах, там и сям щетинившихся острыми гребнями, – он чувствовал их под ногами. Шаги за спиной стихли. Он обернулся: присев на корточки на краю пирса, она клацнула замками, открыла чемоданчик, достала фонарь, хлопнула крышкой – каждое движение еще резче очерчивало угловатый силуэт – и разом выпрямилась, высокая, черная тень в свете фонаря, широкий подол открывал костлявые лодыжки. Она посветила ему в лицо и залилась смехом, когда он прикрылся рукой. Смех звонкий, язвительный, девчонка дурачится. Подсоби-ка мне. Финбарр подошел и подал ей руку – впервые в жизни он помогает девчонке, – но она вдруг повалилась на него всем телом – легкая, как пушинка, пахнет стиркой, – он обомлел, но подхватил ее. Она все смеялась, и резцы ее вспыхивали, как светлячки в кладбищенском чертополохе. Она знала, что ему страшно. Страшно тебе? Финбарр не ответил – да и что тут ответишь, его колотило от страха и в то же время властно тянуло вперед, – и в свете фонаря зашагал к своей посудине. В этом месте море намыло посреди скал плоский, чуть не вровень с водой, бережок и теперь перебирало мелкую гальку. Финбарр стал толкать лодку: заскрежетало, посыпалось, девчонка шла следом. Ухватившись за борт, она все глубже входила в ледяную воду, лишь повыше выбирала мокрый подол – он мельком глянул: ляжки белые, тощие, под чулками остро выпирают коленки, – наконец влезла в лодку, забросив сперва чемодан и фонарь. Сели друг против друга, Финбарр – на весла, спиной к берегу. Когда мол, наконец, остался позади, тьму снова прорезали лучи городских огней, и страшное лицо девчонки осветилось. Она раскинула руки и держалась теперь за края лодки, как распятая, – из-под шляпки лезут-топорщатся пряди, пальто застегнуто под горло, ноги под набрякшей юбкой дрожат.
Они удалялись от берега. Море было тихое, лодку не качало, и Финбарр ритмично работал веслами. Он неотрывно смотрел на воду, точно прикидывая, где оттолкнуться в следующий раз. Только размеренность движений да плеск весел, ухающих в воду, убеждали его, что все это наяву, и он цеплялся за весла что есть мочи, стараясь грести в такт биению сердца. Он знал, что неспособен обдумать происходящее, – едва ли он сознавал, что там, на выходе из пивной, почувствовал в девчонке решимость, не уступающую его собственной, едва ли видел в ней путь к спасению, но хоть лодка и уносила его все дальше от берега по водам, поглотившим огромный корабль, он чувствовал, что силы в нем медленно прибывают: чем темнее становилось вокруг, тем больше он расправлял плечи. Иногда он воровато взглядывал на нее – манил свет: светлое пальто, светлая шляпка, светлая кожа, – и видел перед собой все, что было ему незнакомо, смутный континент, другой мир, сияющий шар, который – только протяни руку – крутился перед ним накануне, и вот все это собралось в лодке: посреди моря, глухой ночью – девчонка, спокойная, в шляпке, руки раскинуты, грудь выставлена вперед, спина прямая – и куда девалась давешняя бедняжка.
Первый утопленник ткнулся им в борт через несколько часов, Финбарр как раз сворачивал для девчонки папиросу, зажав весла под мышками и не решаясь глянуть даже ей на руки, лежащие на коленях, – девчонка вдруг ни с того ни с сего объявила, покурить бы, у тебя не найдется? И Финбарр кивнул, хотя меньше всего ему хотелось сбиваться с ритма и остаться с ней с глазу на глаз в пугающей тишине. Удар тела отвлек их, и Финбарр встрепенулся. Они вскочили, на борту поднялась возня, лодку качнуло, когда оба свесились посмотреть. Показалась голова, поддерживаемая на плаву спасжилетом, неясно белеющим в темной воде. Без лишних слов девчонка потянулась за фонарем – опять заходила ходуном лодка, оба вскрикнули, Финбарр перешел на другой борт, – и посветила на утопленника, лицо посинело, кожа туго обтягивала кости, точно разом съежилась, – это был мужчина лет пятидесяти, в рединготе, при галстуке, потом обнаружится, что звали его Эдвард Б. Бехинсейл и что из Нью-Йорка ему пришлось уехать из-за какой-то земельной аферы, обогатившей его, но сделавшей персоной нон-грата, – нет, не он, тускло сказала девчонка, тяжело опустилась на сиденье и принялась нашаривать на дне лодки желтую папироску, которую скрутил ей паренек. Чего делаем-то, спросил Финбарр, берем? Девчонка покачала головой. Только лишняя тяжесть, надо еще поискать, я заплачу, у меня есть деньги. Финбарр замялся. Спокойный голос плохо вязался с одержимостью во взгляде, и в эту минуту он не поручился бы, что она не чокнутая. Он насторожился – эта смутная, сумбурная ночь так внезапно сгустилась, а он айда в нее без оглядки, точно шкуру спасает, – и ответил, как сдачи дал. Тут я гребу, мы берем его и отвозим на берег. Он говорил спокойно, ей в тон. Ишь, отрезал, изумилась девчонка, – еще пацан совсем, она думала, будет делать, что скажут.
Он отшвырнул весла и перегнулся за борт, чтобы ухватить тело. Держи меня, рявкнул он девчонке, держи меня за пояс. Она подползла к нему на коленях и уцепилась за талию. Он запустил руки по локоть в воду и продел их под мышками утопленника. Попытался было втащить его, тело показалось по пояс, но мужчина был слишком тяжелый, а девчонка позади слишком легонькая, чтобы служить противовесом. Он почувствовал, что его тянет в море, вот лицо уже почти коснулось воды, голова поравнялась с головой покойника. Волны бились о борт, но сейчас от них было мало проку. Он пыхтел, в горле пересохло, девчонка держала его – и он снова поразился ее силе. Выпустив труп – театральное «плюх!» и мгновенная вялость, сопутствующая неудаче, – он тут же полетел назад в лодку, угодил затылком в девичий живот – ее тоже отбросило на дно, – ощутил лобковую кость, камнем проступающую сквозь юбки и габардиновое пальтишко, и остался лежать, глядя в небо, в аккурат под луной, золотой, огромной и такой близкой, что глаз различал на ней тени рельефа, горы, озера, пустыни.